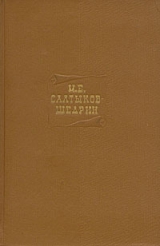
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
Один из признаков падения «умственного уровня» в русском обществе середины 70-х годов Салтыков усмотрел на этот раз, как это ни странно с первого взгляда, в творчестве композиторов «Могучей кучки», собственно, в музыке ее крупнейшего представителя Мусоргского, и в программных выступлениях идеолога и пропагандиста нового направления – Стасова. Первый персонифицирован в гротескном образе композитора Василия Ивановича, второй – в уже знакомом читателю по «Дневнику провинциала в Петербурге» образе «критика-реформатора» с заимствованной у Гоголя фамилией, Неуважай-Корыто. Оба сатирических героя увлечены идеей создания ультрареалистической, предметно-изобразительной музыки. Один сочиняет, а другой комментирует музыкальные произведения на такие темы, как «Торжество начальника отделения департамента полиции исполнительной по поводу получения чина статского советника»и «Извозчик, в темную ночь отыскивающий потерянный кнут».
Современники были единодушны, относя насмешки Салтыкова к названным деятелям новой русской музыкальной школы. Да и сами они, во всяком случае Стасов, угадывали, о ком идет речь [139]139
Имея в виду статьи Салтыкова о передвижниках, Стасов писал в 1888 г., то есть еще при жизни сатирика: «…Салтыков – первыйиз крупных русских писателей, с истинной симпатией отнесся к новой русской художественной школе <…>. Но Салтыкова не хватило на понимание новой музыкальной русской школы, и он над нею только весело и забавно глумился. Всего более он обрушился, со своим комизмом, на Мусоргского, который в своих стремлениях за реализмом сочиняет пьесу на тот сюжет, что «извощик, в темную ночь, ищет своего потерянного кнута» («Северный вестник», 1888, № 10, с. 192). Другое, более раннее, упоминание Стасовым в печати запавшего ему в память названия «бессмертной буффонады» Василия Ивановича, дало Д. О. Заславскому повод утверждать, что «Мусоргский собирался ответить на сатиру Щедрина музыкальной сатирой» («Щедрин, Мусоргский, Стасов». – «Красная новь», 1940, № 11–12, с. 265). Речь идет о пьесе для голоса с фортепьяно «Крапивная гора, или Рак». Сюжет пьесы был разработан и предложен Мусоргскому Стасовым. «В начале, – писал Стасов об этом замысле в биографическом очерке о Мусоргском 1881 г. – должен был быть представлен сам Рак <муз. критик Ларош>, как он, в темную непроглядную ночь, вползает на Крапивную гору, заросшую бурьяном, и оттуда сзывает все свое ретроградное войско <…>. Между ними присутствуют многие русские писаки и писатели,всю жизнь осыпавшие Мусоргского грубо-невежественными сатирами и насмешками (напр., что ему бы надо сочинить, как извозчик трагически ищет в темноте потерянный кнут…)»(«Вестник Европы», 1881, №№ 5 и 6; цит. по изд.: В. В. Стасов. Собр. соч., т. III. СПб., 1894, с. 792). Намек на Салтыкова, в подчеркнутых нами словах, очевиден. И все же замысел, понравившийся Мусоргскому и частично осуществленный им, не мог иметь в виду именно этого конкретного выступления Салтыкова.В памяти Стасова произошло смешение хронологии фактов. Сюжет музыкальной сатиры на Лароша и других противников «Могучей кучки» был предложен Мусоргскому
[Закрыть]. Однако, как всегда у Салтыкова, его сатирические образы не могли быть и не стали только зашифровкой конкретных явлений и лиц, хотя намеки на эти явления и лица очевидны.
В своих стремлениях и идеалах «Могучая кучка» отражала демократическое движение шестидесятничества и была близка тому направлению русской общественной мысли, к которому принадлежал сам Салтыков. Чтобы понять смысл его полемического выступления, оно должно быть увидено в исторической перспективе.
Враждебное, критическое или недоуменное отношение к эстетическим принципам новой русской музыкальной школы было проявлено многими передовыми современниками. Достаточно назвать в этой связи имена Тургенева и Чайковского. Памфлетное выступление Салтыкова не было явлением исключительным. Подлинное понимание и признание пришли к «Могучей кучке» значительно позже. Подобно большинству людей своего поколения 40-х годов, Салтыков музыкально был воспитан на итальянской и французской опере того времени – на героической опере Россини и Беллини, Мейербера и молодого Верди. «Вильгельм Телль», «Норма», «Гугеноты», «Пророк», «Пуритане», «Жидовка» – вот оперы, которые упоминаются в произведениях Салтыкова, в частности, и прежде всего в автобиографических местах его сочинений. Представления этих опер в Петербурге силами первоклассных итальянских певцов пользовались огромным успехом в кругах демократической интеллигенции столицы, служили для нее, по выражению Кропоткина, «своего рода форумом для демонстрации» оппозиционных настроений [140]140
П. А. Кропоткин. Записки революционера, М., «Мысль», 1966, с. 139.
[Закрыть]. Музыкальнойже основой итальянской и «большой» французской оперы была мелодия.В ней, в первую очередь, и находил эмоциональное выражение тот пафос освободительной борьбы, который несли в себе эти произведения и который так высоко ценился Салтыковым.
В новаторстве «Могучей кучки», прежде всего в исканиях Мусоргского, Салтыков увидел, с одной стороны, умаление роли и значения мелодии, за счет возвышения речитатива и внешне-изобразительных средств музыкального языка, а с другой стороны, уход от подвластных музыке тем, в частности, героической темы, в сферу задач и сюжетов чуждых, на первый взгляд, искусству звуков и «сниженных» (изображение быта, жанра, предметного мира и т. д.). Своего рода сатирическим тезисомвыступления Салтыкова являются слова «критика-реформатора» Неуважай-Корыто: «Мы обязаны изображать в звуковых сочетаниях не только мысли и ощущения, но и самую обстановку, среди которой они происходят, не исключая даже цвета и формы вицмундиров».
Ярчайший просветитель по идеологии и типу мышления, Салтыков из всех форм и видов деятельности человека отдавал предпочтение тем, главным орудием которых было слово(«…звание литератора предпочитай всякому другому», – завещал писатель сыну в предсмертном письме). Программные требования «кучкистов», Мусоргского прежде всего, о «нераздельном» соединении музыки и словапредставлялись ему, «кровному литератору», чем-то почти кощунственным. Особенно раздражало его шумное возведение Стасовым в канон новой музыкальной школы девиза Даргомыжского, провозглашенного в дни работы над оперой «Каменный гость»: «Хочу, чтобы звук прямовыражал слово. Хочу правды». Девиз этот сатирически расшифровывается Салтыковым как «мысль об упразднении слова и о замене его инструментальною и вокальною музыкой».
В гротескно-буффонадном описании музыки, сочиненной «адептом» новой школы Василием Ивановичем, не следует усматривать ни пародии на какое-либо конкретное произведение Мусоргского, ни тем более критики и отрицания всего его творчества. Сатирическому осмеянию подвергаются не те или иные сочинения композитора или их совокупность, а лишь крайности (в оценке Салтыкова) его новаторских поисков и тенденций, сказавшихся, например, в опыте переложения на речитатив, на интонации живой речи, подлинного, неприкосновенного текста гоголевской «Женитьбы» [141]141
Салтыков не мог слышать этой неоконченной оперы (собственно первой и единственной ее картины), так как она тогда не исполнялась. Но разговоры об этом эксперименте, разумеется, могли до него доходить, хотя бы через племянницу писателя, довольно известную оперную певицу П. И. Веревкину.
[Закрыть]или иллюстрирования музыкой (в цикле «Детская») таких сюжетов, как, например, «рост гриба в лесу», «прихрамывающий человек», «чиханье няни» и др.
Не кто иной, как глава и непосредственный руководитель новой школы М. А. Балакирев признал впоследствии обоснованность салтыковской сатирической критики таких экспериментов. «Что касается Мусоргского, – писал Балакирев в 1906 г. музыкальному деятелю М. Д. Кальвокоресси, – скажу Вам, что, вполне признавая в нем огромный талант, <…> я не принадлежу безоговорочнок тем его сторонникам, которые <…> соглашаются с тем его воззрением, что музыка не есть цельсама по себе, но лишь способ беседовать <…> вследствие чего он выбирал порою сюжеты, совершенно непригодные для музыки. Это дало талантливому сатирику Салтыкову (Щедрину), его современнику, повод высмеять такую тенденцию, за которую ратовал некогда Стасов…» [142]142
«Русская музыкальная газета», СПб., 1911, № 38, с. 751.
[Закрыть].
В материалах для биографии Салтыкова нет сведений, из которых было бы видно, какие из произведений Мусоргского он знал непосредственно, то есть слышал. Но 1874 год, когда был написан комментируемый очерк-памфлет, был годом театральной премьеры «Бориса Годунова» и годом создания программно-изобразительных «Картинок с выставки». Обсуждение этих событий в печати и обществе и явилось, следует думать, непосредственным поводом для выступления Салтыкова, ставшего одним из примечательных эпизодов в истории русской художественной культуры XIX века.
…исключая железнодорожной… – то есть исключая деятельность железнодорожных концессионеров и подрядчиков.
…даже полемику между Сеченовым и Кавелиным… – Полемика по вопросам психологии между физиологом-материалистом И. М. Сеченовым и либеральным публицистом К. Д. Кавелиным, стоявшим на философско-идеалистических позициях, велась на страницах журнала «Вестник Европы» с 1872 по 1875 г.
«Каменный гость»– опера А. С. Даргомыжского на неизмененный текст Пушкина, построенная целиком на мелодическом речитативе (первая постановка – в 1872 г.). Произведение это, как и эстетические воззрения его автора, оказали большое влияние на формирование новаторского стиля композиторов «Могучей кучки», больше всего Мусоргского. «Великий учитель музыкальной правды» – называл он Даргомыжского.
…отдадим Ларошам на поругание! – Поборник русского музыкального просвещения – критик Г. А. Ларош считал, однако, что оно должно идти по пути, уже проложенному музыкой Запада. Отсюда – проявленное им непонимание национально-самобытного творчества композиторов «Могучей кучки» и враждебное или остро-критическое отношение к ним, особенно к Мусоргскому.
«Псковитянка»– написанная в формах новой русской музыкальной школы опера Римского-Корсакова. Впервые была поставлена в 1873 г. на сцене Мариинского театра в Петербурге.
«Гебриды»– «Гебриды», или «Фингалова пещера» (1830), одно из симфонических произведений Мендельсона-Бартольди в созданном им жанре романтической программной увертюры (концертной).
…coda– заключительная часть музыкального произведения.
«Славься!..»– торжественно-гимнический хор, заключающий оперу Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»).
…оттолчка– сильные «удары» звуком в речи или в пении («соловьиное колено с оттолчкой»).
…похожа на «Херувимскую» Львова. – Одна из наиболее известных музыкальных композиций на текст богослужебной песни православной церкви «Иже херувимы…» принадлежит композитору А. Ф. Львову, автору музыки царского гимна.
«Тебе, Бога, хвалим…»– гимническое песнопение христианской церкви (у католиков – «Те deum laudamus…»); исполняется на благодарственных молебствиях.
III *
Впервые – ОЗ,1875, № 1, отд. II, стр. 183–195 (вып. в свет 22 января). Под заглавием «Между делом. Рассказы, очерки, афоризмы и т. д.» и за подписью «М. М.»
При подготовке главы для отдельного издания Салтыков внес в текст несколько мелких поправок.
Внимательно приглядываясь к судебным учреждениям, созданным реформой 20 ноября 1864 г., Салтыков убеждался, что современный суд, вместо того чтобы стать институтом защиты человека, охраны прав личности, быстро превращался в арену социальной несправедливости, хищничества и лганья адвокатов, представителей новой буржуазной интеллигенции.
Этим объясняется парадоксальное, на первый взгляд, нападение сатирика на новые юридические формы: обычно они подвергались атакам «справа» – со стороны дворянско-монархической реакции. Салтыков увидел в буржуазном судопроизводстве изощренные способы ущемления личности, «травли» человека, лишь внешне иные, по сравнению с травлей крепостнической: теперь орудием пытки служит не плеть, а «психология». Салтыков проводит параллель между современным моментом, который либеральная печать славословила как «время возрождения», и эпохой «старинной дикости» – крепостного права – и обнаруживает много общего, заключающегося, главным образом, в защите собственнического идеала («у меня рубль украли – надо удовлетворить и меня <…> иначе почва ускользнет у нас из-под ног»), только осуществляемой различными способами.
В размышлениях об этих проблемах обнаруживается наибольшая близость Салтыкова к Достоевскому, который в «Дневнике писателя» (1873, «По поводу новой драмы») отмечал, что «мрачные нравственные стороны прежнего порядка – эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились». Он дал характеристику нового судебного процесса, совпадающую в своих основаниях с салтыковской («тут, в основе, какая-то ложь», извращение «гуманного чувства» – 1877, октябрь), и задался тем же тревожным вопросом: «ведь трибуны наших новых судов – это решительно нравственная школа для нашего общества и народа <…> как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздается подчас с этих трибун?» (1876, май). Одинаковую аттестацию получила у писателей адвокатская корпорация: «блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное <…> какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных» (1876, февраль). Впоследствии, в «Братьях Карамазовых», писатель использовал для характеристики современного судоговорения такой же термин, который привел Салтыков в комментируемом очерке («роман»), и скрыто процитировал салтыковский текст в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: о «нравственных муках», которые заменили в результате «смягчения ваших нравов» (эти слова поставлены в кавычки) «древний огонек» в качестве орудия пытки.
В печати, кроме краткого положительного отзыва «Одесского вестника» (1875, 13 февраля, № 36), настоящий очерк вызвал язвительное замечание рецензента «Киевского телеграфа»: «Очерк «Между делом» М. М. обнаруживает отрицательную сторону наших гласных судов <…> подвергающих жестокой духовной пытке всякого своего пациента. По выразительности языка и по остроумию статейка г. М. М. не отстает от благонамеренных речей, даже едва ли не выше их; но к концу ее и неизбежно возбуждается вопрос: какой цели хочет добиться автор, затрачивая свое остроумие? <…> его alter ego, г. Щедрин, пожалуй, и посовестился бы так блистательно плевать в пустое место!» (Т. Л. К. Журн. обозрение. – «Киев. телеграф», 1875, 12 февраля, № 19).
…уездные суды упразднены. – Уездный суд – отмененная уставами 1864 г. первая судебная инстанция для дворян; составы их избирались дворянством уезда сроком на три года и утверждались губернатором.
…до такой-то суммы человек мировому судье подсуден, а свыше этой суммы – окружному суду. – Мировой суд (в составе единоличного судьи) в уездах и городах предназначался для рассмотрения малозначительных уголовных и гражданских дел: он рассматривал иски на сумму не свыше 500 рублей. Дела, выходившие за эти пределы, поступали в окружные суды (судебный округ охватывал несколько уездов).
…в виде торговой казни на площади– публичного наказания кнутом, рукою палача.
…«даму приятную во всех отношениях»– персонаж 9-й главы «Мертвых душ» Гоголя.
…особенный вид преступления был, называвшийся «злоупотреблением помещичьей власти»… – юридический термин в эпоху крепостного права, нередко подразумевавший смерть «провинившегося» в результате истязаний.
…вот хоть бы на месте г. Шайкевича <…> восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако. – Упомянуты защитник игуменьи Митрофании и гражданский истец по ее делу и процитирована выспренняя речь последнего (см. подробно в т. 12, стр. 645).
IV *
Впервые – ОЗ,1875, № 9, отд. II, стр. 129–152 (вып. в свет 19 сентября). Под заглавием «Между делом» и за подписью «Н. Щедрин».
Настоящий очерк – одна из самых личных «бесед» Салтыкова с читателем во всем этом незавершенном цикле. Здесь сделана попытка определить результаты «бесцензурного» существования русской литературы на протяжении почти целого десятилетия.
Большинство поставленных в очерке проблем затронуто в письмах Салтыкова этого времени в непосредственной связи с собственной литературной биографией. В очерке содержатся широкие обобщения, подготавливающие важнейшие итоговые суждения Салтыкова в «литературных» главах циклов «Круглый год» и «Мелочи жизни» (см. тт. 13 и 16 наст. изд.).
Некрасов в письме Анненкову от 27 апреля 1875 г. очень точно охарактеризовал поистине героическую мобилизующую роль Салтыкова в «Отеч. записках» перед отъездом его за границу, где и был написан очерк: «Журнальное дело у нас всегда было трудно, а теперь оно жестоко; Салтыков нес его не только мужественно, но и доблестно, и мы тянулись за ним, как могли» (Н. А. Некрасов. Собр. соч. в 8 тт. М., «Художественная литература», 1967, стр. 397).
Опираясь на собственный опыт, писатель доказывает, что, несмотря на упразднение предварительной цензуры, русское слово – по-прежнему скованное слово, а положение русского писателя полностью зависимо от административного произвола («Дунуть на тебя – ты и погас!»). Одна из главных причин угнетенного положения русской передовой литературы – укрепление реакции и продолжавшийся отход от интересов подлинной культуры «влиятельных классов», «так называемых людей культурного слоя». Вторая часть очерка раскрывает глубокое убожество этих «благонадежных элементов» (в образе Износкова). Салтыкова окончательно убедили в необходимости сатирической разработки подобного типа его заграничные впечатления. 24 (12) сентября 1875 г. он сообщал Анненкову, что «вынес из Бадена еще более глубокую ненависть к так называемому русскому культурному слою, чем та, которую питал, живя в России. В России я знаком был только с обрывками этого слоя <…> живущими уединенною жизнью <…> В Бадене я увидел целый букет людей, довольных своею праздностью, глупостью и чванством».
В характеристике «шлющихся» представителей «русской культурности» с Салтыковым сомкнулся Достоевский, через несколько месяцев посвятивший им в «Дневнике писателя» (1876, апрель) специальную главу: «Культурные типики. Повредившиеся люди». Возможно скрытое указание на очерк Салтыкова в строках: в последнее время «разъяснился совсем новый культурный тип», который «в каретах-то, в помаде-то <…> и видит всю задачу культуры, все достижение цели». Как характерные черты этого типа, «имеющего некоторое общее значение», Достоевский также отмечает отсутствие национальных корней и пренебрежение к отечественной литературе. Но противопоставлен он не носителям передовой общественной мысли, а «почве», народной нравственности.
Однако причины «холопского» положения литературы Салтыков видит не только в засилье «клевещущих» на нее «культурных людей». В очерке встает как одна из основных проблем литературного развития – проблема читателя – «неуловимого» и во многом «загадочного» для сатирика. Здесь поднимаются глубокие вопросы о связи литературы с жизнью, о степени и характере непосредственного влияния печатного слова на общественное самосознание, о реальных результатах деятельности честной мысли.
Салтыков говорит о нравственной ответственности читателя перед литературой: «бессилие русской литературы зависит, во-первых, оттого, что у нее нет достоверного читателя, на которого она могла бы опереться». Как раз в те дни, когда завершалась работа над этим очерком (29 (17) августа Салтыков извещал Некрасова о посылке рукописи), писатель делился своей тревогой с Анненковым: «…я начинаю думать, что моими писаниями никто не интересуется и что «Отечественные записки», несмотря на 8 тыс. подписчиков, никто не читает. То есть читает какой-то странный читатель, который ни о сочувствии, ни об негодовании заявить не может. <…> Это штука почти безнадежная, и на старости лет тяжело ее переживать» (27 (15) августа 1875 г.). Очерк предваряет те глубокие и социально дифференцированные определения различных категорий русского читателя, которые будут даны в «Мелочах жизни»; здесь же выделены: народ, «даже не подозревающий о существовании русской литературы», высший круг, который «ее игнорирует», и современное «молодое поколение», которое не признает ее «прав на воспитательный авторитет».
В известной мере «Недоконченные беседы» отразили зреющую неудовлетворенность Салтыкова результатами «литературной формы борьбы с легальной трибуны» (А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.—Л., Изд. АН СССР, 1959, стр. 298), которая со всей полнотой выразится позже в сказке-элегии «Приключение с Крамольниковым».
В этих драматических размышлениях много перекличек с поздней лирикой Некрасова: «Скоро стану добычею тленья» (1876), «Угомонись, моя муза задорная» (1876), «Приговор» (1877).
Важно отметить, что в комментируемой статье наиболее глубоко воплощена сложная диалектика авторской мысли, по сравнению с предшествующими очерками, где желчный Глумов всюду ближе к Салтыкову, чем прекраснодушный повествователь. Здесь скептическая трезвость Глумова также помогает определить всю трагическую противоречивость положения современной литературы (на которую пытается закрыть глаза рассказчик). Между тем и в высказываниях повествователя, пробиваясь сквозь либеральную словесную эквилибристику, убеждающе звучат сокровенные авторские мысли о великой миссии литературы, о неколебимой преданности «литературному ремеслу», несмотря на сопряженную с ним унизительную необходимость «трепетать».
В настоящей статье Салтыков развернул свои соображения о значении и функции эзоповских приемов. Необходимость объяснить читателю принципы прочтения своих произведений сатирик особенно остро почувствовал, столкнувшись с явным непониманием широкой публикой замысла рассказа «Сон в летнюю ночь», опубликованного в августовской книжке «Отечественных записок» (см. т. 12, стр. 704). 24 (12) сентября 1875 г. он пояснял Анненкову: «если мои вещи иногда страдают раздвоенностью, то причина этого очень ясная: я Езоп и воспитанник цензурного ведомства. Я объявляю это всенародно в статье «Между делом», которая явится в сентябрьской книжке».
Печатные отклики на очерк были, в основном, благожелательны, но поверхностны. Внимание большинства критиков привлек эпизод с Износковым; однако весьма емкий общественно-политический смысл этого образа был раскрыт ими не до конца. По мнению рецензента «СПб. вед.», «это один из многочисленных, удачно очерченных г. Щедриным персонажей, которые <…> и среди реформ, изменяющих условия частного и государственного быта, остались неизменными», «забавная фигура, как будто выхваченная из дореформенного периода» (В. М. <В. В. Марков>. Литературная летопись. – СПб. вед.,1875, 4 окт., № 265). Автор анонимного обзора «Русская литература» в «Сыне отечества» также отмечал, что «в лице Износкова» Салтыков «мастерски изобразил и превосходно осмеял тот ложный взгляд, то фальшивое направление, которые внешний лоск ставят главной задачей жизни <…> А между тем <…> считают себя какими-то охранителями России!» (1875, 6 ноября № 257).
На серьезность литературных проблем, поставленных Салтыковым, откликнулся только Скабичевский, подвергший обсуждению «открытый вопрос: кто же вас ныне читает, господа литераторы?» Критик определил тип русского читателя: ими были «всегда наиболее <…> тяготившиеся условиями жизни и жаждавшие ее обновления»; «во все эпохи <…> умники и счастливцы <…> всегда брезгали» русской литературой, «а интересовались, дорожили ею одни несчастные. <…> Какое это высокое призвание у тебя, о русская литература!» Скабичевский отметил процесс постепенной демократизации читательской аудитории. Ныне «литературе давно уже пора убедиться, что у нее совсем не те уже читатели, что были прежде <…> У нее есть массы новых читателей, на которых должна она сосредоточить все свое внимание и для них только и работать». Но от ответа на вопрос, «где же те несчастные русские люди, которые по-прежнему ищут в литературе всяческих утешений и разрешений», критик уклонился («Но отвечать на этот вопрос в двух словах нельзя») – ( Заурядный читатель<А. М. Скабичевский>. Мысли по поводу текущей литературы. – «Бирж. ведомости», 1875, 3 октября, № 272).
…цензоров<…> сажали на гауптвахту<…> их сменяли. – Подобные многочисленные эпизоды из собственной длительной цензорской практики и служебной биографии коллег приведены А. В. Никнтенко в «Дневнике» (см. т. I, ГИХЛ, 1955, стр. 160–161, 252–256, 327). Уже при Александре II «за недостаточно строгое исполнение своих служебных обязанностей» был отрешен от должности Н. фон Крузе (М. К. Лемке. Эпоха цензурных реформ. СПб., 1904, стр. 12–14).
…публика<…> зачитывалась статьями, вроде «Китайские ассигнации» или «Австрийский министр финансов Брук»… – Речь идет о том, что в середине 1850-х гг., в период относительного либерализма Каткова, издаваемый им «Русский вестник» также использовал иносказательный способ критики отечественных порядков под видом обзора иностранных событий (см. об этом: т. 5, стр. 352, 644). Впоследствии катковские издания твердо стояли на той позиции, что «недосказанная ложь, намеки, гримасы гораздо хуже лжи, высказанной до конца» (W. Петерб. письма. IV. – МВ,1880, 13 октября, № 284).
…объявление в 1866 году воли книгопечатанию… – Закон 6 апреля 1865 г. о печати, заменивший предварительную цензуру карательной, был введен в действие с 1 сентября того же года.
…«невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех*…– Цитата (неточная) из главы VII первого тома «Мертвых душ» Гоголя.
…культурные Бобчинские и Добчинские <…> расщебетались<…> еще очень недавно Сквозник-Дмухановский без церемонии называл их «сороками короткохвостыми». – Смысл этого иносказания, использующего эпизод из гоголевского «Ревизора» (д. V, явл. VIII), состоит в следующем: реакционный дворянский, помещичий круг (Бобчинские и Добчинские), который правительственная бюрократия (Сквозник-Дмухановский) в момент подготовки крестьянской реформы была вынуждена одергивать и ограничивать в претензиях, ныне снова обрел силу. «Противоречия» его с царской властью были временными и кажущимися, а союз – постоянный («Бобчинские нам милы, в Добчинских мы уверены»).
…не волнуют общественного мнения, не смущают умов… – Воспроизводятся обычные мотивы «предостережений», которые получали передовые печатные органы, в том числе и «Отеч. записки» (См.: Свод данных о мотивах предостережений, полученных журналами и газетами в 1865–1904 гг. в кн. Вл. Розенберга и В. Якушкнна «Русская печать и цензура в прошлом и настоящем», стр. 227–250).
…подумайте<…> что у вас есть дети… – Мысль о возмездии носителей реакционного начала «в потомстве», которое сойдет с торной дороги отцов, Салтыков разрабатывал в цикле «Господа Молчалины», рассказе «Больное место» (см. т. 12).
…Микешин<…> создал памятник тысячелетию России. – См. т. 6, стр. 575.
…Коля Персиянов– персонаж цикла «Господа Ташкентцы» (см. т. 10 наст. изд.).
…об этой «курице в супе»… – См. т. 8, стр. 493.
…питание чиновника <…> близко подходит к питанию человека природы… – Под «человеком природы» подразумевается крестьянин, мужик, на послереформенное обнищание которого намекает Салтыков.
…Бисмарк думал своими пятью мильярдами раздавить эту страну!<…> он отрезал у Франции Страсбург… – Упомянуты тяжкие для Франции условия мирного договора после ее поражения во франко-прусской войне 1870–1871 гг.
Вечер<…> провожу<…> у французов… – на спектакле французской труппы Михайловского театра.
…требовал cent milles têtes à coupez? – Обывательски-утрированный отзвук, связанный с изречением Марата. – См. т. 14, стр. 235 и 604.
V *
Впервые– ОЗ,1876, № 3, отд. II, стр. 154–170 (вып. в свет 22 марта). Под заглавием «Отрезанный ломоть» и за подписью «Молодой человек».
Время работы над данной главой определяется письмом Салтыкова к Некрасову из Ниццы от 9/21 февраля 1876 г.; «Письмо Ваше получил 5 дней тому назад не от Панаева, а по почте, и, вследствие выраженного в нем желания иметь статью по Кронеберговскому делу, сел за оную и написал. Первую половину посылаю, вторую вышлю завтра <…>. Я хотел бы сохранить тайну ее происхождения от меня». Рукопись второй половины статьи, написанная рукой Е. А. Салтыковой, была отправлена на другой день (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 10/22 февраля 1876 г.). Однако по цензурным соображениям статья не могла быть помещена в февральском номере журнала.
В Изд. 1884,кроме некоторых изменений и стилистической правки, текст несколько дополнен. Но, судя по содержанию письма Салтыкова к Некрасову от 25 фепраля / 8 марта 1876 г., доцензурный вариант статьи восстановлен лишь частично (см. ниже). Видимо, это объясняется тем, что Салтыков либо не получил от Некрасова корректуру, либо позднее сам ее затерял. Приводим три варианта ОЗ.
Стр. 223, строка 43, после слов: «…ударил по лицу девочку раза три или четыре» —
(Иоанн Грозный поступил искренне, записав в синодике убиенных и потопленных им под рубрикой «имена же их ты, господи, веси!»)
Стр. 224, строка 9, после слов: «…удары сыпались только на смердов, на вилланов» —
…(см. в одном из будущих №№ «Вестника Европы» статью «О значении пощечин во времена рыцарства»).
Стр. 228, строка 7, после слов: «…обвинил русскую литературу в идиотстве» —
Так что очередь теперь за Плевако… [143]143
Ремесленность адвокатуры нашей еще ярче выразилась в том недоразумении, жертвою которого был г. Герард в Овсяиниковском деле. Вслед за тем в Москве был такой случай: «г. Плевако, узнав от одного из обвиняемых по делу обанкрутнвшегося банка, что он желает привлечь к защите местного адвоката г. Громницкого, сравнил последнего с коровой, а себя уподобил коню, забыв, конечно, что ведь и конь – тоже животное четвероногое». (Прим. M. Е. Салтыкова-Щедрина.)
[Закрыть]
В январе 1876 года в СПб. окружном суде слушалось дело С. Кронеберга, обвинявшегося в истязании малолетней дочери Марии. Его оправдали: заключения врачебной экспертизы оказались противоречивыми, а присяжные, как это ни странно, не смогли доказать необходимости «беспощечинного» воспитания; этой компромиссной ситуацией умело воспользовался адвокат В. Д. Спасович. Юрист с либеральной репутацией, он был назначен к защите Кронеберга судом и в ходе процесса дал понять, что ему лично претит педагогика «плюхи и розги», по ввиду ее общераспространенности требовал оправдания для своего клиента. Поведение Спасовича было расценено Салтыковым как выразительный симптом углублявшегося разрыва адвокатуры с передовыми общественными идеалами и прогрессивной литературой (в этом смысл заглавия «Отрезанный ломоть»).
«Дело Кронеберга» оживленно обсуждалось либеральной печатью, которая сосредоточилась преимущественно на процессуальных моментах. На этом фоне резко выделились выступления Салтыкова и Достоевского, во многом близкие. Оба писателя отказались обсуждать юридические подробности, поскольку в самой основе дела видели «фальшь нестерпимую», «фальшь со всех сторон» [144]144
Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1876, февраль, глава вторая.
[Закрыть]. Салтыков и Достоевский апеллировали не к статьям действующего закона, а к «человеческим чувствам», которые были изгнаны из судебной процедуры «по самой силе вещей»: «не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей и серьезные гуманные люди – позорят ребенка…» [145]145
Там же.
[Закрыть]
Процесс этот, возмущавший нравственное чувство жестокостью, буквально подтвердил справедливость тех мыслей о «новом» суде, которые Салтыков высказал ранее, в 3-й статье «Между делом». Но внимание писателя он привлек все же не поэтому: Салтыкова заинтересовала не «криминальная» сторона кронеберговской истории, а проявление в частном бытовом эпизоде «поветрия на компромиссы и сделки», ставшего общеевропейским явлением. Компромисс В. Д. Спасовича с несостоятельной для него самого «идеей розги» в семейном быту позволил сатирику, при помощи испытанного в его публицистике метода широких аналогий, перейти от петербургского адвоката – к идеологу французской трудовой демократии Луи Блану, делавшему в 1875–1876 гг. в ходе подготовки парламентских выборов политические уступки реакции. В статье широко поставлен вопрос о «политическом и философском учении, известном под именем «учения о компромиссах и сделках», которое писатель напряженно осмыслял с 1860-х гг. («Каплуны», «Тихое пристанище», «Наша общественная жизнь») ’.
Салтыков четко выражает мысль о том, что осуществление «трудного» социалистического идеала («maximum’a», «царства правды») невозможно без решимости на «открытый шаг», на «слово, разоблачающее действительные цели стремлений партии». В статье раскрыта принципиальная ошибочность уравнения революционных и нереволюционных методов изменения жизни: желание «достигнуть <…> целей «потихоньку», не в смысле большей или меньшей медленности движения, а так, чтобы никто не заметил», ведет лишь к тому, что «первоначальные цели <…> стираются и отходят очень далеко назад». Иронически воспроизводя лозунги идеологов и практиков «политики результатов», – «потихоньку», «отступайте! заманивайте!» – Салтыков доказывает, что тактика компромиссов приносит иллюзорные результаты («игра, в которой никакой цели никогда не достигается», «поступательное движение в беличьем колесе») и влечет неминуемую сдачу идеала.








