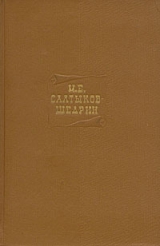
Текст книги "Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
И затем, спустившись с высот парения, он прибавил:
– Встанешь утром, откроешь окно – изумительно! Небо – синее; озеро – голубое; прямо – Dent du Midi * ; влево – бесподобная долина Роны, которую со всех сторон стерегут седые великаны… Воздух – упоительный! теплота – поразительная! Спустишься вниз – кофей готов!!
– Dent du Midi? форму зуба, что ли, он имеет? – полюбопытствовал один из собеседников, Мозговитин.
– Как вам сказать… это не зуб, а скорее целый ряд неровных зубов. Один раз при мне дантист у попа такой коренной зуб вырвал… Когда середку горы окутает облако, а сверху солнце светит, то кажется, словно фантастический замок, с башнями и бойницами, на облаках повис… Изумительно!! Напьешься кофею – с хлебом, с ароматным маслом, с настоящими сливками – гулять! Небо синее, озеро голубое, кругом озера – всего озера сплошь! – каменная набережная… Идешь – и не чувствуешь, что идешь! Что-то есть такое, что возвышает, уносит, располагает… Зайдешь в лавку, купишь винограду – и опять гулять. В час завтрак – по звонку. После завтрака – экскурсия. Иногда пешком, иногда – в шарабане, иногда – по озеру. Кто хочет купаться – купается; кто хочет ловить рыбу – ловит. Свобода – полная. Окрестности – бесподобные. Глион, Вевэ, Ушѝ, Шильон, Евиан… Нынешним летом около Шильона, в Hôtel Byron, Виктор Гюго жил… маститый старик! А в шесть часов – обед, опять по звонку! Обедаешь – а в душе музыка!
– Вот это жизнь! – в восторге отозвался Мозговитин, тоже столоначальник, хотя и не столь прикосновенный к дивидендам, однако…
– А мы тут целое лето в Озерках * на Поклонную гору глазели да проект о превращении пятикопеечных гербовых марок в сорокакопеечные сочиняли! – с горечью воскликнул третий столоначальник, Ловягин, преимущественно участвовавший в Раздачах, а не в Дивидендах.
– Вы и в Шильоне были? – спросил четвертый столоначальник, Глухарев, служивший в отделении «где раки зимуют».
– Еще бы! Шильонский узник! Байрон! * Там и теперь на одной из колонн его автограф показывают. И столб, к которому был прикован «добродетельный гражданин» Бонивар, и углубление, которое он сделал в плитном полу, ходя взад и вперед в одноми том же направлении. Представьте себе железную цепь, которая не позволяла ему отойти от столба дальше нежели на два аршина… И таким образом целых восемь лет! Восемь лет!
– За что же это его так? – полюбопытствовал пятый собеседник, Новинский, который был только помощником столоначальника и не успел еще погрязнуть в дивидендах.
– Любил свободу и был добродетельный гражданин – вот и все! Для Савойского дома, который тогда владел этою частью Швейцарии, этого было вполне достаточно.
– Для Саво-ойского?! – изумленно переспросили собеседники, в воображении которых с понятием о Савойском доме соединялось представление о Викторе-Эммануиле, о Кавуре, о Гарибальди и даже о Мадзини. – А теперь-то! теперь-то Савойский дом!
– Да, господа, были времена, когда и Савойский дом вел себя не безукоризненно! * – продолжал Павлинский. – В том же Шильонском замке показывают, например, высеченное в каменной скале ложе с каменным же изголовьем, на котором осужденные проводили последнюю ночь. А иногда их обманывали: объявляли прощение и вели темным коридором из тюрьмы. Но в конце коридора был вырыт колодезь; осужденный оступался в него и падал на громадные ножи, которые резали его на куски.
– Однако!
– А теперь вокруг этих самых стен играет жизнь, ликует свобода! А именем Бонивара назван лучший озерный пароход… Какой урок!
– Все оттого, что прежде тьма была, а теперь – свет! – решил Ловягин. – А вон в Озерках хоть и замка Шильонского нет, а все кажется, словно ты вокруг столба на цепи ходишь!
– Свет – это главное! – подтвердил и Мозговитин, – только трудно ему пробиться сквозь тучи… оттого и долгонько бывает ждать… Ну, а по нашей части как у них? – обратился он к Павлинскому.
– По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Представьте себе, от меня от первого там услышали слово: дивиденд! Приехал я в Кларан, осмотрелся чуточку, отдохнул – и сейчас же в Лозанну к тамошнему окружному надзирателю. Спрашиваю: в каком положении у вас дивидендное дело? И что же бы вы думали? Он даже не понял!
– Не понял?!
– Не понимает, да и все тут. Я туда-сюда, толковал ему, толковал… Один ответ: «Не может быть!» Однако немного погодя начал задумываться.
– Пробрало?
– Кажется, что так. Пришел ко мне в Кларан, молча пожал мне руку и ушел.
– Увидите, что и там теперь реформы начнутся!
– То есть… как вам сказать!.. наверное утверждать не берусь. Слишком сильна там консервативная партия. Она непременно будет тормозить. Во всяком случае, это вопрос настолько существенный, что в будущем году я непременно опять отправлюсь в Лозанну, чтоб лично убедиться, какое действие произвели мои разъяснения.
– Дай бог! дай бог! А в Париже… конечно, тоже побывали?
– Еще бы! Быть за границей и не заехать в Париж! Но в каком они нынче трико женщин в феериях выводят – ну, просто… Одного не понимаю: зачем трико?!
– А у нас наденут на неемешок, да такой, что гороху четверик туда всыпать можно, да еще кисеи целый ворох накутают… догадывайся!
– Да, господа, Париж – это столица мира! * Встанешь утром – и сейчас чувствуешь… Возьмите одни журналы: «Intransigeant» [12]12
«Непримиримый».
[Закрыть], «Justice» [13]13
«Справедливость».
[Закрыть], «Combat» [14]14
«Борьба».
[Закрыть]…так и брызжет! Прочитаешь – куда идти? Завтракать? – к Бребану! Garçon! la carte du jour! Filet de boeuf, sauce béarnaise… c’est ça! [15]15
Гарсон! Сегодняшнее меню! Филе мясное, соус беарнский… вот это вещь!
[Закрыть]Мягко, нежно и в то же время серьезно. Полбутылки вина, на десерт персик, кисть винограда – нигде в целом мире подобных фруктов нет! Позавтракавши – на бульвар. Ходишь, фланируешь, осматриваешь в окнах выставки и вдруг… «Вы русский?» – «Русский-с». – «Приятно познакохмиться. А это моя жена, ма фам. Прасковья Ивановна». Слово за слово: «Не хотите ли отобедать вместе?» – «С удовольствием». – «А до обеда к Тортони пойдем, соломинку пососем…» Смотришь, утро и прошло. Отобедаешь, а вечером в театр!
– С Прасковьей Ивановной!
– Ну, да… Какой вы, однако ж, Ловягин! всегда что-нибудь заподозрит… циник!..
Подобные разговоры из года в год повторялись в одной и той же силе, почти в одних и тех же выражениях. Несомненно, что столоначальники, которые их вели, были люди благонамеренные, либеральные и просвещенные; но жизнь русского культурного человека так странно сложилась, что он тогда только чувствует себя вполне компетентно, когда речь заходит об еде, об атурах и дивидендах. Правда, что в последнее время трактирные собеседования обогатились еще одним элементом: похвалами неуклонности; но ни Павлинский, ни его товарищи этого элемента еще не допускали. И, по моему мнению, хорошо делали, ибо, право, лучше о вефуровских шатобрианах * разговаривать, нежели о неуклонности.
Разговоры о неуклонности – самые паскудные из всех. Они раздражают, волнуют, вызывают на мысль о потасовке. Сидит остервенившийся кляузник, точит изо рта пену и сулит всякие нелегкие… Какое такое ты полное право имеешь, наглый ядрило, осквернять мозги посторонних лиц своим бешеным бормотанием? где почерпнул ты смелость оподлять землю, которая тебя носит, время, в которое ты живешь, стены, среди которых ты точишь свою слюну? откуда пришла к тебе уверенность в безнаказанности? из какой упраздненной щели ты выполз? зачем?
Несомненно, что современные собеседования о неуклонности служат естественным развитием тех разговоров о бараньем роге и ежовых рукавицах, которые лет двадцать тому назад оглашали дореформенную Россию. Но какая разница в манере, в силе и в самом содержании! В то время как прежние разговоры представляли собой простую бессмыслицу, и, подобно молнии, прорезывающей тучу, являлись мимолетным взрывом наэлектризованного темперамента, нынешние сквернословные диалоги представляются уже выражением какой-то угрюмой системы, обдуманной в тиши уединенного места, и не потухают мгновенно, а длятся, длятся без конца…
Во всяком случае, я отнюдь не осуждаю Павлинского и его товарищей ни за их разговорное бессилие, ни за то, что их либерализм перепутался с дивидендами и вследствие этого принял своеобразные, несколько неуклюжие формы. Как уже сказано выше, явления эти зависели не столько от них самих, сколько от общего бессодержательного уровня русской культурной жизни.
Но я положительно хвалю их за то, что они никому не угрожают и не сулят нелегких. По моему мнению, между гражданами одной и той же страны не может быть допускаемо ни трактирного подсиживания, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обязаны сидеть в трактирах смирно, а ежели иногда им и приходится слышать произносимые поблизости несочувственные речи, то они не должны забывать, что виновный в произнесении таковых речей ответствен за них перед компетентной властью, а отнюдь не перед трактирными завсегдатаями. Конечно, бывают речи, от коих тошнит, но лучше тошноту перенести, нежели входить в рискованные трактирные пререкания. Именно так и поступали Павлинский с товарищи. Когда надворный советник Скорпионов, обедая в их соседстве, провозглашал, что либералов следует топить в реке, они не только не сворачивали ему за это скул, но делали вид, что скорпионовские речи вовсе до них не относятся. Вообще они вели себя в этом деле с тем тонким тактом, который всякому прозорливому столоначальнику свойствен. То есть не отрицали неуклонности, но и не шли к ней навстречу. Когда же перед ними ставили этот вопрос резко и в упор, то отзывались, что неуклонность находится в другом ведомстве и, следовательно, оценке их не подлежит. И таким образом находили отговорку, которая служила им очень приличным прикрытием.
Тем не менее времена настолько созрели, что вопрос о неуклонности принял нарочито назойливые формы. Весь воздух до такой степени насытился неуклонностью, что люди смирные тщетно мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность следует за ними по пятам в образе жестоковыйных кляузников, которые с беззаветным нахальством проникают и в публичные места и в частные квартиры. Способность мыслить становится тяжелым бременем, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль – риском, * не обещающим ничего хорошего…
Я знаю, меня обвинят в преувеличении. Скажут: «Хотя кляузники и существуют но в сущности они составляют очень мизерное меньшинство…» Прекрасно, пусть будет так. Но, во-первых, таково свойство кляузы, что она и в одиночку легко поражает разрозненные и слабые массы; а во-вторых, ведь и трихина прокрадывается в организм лишь небольшими партиями, а какие она распложает массы, как только найдет для себя благоприятную среду!
Как бы то ни было, но мирное собеседование столоначальников было возмущено самым странным образом.
Рассказав подробности своего заграничного путешествия и отдав дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребана к котлетам из présalé [16]16
соленой баранины.
[Закрыть], Павлинский очень любезно обратился к товарищам с вопросом:
– Ну, а вы, горемычные, как тут летом пропекались?
Невиннее и естественнее этого вопроса ничего не могло быть. Невиннее – потому что ничего виновного он в себе не заключал; естественнее – потому что самые элементарные законы общежития требовали, чтобы в ответ на выраженное друзьями доброжелательство заплатить им таким же доброжелательством. Что же касается до выражения «горемычные», то хотя в нем и слышится некоторая тривиальность, но так как к законах не выражается требования, чтобы для разговоров в трактире «Грачи» употреблялся высокий слог, то и в этом отношении Павлинский был, как говорится, «в порядке».
Но не так думал об этом надворный советник Скорпионов * , который, как только заслышал вопрос Павлинского, так тотчас же залаял. На этот раз он обедал с титулярным советником Аникой Тарантуловым, * который, подобно Скорпионову, не имел «постоянных» занятий, а добывал себе пропитание «похвальными поступками». * Тем не менее, не имея правильных способов существования, ни тот, ни другой не имели и правильного обеда, а довольствовались чем попало, преимущественно напирая на водку. На сей раз Тарантулов ел подовый пирог, а Скорпионов – московскую селянку. Ели и в промежутках между глотками испускали охранительные звуки.
– А по-моему, так именно те, по справедливости, «горемычными» назваться могут, кои по заграницам да по Парижам «горе мыкают»! – обратился Скорпионов к Тарантулову, как бы продолжая «самостоятельный» разговор.
– Что так! а я, напротив, слыхал, что те нынче «интеллигентами» себя величают! – отозвался Аника, и так ему это смешно показалось, что он не выдержал и захохотал: – Ха-ха!
– Удивляюсь! – продолжал самостоятельно резонировать Скорпионов, – не тому удивляюсь, что разврат этот ныне всюду въявь проник, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово одно! Одно бы только словечко: «Братцы! вот они!» – и всех бы этих интеллигентов… *
– Ау?! – хихикнул Тарантулов.
Хотя Павлинский старался показать, что он не слышит скорпионовских речей, но невольное волнение выдало его. И волнение это очень характерно выразилось в том, что он машинально и как-то растерянно повторил свой вопрос:
– А вы, горемычные, как летом пропекались?
Голос его звучал неспокойно; губы слегка побледнели, ножик, которым он разрезывал птицу, дрожал. К сожалению, и между товарищами произошло некоторое замешательство, так что и они не могли утверждать, что скорпионовский лай не коснулся их.
– Что же мы! – смалодушничал Ловягин, – своим делом занимались – только и всего!
– Сквернословили! – пояснил Скорпионов.
– Ладненько да смирненько – и не видали, как лето прошло! – присовокупил Мозговитин.
– Я в Озерках жил, Федор Федорыч – в Лигове, Василий Иваныч – в Стрельне, Иван Павлыч – в Лесном. Располземся к обеду, как раки, в разные стороны, а утром опять в департаменте к своим делам обратимся.
– Только погода все лето ужасная стояла! по целым неделям солнца не видали! – не остерегся высказаться Новинский.
– Где уж солнце в Стрельнах да в Озерках видеть! – «самостоятельно» съехидничал Скорпионов. – Оно, вишь, в Женеву да в Париж спряталось! И как это мы с вами, Аника Иваныч, и солнце, и звезды, и месяц – всё видели? Солнце как солнце!
– Мы с вами не интеллигенты, Василиск * Тимофеич, – объяснил Тарантулов, – интеллигенты-то на солнце в подзорную трубу смотрят, а мы по-простецки – голыми глазами!
– Разве что так… Только уж так я на этих интеллигентов сердит! Кажется, взял бы да…
– Д-да-а?! – видимо растерялся Ловягин, однако перемог себя и продолжал: – Но ежели погода была и не вполне благоприятна, зато… Удивительно, как нынче тихо было! замечательно тихое лето!
А Глухарев, с своей стороны, прибавил:
– Никогда прежде так тихо не бывало! Так тихо, что ежели кто не чувствовал за собою вины, то смело мог надеяться, что его не потревожат!
– А разве когда-нибудь прежде бывало, господин Глухарев, чтобы невинных тревожили? – возопил Скорпионов, бесцеремонно врываясь в приятельскую беседу.
Павлинского передернуло. Ему следовало совсем не обращать внимания на запрос, но он, по-видимому, все еще находясь под игом воспоминаний о Dent du Midi, не выдержал и процедил сквозь зубы:
– Ах, как неприятно!
– Неприятно-с? – подхватил Скорпионов. – Позвольте, однако ж, спросить, господин Павлинский, кому больше неприятно: вам или вашим слушателям? Ежели вас даже скромное напоминание о долге приводит в раздражение, то что же должны испытывать те, коих вы оскорбляете, так сказать, в глубине священнейших чувств?
На этот раз Павлинский смолчал и нервно торопился доесть жареную птицу.
– Какие дивиденды – и какая неблагодарность! – продолжал Скорпионов, – подумали вы, господин Павлинский, кто вам эти дивиденды присвоил? и на какой предмет? Фельдмаршальское содержание получаете – а как выражаетесь… ах-ах-ах! Да если б я… если б мы, например, с Аникой Иванычем… при таком авантаже… да мы бы…
Тарантулов, услыхав это предположение, так быстро усвоил его себе, что даже застонал:
– Ох!
Столоначальники молча доедали обед, торопя глазами полового, чтоб поскорее подавал перемену. Однако ж Новинский, как человек еще молодой и горяченький, не вытерпел и хотя несмело, но все-таки достаточно громко сказал:
– Вот уж действительно… трихина!
Но Скорпионов и этим не смутился.
– «Трихина»-с? – так, кажется, вы, господин Новинский, изволили выразиться? – очень любезно отпарировал он, – слыхали-с! Это червячки такие миниатюрненькие… в ветчине бывают?.. Но если бы даже и червяки-с! если бы и червячок правду высказал, так, по-моему, и от червячка не стыдно ее выслушать… Правда – везде правда, и никакие дивиденды ее неправдой не сделают. Нынче, я слышал, в Москве некоторый человек проявился: сидит в укромном месте и все только правду говорит! * А прохожие идут мимо и слушают! На то она и правда, чтоб всякий ее слушал! А ежели кто добровольно не согласен правду слушать, против того можно и меры принять… Так ли я, Аника Иваныч, говорю?
– Пррравильно! – раскатился Тарантулов могучим мокротным басом.
– Правду, доложу вам, даже полезно от времени до времени выслушивать, – продолжал резонировать Скорпионов, – потому человек не всегда сам за собой уследить может. Иной и благонамеренный, а смотришь – он ослаб! Ну, так ослаб, так ослаб, что еще немножко – хоть на цепь его сажай, так в ту же пору! И вдруг, в этаких-то стесненных обстоятельствах, он правду слышит! Слышит раз, слышит другой… В трактир придет – правда! на службу придет – правда! домой придет – правда! «А что, дескать, уж и впрямь не спапашился ли я?» Подумает-подумает, да взвесит, да сообразит… смотришь, он и остепенился! Вот она, правда-то, что значит! Так ли я, Аника Иваныч, говорю?
– Пррравильно!
– А вы меня трихиной изволили обозвать! Я, вас жалеючи, правду говорю, а вы…
– Счет! – раздраженно крикнул Павлинский.
– Спешите-с? – уязвил было Скорпионов; но в эту минуту Новинского посетило вдохновение.
– Что так рано, Павел Никитич? – обратился он к Павлинскому, – ведь этак от них, от кляузников, и деваться некуда будет. А мы вот что сделаем. Господин Скорпионов! Кажется, графинчик-то у вас сиротой стоит?.. Так не хотите ли… от нас? а? Человек! другой графинчик господину Скорпионову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?
– Обыкновенно употребляем очищенное вино; но ежели случится двойная померанцевая…
– Прекрасно. Графин двойной померанцевой! И два подовых пирога!
Маневр удался как нельзя лучше. Тем не меньше он совершился настолько внезапно, что даже Скорпионов почувствовал себя не совсем ловко.
– Обыкновенно… мы безвозмездно, – пробормотал он, – но ежели гостеприимство, и притом с раскаянием…
– Именно так: с раскаянием… Кушайте, господа, не стесняйтесь!
Наступила временная тишина. Тарантулов быстро рвал пирог зубами и озирался по сторонам, как бы кто у него не отнял; Скорпионов чавкал понемножку, прихлебывая небольшими глоточками из рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали благодарные взгляды в сторону Новинского. Но прежний дивидендно-либеральный разговор уже не вязался.
– Хорошо, господа, на Женевском озере было! небо – синее, озеро – голубое, прямо – Dent du Midi, слева – Dent du Jaman… – начал было Павлинский, но вспомнил, что он однажды уже все это рассказал, и остановился.
Кляуза сделала-таки свое дело: либерализм был подсечен в самом корне…
Съели пирожное, выпили остатки шампанского и стали сниматься с мест. Столоначальники, впрочем, не торопились и показывали вид, что ничего особенного не произошло, кроме небольшого, свойственного трактирам, недоразумения, которое тут же и уладилось к общему удовольствию.
Но, когда они были уже в буфетной, Скорпионов прошипел им вдогонку:
– Дивидендщики!
А Новинский, принимая на подъезде поздравления от товарищей, говорил:
– Что прикажете делать! Только водкой и можно кляузе глотку залить! Согласитесь, что, за отсутствием других, это тоже в своем роде… обеспечение?!
Комната третья
Крамольников (публицист и либрпансёр) * чувствовал себя в этот день особенно возбужденно.
С некоторых пор он «решительно ничего не понимал». До самой последней минуты он думал, что существует какое-то отверстие, в которое можно заглянуть и из которого от времени до времени может пахнуть воздухом. Ежели не ворота, то подворотня. Щелка, наконец. И вдруг даже щели – и те исчезли. Законопачены, замазаны, притерты – нет вам щелей! И, что всего обиднее, он даже соследить не догадался, каким образом все это произошло. Накануне еще думал: «Завтра утром пойду и посмотрю в щелку!» Приходит – гладко! Даже место, где была щелка, не может опознать. И к кому он ни обращался с вопросом: «Кто замазал и по какому поводу?» – все смотрели на него с недоумением и даже с робостью, как бы говоря: «Ишь ведь, головорез, про что вспомнил!» И отвечали вслух: «Проходи-ка, брат, мимо! ни об каких мы щелях не слыхивали! всегда была здесь стена как стена!»
Будучи от природы любознателен, Крамольников, натурально, взволновался. Любознательность вообще свойственна людям, которые еще не успели сделаться живыми трупами, а он, не без основания причислял себя к категории таких людей. Да, он не труп, он еще дышит, и легкие его требуют прилива свежего воздуха. В тайниках души он простирал свои виды довольно далеко и не прочь был потребовать даже всего. * Но так как он знал, что остальногоему не дадут, то вынужден был удовлетвориться щелочкой. Он сделал эту уступку скрепя сердце, но, раз примирившись с минимумом своих притязаний к жизни, уже не допускал из него никаких урезок. «Щелка так щелка, – провозглашал он резко, – но зато она моя… всецело! Ни линии, ни пол-линии, ни четверть линии!» И жил в надежде, что щелка останется неприкосновенною (а может быть, со временем ее и расковырять будет можно) и что онсумеет отстоять ее от чьих бы то ни было притязаний…
Каково же было его огорчение, когда он воочию убедился, что щелка – пустое дело и что никому даже не интересно знать, согласен ли он на урезки или не согласен. Пришли, замазали и ушли.
Целое утро он пробегал от одного знакомого к другому, протестуя и жалуясь.
– Представьте себе! щелки-то ведь уж нет! – сообщал он одному.
– Да объясните же наконец, что такое произошло? – спрашивал у другого.
– Ведь это уж не факт, а волшебство! Волшебство! волшебство! волшебство! – повторял третьему.
И даже идя по улице, не стесняясь присутствием городовых, повторял:
– Какое неслыханное варварство!
Наконец измученный, с растрепанными нервами, прибежал в семь часов в «Грачи», где имел обыкновение насыщаться. Не обедать и даже не есть, а именно только насыщаться.
Тут он встретил целую компанию знакомцев, таких же либрпансёров, как и он сам, и не успел порядком сесть на стул, как уже загремел:
– Представьте себе – щелка-то замазана! Утром пришел, думаю: «Посмотрю?» – и вдруг с одной стороны – стена и с другой – стена! Где щелка? – нет щелки!
– А вы только теперь догадались? – молвил один знакомец.
– Ее ни вчера, ни третьего дня уж не было… давно! – сообщил другой.
– У вас, должно быть, праздного времени много. Ищете бог знает чего, говорите об том, что было, да и быльем поросло! – подтрунил третий.
Крамольников уселся и начал глотать пищу. Мужчина он был вальяжный, нуждавшийся в питании, но глотал зря, не сознавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой еды, так что если б ему подали сладкий пирожок, намазанный горчицей, то он и его бы проглотил. Наконец, в средине обеда, уничтожив целую массу черного хлеба, он почувствовал себя сытым и опомнился. Отставил прибор, огляделся, как бы припоминая, как он сюда попал, увидел знакомые лица, вспомнил и опять загремел:
– Представьте мое удивление! – Гляжу ищу, – и ничего не вижу! – Смотрю, навстречу Семен Иваныч идет. К нему: «Семен Иваныч! батюшка! каким манером? с чего?» И что ж бы вы думали? – потоптался-потоптался Семен Иваныч – шмыг от меня на другую сторону улицы! Я – к Яков Петровичу: «Яков Петрович! батюшка!» – Этот уж совсем дурак дураком. «Стыдитесь!» – говорит.
– Ха-ха! – раздалось за столом.
Но посреди общего хохота выделился серьезный голос, который произнес:
– А вы, Крамольников, будьте поосторожнее. Помните, что ведь здесь трактир. *
Голос этот принадлежал несомненному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь был в щелочку посмотреть. Но так как он был малый мудрый, то, раз убедившись, что щелка исчезла, он сказал себе: «Ежели она исчезла, то, стало быть, ее нет» – и благоразумно воздержался от всяких исследований по этому предмету.
– Что такое «поосторожнее»? и что ж из того, что здесь трактир? – разгорячился Крамольников.
– А то, во-первых, что самое открытие, которое вас так поразило, уже указывает на необходимость осмотрительности; а во-вторых, то, что в трактире всякого гаду довольно.
– Осторожность да осмотрительность – только и слышишь от вас, Тебеньков! – взнегодовал Крамольников, – докуда же, наконец? – И какое кому дело до гадов? – Не преувеличиваете ли вы? – общество совсем не так низко стоит, чтобы сгибаться под ферулой каких-то «гадов»! Напротив, при всяком удобном случае оно наглядно доказывает, в какую сторону влекут его симпатии. Спрашивается: при таком общественном настроении что̀ значит каких-нибудь два-три гада, которые действительно могут проскользнуть?
– А то и значит, что, несмотря на свою численную слабость, эти два-три гада имеют достаточно силы, чтобы всех здесь присутствующих в осаде держать.
Несмотря на то, что Крамольников был весь погружен в свои сетования, слова Тебенькова остепенили его. Он невольно оглядел комнату, в которой они обедали, и, к удовольствию, убедился, что в ней никого, кроме своей компании, нет. Правда, из соседних анфилад, справа и слева, доносилось густое гудение, но, по мнению его, это гудение даже обеспечивало тайну интимной беседы.
– Яко тать в нощи, * – прибавил Тебеньков, как бы угадывая его мысль.
– А коли так, – разгорячился Крамольников, – то давайте вести разговоры, которые низшим организмам свойственны! Нуте-ка, благословясь: мму-у! *
– Крамольников, вы нелепы! – обиделся Тебеньков.
– А ежели и это вам кажется чересчур радикальным, то займемтесь чем-нибудь приблизительным. Например: как называется эта птица, которая поставлена на стол?
– Судя по могущественному телосложению, надо бы быть глухарю, – сказал один.
– А по-моему, так это преклонных лет самоклюй, – отозвался другой.
Догадка за догадкой, пришли к заключению, что это коршун, который предварительно съел и глухаря, и самоклюя, и затем, в качестве чего-то среднего, попал в трактир «Грачи». Порешивши на этом, начали есть и вскоре так освоились, что кто-то даже выразился: «Право, хоть бы и еще такую же птицу!» Наевшись, закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящим образом разговаривать. *
– Однажды я в Тверской губернии летом гостил, так дупелей ел – вот это так птица! – сообщил один.
– А по-моему, тетерев, ежели он еще цыпленок, даже лучше дупеля будет! – отозвался другой.
– Тетерев-то и не цыпленок, а просто «нонешний»… ежели, например, в сентябре… – возразил третий, – приготовить его в кастрюльке да дать легонько вздохнуть – высокая это еда, господа!
Наговорившись о птицах, перешли к пиву. Один хвалил калинкинское, другой предпочитал «Баварию», третий вспомнил о пиве Даньельсона в Москве, щелкнул языком и прибавил: «Вот это так пиво было… дореформенное!»
Словом сказать, так увлеклись, что никто бы и не подумал, что люди ведут разговоры, высшим организмам несвойственные. Один Крамольников нервно пожимал плечами, приговаривая: «Каплуны! ай да каплуны!» Наконец он не выдержал, встал с места и зашагал по комнате.
– Растолкуйте вы мне, мудрецы! – начал он, обращаясь к приятельской компании, – почему то, чему присвоивается название «правды» по ту сторону Вержболова * , называется неправдой и превратным толкованием по сю сторону? почему то, что признается не только безопасным, но даже благотворным по ту сторону, становится опасным и вредным по сю сторону? почему люди, считающиеся надежнейшею поддержкою порядка – там,являются здесьподрывателями, чуть не разбойниками? почему, наконец, один и тот же человек какою-то пустой речонкой, составляющей границу, рассекается надвое? Почему-с?
– Потому, вероятно, что в Вержболове – таможня, – спокойно решил Тебеньков.
– Не понимаю! Может быть, вы, по обыкновению, изволите шутить… и, может быть, даже очень остроумно… Но я – не понимаю! Вообще я шуток не понимаю. Не понимаю-с! не понимаю-с, – повторил он раздраженно. – Время, в которое мы живем, так серьезно и вместе с тем так сурово, что двумысленности кажутся мне неуместными. Да-с, неуместными-с.
– Но я и не думал шутить. Я говорю, что в Вержболове существует таможня, точно так же, как сказал бы, что существуют таможни в Кёльне, в Аврикуре, в Паньи, в Понтарльё и проч. Ведь и по сю сторону, например, Аврикура жизненные условия имеют совершенно иной характер, нежели по ту сторону…
– Не «совершенно иной», а «до известной степени иной» – это так. Разница тут только в размерах, а не в сущности. Понятия об общественном благе и общественном вреде, об основах, на которых покоится общественный порядок, общая безопасность и личная обеспеченность – и там и тут одни и те же. А ежели политические формы в одном месте шире, а в другом уже, то, право, это вопрос второстепенной важности. Средний человек не гонится за политической номенклатурой, а дорожит только реальными благами; но, разумеется, не одними материальными благами, а и духовными. А так как к числу последних принадлежит…
– Ах, да знаем мы, что̀ к числу последних принадлежит! – резко прервал его Тебеньков, – не только знаем, но даже можем и вам предложить не бесполезный по этому поводу совет. Оставьте вы эту бесплодную игру в вопросы и ответы! а если не можете совсем оставить, то отложите ее до более благоприятного времени!
– Вы сказали: «до более благоприятного времени»? Стало быть, вы признаете, что нынешнее время…
– Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-напросто не желаю.
– Чего же вы не желаете, господин Тебеньков? и почему так скромно? Не доказывает ли это…
– Ничего не доказывает. Мы пришли сюда обедать, а не политические вопросы обсуждать. Не желаю – и будет с вас.
– Странно!
Крамольников горько улыбнулся, раскрыл рот, чтобы еще что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взад и вперед по комнате.
– В Москве я однажды девицу видел… – раздался чей-то голос среди общего молчания.
– Позвольте-с! – сурово прервал Крамольников, – об московской девице вы после расскажете, а теперь речь вот об чем. Позвольте вас спросить, господа мудрецы, отчего прежде был Стыд, * а теперь – нет его?
Крамольников скрестил на груди руки и неукоснительно требовал ответа.








