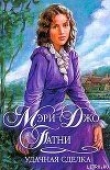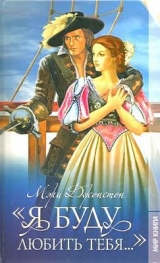
Текст книги "Я буду любить тебя..."
Автор книги: Мэри Джонстон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Глава XXXIII
В которой мой друг становится врагом
В центре вигвама, как и полагалось, ярко горел огонь, освещая белые циновки, выделанные шкуры, оружие, висящее на сплетенных из прутьев и коры стенах, – обычную обстановку обычного индейского дома и еще Нантокуаса, стоящего, прислонясь к очищенной от коры толстой сосновой подпорке, которая поддерживала крышу. Огонь полыхал как раз между нами. Нантокуас стоял так прямо и недвижно, сложив руки на груди и высоко подняв голову, и черты его выражали такое непроницаемое, застывшее и деланое спокойствие, что в неверном свете пламени и редких клубах дыма, подымающихся над его головой, он походил на пленного воина, привязанного к пыточному столбу.
– Нантокуас! – воскликнул я и, размашисто прошагав мимо очага, подошел к нему и хотел было обнять, но он остановил меня движением руки, едва уловимым и вместе с тем властным. В остальном ничто не изменилось ни в его позе, ни в мертвенной невозмутимости его лица.
Юная индианка опустила входной полог, как только мы вошли; если она и поджидала нас, чтобы провести обратно, то снаружи, в ночной темноте. Дикон, держась у дверного проема, то глядел на молодого вождя, то обращал взор к оружию на стене, пожирая его глазами со всем пылом влюбленного, глядящего на предмет своей страсти. Сквозь толстое переплетение прутьев и коры неистовые вопли и пение доносились до нас смутно, и на фоне этих далеких звуков отчетливо слышались шелест ветра в лесу и шорох рассыпающихся сосновых головешек.
– Зачем ты так? – спросил я наконец. – Нантокуас, друг мой, что стряслось?
Он молчал не меньше минуты, а когда заговорил, голос его был так же лишен выражения, как и его лицо.
– Друг мой, – промолвил он. – Что ж, сейчас я покажу себя истинным другом англичан, другом чужаков, которые не захотели довольствоваться своими собственными охотничьими угодьями за большой соленой водой. А после того, как я это сделаю, не знаю, назовет ли меня капитан Перси своим другом.
– Ты всегда говорил без обиняков, Нантокуас, – ответил я. – Я не люблю разгадывать загадки.
И снова он стоял, не говоря ни слова, как будто речь давалась ему с трудом. Я смотрел на него в изумлении – так он переменился за столь краткое время.
Наконец он нарушил молчание:
– Когда танец закончится, и костры будут еле тлеть, и приблизится восход, тогда к тебе придет Опечанканоу, чтобы проститься. Он снимет с себя жемчужное ожерелье, чтобы ты передал его в дар губернатору, а тебе подарит браслет. А еще он даст тебе в провожатые трех воинов, чтобы они охраняли тебя в переходе через лес. У него есть послание, в котором говорится о его любви к белым людям, и он хочет передать его с тобой, своим нывшим врагом и пленником, чтобы все белые поверили, что он их истинно любит.
– Хорошо, – сухо сказал я, когда он замолчал. – Я передам его послание. Но ведь это не все, не так ли?
– То были слова Опечанканоу. А теперь послушай, что скажет Нантокуас, сын Вахунсонакока, вождя паухатанов. Видите два острых ножа, что висят на стене под луком, колчаном и щитом? Возьмите их и припрячьте.
Не успел он произнести эти слова, как Дикон уже держал в руках оба клинка из доброй английской стали. Один он протянул мне, и я засунул его за пазуху камзола.
– Итак, теперь мы вооружены, Нантокуас. Однако любовь, мир и добрая воля никак не вяжутся с такими смертоносными игрушками.
– Они могут вам пригодиться, – проговорил он все тем же тихим ровным голосом. – Если, проходя через лес, вы увидите что-то не предназначенное для ваших глаз, если ваши провожатые решат, что вы узнали больше, чем нужно, то эти трое, у которых будут и ножи, и томагавки, должны будут убить вас, которых они будут считать безоружными.
– Увидим что-то не предназначенное для наших глаз, узнаем больше, чем нужно? – переспросил я. – Объяснись!
– Они будут идти по лесу медленно, делая остановки, чтобы поесть и поспать. Им нет нужды бежать со всех ног, словно олень, за которым гонится охотник.
– Стало быть, нам надобно спешить в Джеймстаун так, будто от этого зависит наша жизнь, без еды, сна и отдыха?
– Да, – ответил Нантокуас, – если не хотите, чтобы смерть постигла и вас, и весь ваш народ.
В вигваме стало тихо, слышно было лишь, как потрескивает огонь в очаге и ветви склонившихся под ветром деревьев царапают сложенную из коры крышу.
– Смерть? – выдавил я наконец. – Какая смерть? Да говори же!
– Смерть от стрел и томагавков, – отвечал он, – и от мушкетов, что вы отдали людям с красной кожей. После того как солнце зайдет три раза, на англичан обрушатся все наши племена. В тот час, когда мужчины будут в поле, а женщины и дети в своих домах, они ударят все как один: и кекофтаны, и паспахеги, и чикахомини, и паманки, и эрроухейтоки, и чесапики, и нансмонды, и аккомаки, – и нигде, начиная с того места, где реки Паухатан надает с высоты на камни, до большой соленой воды, что лежит за землями аккомаков, не останется ни одного живого белого.
Он замолк, и с минуту в хижине слышался лишь один звук – потрескивание пламени. Потом ко мне вернулся голос.
– Все погибнут? – тупо переспросил я. – Но ведь в Виргинии живут три тысячи англичан.
– Они разбросаны далеко друг от друга и не предупреждены об опасности. А в индейских деревнях, что стоят на берегах Паухатана, Паманки и большого залива, много воинов, и все они наточили томагавки и наполнили колчаны стрелами.
– Разбросаны, – повторил я. – Рассеяны вдоль всей реки – одинокий домик здесь, два или три там… В Джеймстауне и Хенрикусе никто не ждет подвоха: мужчины будут в полях или на пристанях, женщины и дети – дома, за работой… И ни одна живая душа ни о чем не подозревает… О Боже!
Дикон, стоявший у дверного проема, решительно шагнул к очагу.
– Нам лучше идти сейчас, сэр, – сказал он. – Теперь, когда у меня есть нож, я наверняка смогу прикончить хотя бы одного из этих проклятых часовых. А когда мы от них отделаемся…
Я покачал головой, индеец тоже сделал отрицательный жест.
– Тогда ты просто станешь первой из многих жертв.
Я привалился к стене вигвама, ибо сердце в моей груди колотилось, как у перепуганной женщины.
– Три дня! Если мы будем спешить что есть мочи, то успеем. Когда ты обо всем этом узнал?
– Пока вы смотрели на пляску, мы с Опечанканоу сидели в его вигваме. Было темно. Он расчувствовался и рассказал мне о тех днях, когда он сам был молод и жил в далекой стране к югу от заката. У его племени были каменные дома, и поклонялись они великому и свирепому богу, которого поили человеческой кровью и кормили человеческим мясом. В ту страну тоже пришли белые люди на кораблях. Потом он рассказал мне о моем отце, о его мудрости, о том, каким великим вождем он был до того, как сюда явились англичане, и о том, как они заставили его встать на колени в знак того, что он владеет своими землями по воле их короля, и о том, как он их ненавидел. А потом Опечанканоу сказал, что все племена называют меня женщиной и говорят, что мне более не мила тропа войны, но он, не имеющий собственных сыновей, любит меня как сына, ибо знает, что в сердце своем я остаюсь индейцем. А потом он поведал мне то, что я сейчас пересказал тебе.
– Давно ли он это задумал?
– Уже много лун тому назад. Теперь я понимаю, каким ребенком я был, ребенком, которого обманом сманили с верной тропы и который более не замечал ее под покровом цветов и пеленой дыма из трубок мира.
– Но для чего Опечанканоу отсылает нас обратно? Вера английских поселенцев в него и без того крепка, как никогда.
– Это его каприз. Всех охотников, торговцев и тех, кто изучал наши языки, отослали либо в Джеймстаун, либо в их поселения с дарами и напутствиями, которые были слаще меда. Опечанканоу сказал вашим троим провожатым, когда именно вы должны прибыть в Джеймстаун. Он хочет, чтобы вы разливались соловьями, рассказывая губернатору лживую сказку о мире, но не успеет кто-либо выкурить трубку после этих ваших слов, как со всех сторон грянет боевой клич племен. Но если те, кто пойдет с вами, заподозрят, что вы что-то знаете, они убьют вас в лесу.
Он снова замолчал, застыв у столба, прямой как стрела, освещенный отблесками пламени, играющими на его обнаженных бронзовых руках и суровом, бесстрастном лице. За стеной вигвама поднялся ветер и завыл в голых ветвях, а издалека донесся взрыв особенно громких воплей. Циновка, закрывающая входной проем, шевельнулась, между нею и стеной показалась тонкая смуглая рука и поманила нас наружу.
– Зачем вы пришли сюда? – снова заговорил индеец. – Раньше, когда на всех землях от Чесапикского залива до самых дальних охотничьих угодий на западе жили одни люди со смуглой кожей, мы были счастливы. Для чего вы оставили свой родной край и сели на огромные черные корабли с парусами, похожими на летние облака? Разве ваш край не хорош? Разве леса ваши не обширны и не зелены, поля не плодородны, а реки не глубоки и не полны рыбы? А те города, о которых я слыхал, – разве они не прекрасны? Вы храбрые воины – так разве там, за большой соленой водой, у вас не было врагов, и вы не ходили тропой войны? Там ваша родина, а человек должен любить землю, на которой он охотится и на которой стоит его деревня. Здесь земля краснокожих. И они хотят, чтобы их охотничьи угодья, и маисовые поля, и реки принадлежали им одним и их женам и детям. У людей с красной кожей нет кораблей, на которых они могли бы уплыть к другим землям. Когда вы только явились, мы подумали, что вы боги; но вы повели себя не так, как ваш великий белый Бог, который, по вашим словам, так вас любит. Вы умнее и сильнее нас, но от вашей силы и ума нам не лучше, а хуже, ибо они превращают нас из людей взрослых в детей; они, как тяжкий груз, который лежит на плечах и голове ребенка, не давая ему расти. Ваши дары были горьки для нас, вы содеяли нам зло…
– Но не тебе, Нантокуас! – воскликнул я, уязвленный.
Он посмотрел на меня.
– Нантокуас – военачальник своего народа, а Опечанканоу – его король, и вот Опечанканоу лежит в своей постели и думает: «Мой военачальник Пума, сын Вахунсонакока, сидит сейчас у себя в вигваме и делает острые наконечники для стрел из твердого кремня, точит и полирует свой томагавк и думает о том, что через три солнца придет день, когда наши племена сбросят со своего плеча чужую руку – тяжелую белую руку, которая хочет навсегда пригнуть их к земле». Вот и скажи мне ты, который сам водил воинов на битву, какое другое имя можно дать теперь Нантокуасу, и больше не спрашивай, какое зло ты ему причинил.
– Я не назову тебя предателем, Нантокуас, – сказал и помолчав. – Потому что это нельзя назвать изменой. Ты не первый из детей Паухатана, кто любил и защищал белых людей.
– Моя сестра была женщиной, а по летам – ребенком. Она пожалела вас и спасла, не зная, что тем самым вредит своему народу. Тогда вас было мало, вы были слабы и не могли мстить. Но теперь, если вас не убить, вы припадете губами к чаше мщения, и напиток покажется вам столь сладостным, что вы уже вовек от него не оторветесь. Все больше и больше кораблей будут приплывать к нашим берегам – и вы будете становиться все сильнее. Может прийти день, когда густые леса и сверкающие на солнце реки, которые даровал нам Кивасса, не услышат более наших имен.
Он на мгновение замолчал с непроницаемым лицом и глазами, которые, казалось, пронзали стену времени и прозревали непостижимое будущее.
– Уходите, – вымолвил он наконец. – Если вы не погибнете в лесу, если вы вновь увидите того, кого я называл братом и учителем, скажите ему… нет, не говорите ему ничего! Уходите!
– Пошли с нами. Мы, англичане, найдем тебе место среди нас… – начал было Дикон охрипшим голосом, но тут же осекся, когда я резко одернул его.
– Я не прошу тебя ни о чем подобном, Нантокуас, – сказал я. – Нападай на нас, если хочешь. Заранее предупрежденные благородным противником и готовые к бою, мы встретим тебя, как один рыцарь встречает другого.
Он минуту стоял недвижно. Выражение его лица, изменившееся было от неловких слов Дикона, снова сделалось суровым и непроницаемым; затем очень медленно он поднял повисшую руку и протянул ее мне. Его взгляд встретился с моим. В немом вопросе его глаз были и робкая надежда, и горделивое сомнение.
Я шагнул к нему сразу же и взял его руку в свою. Минуту – и он высвободил ладонь из моего пожатия, приложил палец к губам и тихо свистнул юной индианке. Она тотчас отвела в сторону висячие циновки, и мы с Диконом вышли наружу, а Нантокуас остался стоять, все так же прислонясь к подпорке в красном свете очага.
Суждено ли нам пройти через лес, сквозь набирающую силу грозу, вернуться в Джеймстаун, предупредить их о гибели, которая надвигается на них? Суждено ли нам вообще покинуть эту гнусную деревню? Наступит ли когда-нибудь утро? Когда мы тихо и незаметно добрались до нашей хижины и сели в дверном проеме, чтобы ждать рассвета, нам казалось, что звезды никогда не погаснут. Индейцы, скачущие между нами и костром, словно вдыхали жизнь в высокое пламя; если один из них падал, изнеможенный бешеным танцем, на его место тотчас вставал другой, и пронзительные крики и бой барабанов все не смолкали.
Но только для нас двоих звучал сигнал тревоги; за много миль от нас под безгласными звездами англичане и англичанки мирно спали, не слыша, как стучится в ворота их смертный час, и некому было крикнуть им: «Проснитесь!» Когда же придет рассвет, когда мы наконец тронемся в путь? Я так измучился от ожидания, что мне хотелось кричать: ведь нам предстояло пройти десятки миль, а времени оставалось так мало! А что, если нам так и не удастся дойти до этих спящих? Я видел, как собираются темнолицые воины, племя за племенем, отряд за отрядом, несметные толпы теней, несущих смерть сквозь безмолвный лес и участки земли, где мы его вырубили и построили дома… Я видел славных англичан: Кента и Торпа, и Ирдли, Мэдисона, Уинна, Хэймора, мужчин, которые боролись, чтобы завоевать и удержать эту землю, такую прекрасную и такую смертоносную, Уэста и Ролфа, и Джереми Спэрроу… Я видел детей, играющих у порога, женщин… одну женщину…
Ожидание закончилось, как заканчивается все в этом бренном мире. Пламя огромного костра опадало все ниже и ниже, и по мере того, как он потухал, серый свет, поначалу робкий, делался все увереннее, все ярче. Наконец танцоры замерли, женщины разошлись, а жрецы со своим мерзким чучелом их языческого божка Оуки удалились. Завывание труб смолкло, грохот барабанов тоже, и вся деревня угомонилась в бледном предрассветном сумраке, тихая, сонная и обессилевшая.
Но затишье продлилось недолго. Когда озерца чистой моды среди болот подернулись рябью и порозовели от света утренней зари, женщины принесли нам с Диконом поесть, и вокруг нас тотчас же собрались воины и старики. Они расселись на циновках и чурбаках, и я предложил им кукурузных лепешек и мяса и сказал, что они должны непременно прийти в Джеймстаун, дабы отведать стряпни бледнолицых.
Едва только закончилась трапеза, из своего вигвама вышел Опечанканоу, сопровождаемый доверенными воинами, и, неспешно подойдя к нам, воссел на предназначенную для него белую циновку. Несколько минут он сидел в молчании, которое не пожелали нарушить ни мы, ни индейцы. Только ветер пел свои песни в голых коричневых ветвях, да еще откуда-то издалека, из лесной чащи, донесся хриплый рев самца оленя. Сидя в лучах восходящего солнца, Опечанканоу весь сиял, точно посеребренный эфиоп, ибо его смуглые члены и грудь были намазаны жиром, а потом обсыпаны сурьмяным блеском. В прядь, оставленную на его бритой голове как вызов врагам, было воткнуто огромное перо; лицо его от виска до уха пересекала полоса красной краски; глаза над нею блестели, их взгляд пронизывал, однако мы с Диконом, на которых он был устремлен, так же, как и он, не желали, чтобы по нашим лицам можно было прочесть, что у нас на уме.
Один из молодых индейцев принес громадную трубку, раскрашенную и покрытую резьбой; старый индеец набил ее табаком, потом воин зажег ее и поднес краснокожему императору. Тот поднес ее к губам и молча закурил, меж тем как солнце поднималось все выше и выше и золотые минуты, более драгоценные, чем биение крови в сердце, проплывали мимо слишком медленно и вместе с тем слишком быстро.
Наконец, сыграв свою роль в этом фарсе, Опечанканоу протянул трубку мне.
– Небеса упадут на землю, и высохнут реки, и все птицы перестанут петь, – проговорил он, – прежде чем дым от трубки мира рассеется над этой землей.
Я взял у него этот символ мира и принялся курить его так же безмолвно и серьезно – и столь же медленно, как и он, затем неспешно положил трубку на землю и протянул ему руку.
– Мои глаза были слепы, – сказал я, – но теперь я ясно вижу, как глубоко зарыты топоры войны и как дым мира стелется по лесу. Да придет Опечанканоу в Джеймстаун, дабы вкусить гостеприимство англичан и получить богатые дары: красное одеяние, такое же, как было у его брата Паухатана, и кубок, из которого будут пить он и его подданные.
Он на мгновение коснулся своими смуглыми пальцами моей руки, затем отнял их и, поднявшись на ноги, жестом указал на трех индейцев, которые тотчас отделились от толпы воинов.
– Это провожатые и друзья капитана Перси, – объявил он. – Солнце уже высоко; ему пора отправляться в путь. Вот дары для него и для моего друга губернатора.
Говоря это, он снял с шеи жемчужное ожерелье, а с руки – медный браслет и вложил их в мою руку.
Я спрятал жемчуга за пазуху камзола, а браслет надел на запястье.
– Благодарю тебя, Опечанканоу, – сказал я коротко. – Когда мы встретимся вновь, я буду приветствовать тебя не с пустыми руками.
К этому часу вокруг нас уже собрались все обитатели деревни; и вот уже снова забили барабаны и девушки завели заунывную прощальную песнь. По знаку шамана мужчины и женщины образовали что-то вроде процессии и последовали за нами до самого конца деревни, где начинались болота. На месте остались только темнолицый император и старики; они сидели и стояли на солнцепеке, трубка мира лежала на траве у их ног, и ветер колыхал нависшие над их головами ветви. Я оглянулся и зачем-то подумал: интересно, сколько они подождут, прежде чем нанести на свои тела черную боевую раскраску.
Нантокуаса мы более не увидели: то ли он отправился в лес, то ли нашел какой-то предлог, чтобы остаться в своем вигваме.
Мы попрощались с шумной толпой, которая проводила нас в путь, спустились к реке, где нас уже ждало каноэ с гребцами, переплыли реку и, распрощавшись с гребцами, вошли в лес. Нынче было утро среды, и солнце вот уже два часа как встало. Три солнца, сказал Нантокуас: значит, удар будет нанесен в пятницу. Три дня! Когда мы доберемся до Джеймстауна, еще три дня уйдет на то, чтобы предупредить людей в каждом из разбросанных там и сям уединенных поселках, на то, чтобы привести колонию хоть в какое-то подобие боеготовности. А ведь до того, как хотя бы одна живая душа будет предупреждена о набеге, нам предстояло пройти десятки миль по полному опасностей лесу.
Что же до троих индейцев, которым было приказано идти медленно и которые при малейшем признаке спешки с нашей стороны, при любом подозрительном вопросе, при любом проявлении беспокойства должны были тотчас убить нас, безоружных, как они полагали, то уйдя утром из своей деревни, они покинули ее навсегда. Бывали времена, когда мы с Диконом отлично понимали друг друга и без слов; так и теперь, хотя мы ничего не сказали друг другу, между нами был молчаливый уговор: напасть на наших провожатых и убить их, как только представится случай.
Глава XXXIV
В которой гонку выигрывает не самый быстрый
Все трое индейцев, от которых мы должны были избавиться, были испытанные воины, свирепые, как волки, хитрые, как лисы и зоркие, как ястребы. У них не было причин сомневаться в нашем поведении и думать, что мы нападем на них, однако, в силу привычки, они не переставали наблюдать за нами и готовы были в любое мгновение легко выхватить из-за поясов томагавки и ножи.
Что касается нас с Диконом, то мы шагали медленно, улыбались и говорили так, что никто не усомнился бы в нашей искренности. Настроение у нас было столь же безоблачно, как синее утреннее небо, которое мы видели, когда деревья расступались. Идущий вслед за мною Дикон завел вполголоса разговор с дикарем, которым шел рядом с ним. Речь у них шла об обмене мушкета, который был у Дикона в Джеймстауне, на дюжину шкурок выдры. Индеец должен был принести шкурки в Паспахег при первой же возможности, а Дикон встретить его там и отдать мушкет, если шкурки придутся ему по вкусу. При этом каждый из собеседников мысленно видел другого мертвым. Один действительно намеревался получить мушкет, но рассчитывал просто взять его в арсенале Джеймстауна; второй же знал, что выдры, которые не погибнут от стрел этого индейца, смогут дожить до глубокой старости. И тем не менее они обсуждали договор со всей серьезностью, оговаривая различные условия, и после того, как сделка была заключена, зашагали дальше в молчании, свидетельствующем об их полном согласии.
Солнце между тем поднималось все выше и выше, золотя зеленую дымку распускающихся весенних листочков, окрашивая в сочный ярко-алый цвет красные ветки и почки североамериканских кленов, бросая на кроны сосен копья света, которые, достигая далекой темной земли, разбивались на множество лучей. Оно светило нам час; затем набежали тучи и скрыли его. Лес потемнел, завывая, подул ветер. Молодые деревца склонялись перед ним, взрослые и крепкие скрипели ветвями, старые со скрежетом и грохотом валились. Вскорости полил дождь, и косые серебряные струи пронзили лес с шумом, похожим на гром шагов наступающей армии; затем начался град – потоки ледяных комков, ранящих и прибивающих к земле едва раскрывшуюся нежную зелень. Ветер подхватил все эти многоголосые звуки: крики испуганных птиц, скрип деревьев, треск ломающихся ветвей, грохот падающих на землю исполинов, стук дождя и града – и, собрав их все в один, превратил лес в подобие огромной морской раковины, которую прижимаешь к уху.
Поблизости не было никакого укрытия; покуда мы могли противостоять граду, мы с трудом шли вперед, наклонив головы, чтобы ветер не бил нам в лицо; но в конце концов ярость бури настолько усилилась, что нам пришлось упасть на землю в заросли папоротника,
где нависающий над рекою берег немного защищал нас от ветра. Могучий дуб, качающийся и стонущий над нашими головами, в любую минуту мог рухнуть и раздавить нас как яичную скорлупу; но такая же участь могла постичь нас, если бы мы и продолжали путь. Ветер гнал мимо нас обломанные сухие сучья. Они причудливыми тенями уносились прочь, становилось все темнее и темнее, а воздух был холоден, как в могиле.
Трое наших провожатых-индейцев вжались лицами в землю; об опасности с нашей стороны они и не помышляли, в их мыслях царил Оуки, вызвавший, по их мнению, и беспощадный град, и громыхавшие над лесом первые раскаты весеннего грома. Внезапно Дикон приподнялся, опираясь на локоть, и взглянул на меня. Не успели наши взгляды встретиться, как он сунул руку за пазуху. Почуяв это движение, ближайший к нему дикарь поднял голову от земли, частью которой ему вскорости предстояло стать; но если он и увидел нож Дикона, то слишком поздно. Клинок, вонзенный в плоть со всей силой отчаяния, достиг цели; и когда он вышел из своих кровавых ножен, у каждого из нас остался лишь один противник.
В то же мгновение, когда Дикон занес свой нож, я кинулся на индейца, лежавшего рядом со мною. Времени, чтобы соблюсти хорошие манеры, не было: будь у меня такая возможность, я поразил бы его в спину, пока он ничего не подозревал; но, почуяв что-то неладное, он перевернулся как раз вовремя, чтобы отвести мою руку, держащую нож, и схватиться со мною. Он был очень силен, и его голое, мокрое от дождя тело выскользнуло из моего захвата как змея. Мы катались, сцепившись, по пропитанному водой мху, по сгнившим прошлогодним листьям и холодной черной земле; град ослеплял нас, а ветер выл, словно легион демонов. Он старался добраться до ножа, заткнутого за пояс, а я стремился помешать ему и вонзить в него свой нож.
Наконец я всадил нож в его тело, и его кровь обагрила мою кисть и запястье. Его стискивавшие мою руку пальцы разжались, голова запрокинулась. Стекленеющие глаза на миг уставились в мои глаза, затем он смежил веки, навсегда сокрыв свою неутолимую ненависть Когда я, шатаясь, встал и повернулся, то обнаружил, что Дикон уже покончил с третьим индейцем.
Мгновение мы стояли под градом и ветром, глядя на лежащих у наших ног мертвецов. Затем, не говоря ни слова, продолжили путь сквозь хлещущие ветки, атакующий нас частый град и толкающий назад сильный встречный ветер. Дойдя до узкого ручейка, мы опустились на колени и вымыли руки.
Град перестал, но дождь и ветер не прекращались все утро. Мы продвигались настолько быстро, насколько позволяли нам раскисшая земля и нестихающая буря, но этого было мало: там, где надо было пройти три мили, мы проходили одну. Дыхания на разговоры не оставалось; мысли о будущем также были для нас непосильным бременем; достаточно было и того, что мы, спотыкаясь, упрямо брели вперед сквозь сумрак бури, с сознанием, столь же серым и пустым, как и затуманенная дождем даль.
В полдень тучи рассеялись, и уже час спустя солнце снова светило с безоблачных небес, и под его лучами лесные дали опять были чисты и прозрачны, и ничто не двигалось вокруг, кроме боязливых лесных обитателей, которым было все равно, кто владеет этой землей: белые или краснокожие.
Мы с Диконом торопливо шагали бок о бок, не разговаривая, глядя в оба и держа ухо востро, напрягая все силы, чтобы дойти до цели – и дойти вовремя, невзирая ни на какие препятствия. Это был всего лишь еще один форсированный марш: в свое время мы совершили много таких маршей, каждый из которых изобиловал опасностями, и все же дожили до этих дней, чтобы поведать о них.
У нас было слишком мало времени, чтобы по примеру индейцев маскировать свои следы, но дойдя до широкого ручья, мы ступили в холодную быструю воду и некоторое время продолжали идти по ней. Оба берега ручья густо поросли ивняком. Он был уже покрыт распустившейся листвой и с каждой стороны образовывал непроницаемые для взора зеленые арки шириною примерно в ярд. Вскоре русло ручья резко отклонилось в сторону, и мы повернули вместе с ним. Через десять ярдов заросли ивняка внезапно закончились, крутые низкие берега травянистыми уступами спустились к воде, и ручей, расширившись, превратился в спокойное прозрачное озерцо, такое же голубое, как и небо над нашими головами. На травянистом берегу и на мелководье стояло стадо оленей: голов пятнадцать – двадцать. Мы подошли к ним беззвучно; к тому же ветер дул в нашу сторону и нас закрывали от них густые заросли ивы. Наше приближение ничуть не потревожило животных, и несколько мгновений мы с Диконом стояли, наблюдая, собираясь бросить в их сторону камешек или ветку, чтобы вспугнуть их и освободить дорогу. Мы все еще стояли неподвижно, глядя на них, когда вожак вдруг вскинул голову, прыгнул вперед и пулей бросился в чащу на противоположном берегу. Стадо последовало за вожаком. Мгновение – и от них остались лишь истоптанная трава и взбаламученная вода; ничто более не свидетельствовало о том, что здесь побывали живые существа.
– Ну и что бы это значило? – пробормотал Дикон. – Сдается мне, нам пока лучше держаться подальше от открытых мест.
Вместо ответа я развел в стороны заросли ивы и, спрятавшись под ними, плотно прижался к берегу и сделал знак Дикону последовать за мной. Дикон подчинился, и тотчас же сплетение золотисто-зеленых ветвей закрыло от любопытных взглядов все: и нас, и черную воду, и осыпающийся берег. Из-под этого зеленого полога мы могли наблюдать и озерцо, и траву на берегу, не опасаясь, что нас кто-либо заметит.
Из тени деревьев на зеленую лужайку вышел индеец, за ним второй, третий, четвертый – один за другим они выходили из сумрака леса на солнечный свет, покуда мы не насчитали более двух десятков. Они шли, не останавливаясь ни на миг, одного-единственного взгляда хватило им, чтобы определить, отчего трава истоптана, а вода помутнела.
Когда они пересекли ручей, один из них нагнулся, чтобы зачерпнуть пригоршней воду и напиться, но ни один не сказал ни слова и не произвел ни малейшего шума. Все они были выкрашены в черный цвет; у некоторых на лице и груди виднелись полосы желтой краски. На головах у них красовались высокие причудливые уборы, их кожаные чулки и мокасины были украшены бахромой из скальпов; их начищенные томагавки блестели на солнце, а колчаны были до отказа полны стрел.
Один за другим они беззвучно поднялись по берегу ручья и исчезли в густом лесу. Мы стояли и ждали, пока они удалятся в самую чащу, и лишь затем осторожно вылезли из-под ивняка и двинулись дальше.
– Это были ютенанды, – сказал я тихо, когда мы разговаривали друг с другом, то говорили только вполголоса, – и они пошли на юг.
– Слава богу, что они не обратили внимания на наши следы, – ответил Дикон.
Больше мы не сказали друг другу ни слова, а перейдя через ручей, опять пошли на юг. День все тянулся, а мы безостановочно все шли и шли. Солнце сменялось тенью, дул холодный ветер, на пути попадались то сосновые рощи, то поляны, где мы переходили с шага на бег, то чаща, то сплетение безлистных лиан, то болота и густые заросли подлеска, сквозь которые мы продирались так медленно, что от промедления сердце обливалось кровью, то ручьи и упавшие деревья, а мы все шли и шли, спеша изо всех сил, покуда не зашло солнце и на землю не опустились сумерки.
– Мы нынче не обедали, – прервал молчание Дикон, – но если будем идти с такой же скоростью, что и сейчас, и не встретим других индейских отрядов или не наткнемся на индейскую деревушку, и если ночью нам не придется отбиваться от волков, то завтра мы сможем отобедать с губернатором. А это еще что?
«Это» было мушкетным выстрелом, и пуля на излете попала в мою ногу выше колена, оставив синяк под кожей сапога.
Мы резко повернули и посмотрели туда, где должен был находиться стрелок. Но не увидели ничего. Даль заволокли сумерки, к тому же там темнели заросли и поваленные ветром деревья. Ни один смертный не смог бы определить, где находится засада, из которой был произведен этот выстрел, и сколько индейцев: один или двадцать – лежали по другую сторону упавших стволов, или таились за деревьями, или в зарослях подлеска.
– Пуля была уже на излете, – заметил я, – так что лучше нам опять перейти на бег.
– Там дальше сосны, и бежать будет легко, – ответил Дикон. – Вот уж никогда бы не подумал, что настанет день, когда мне придется спасаться бегством от индейцев!