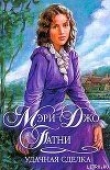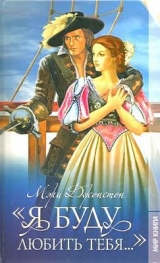
Текст книги "Я буду любить тебя..."
Автор книги: Мэри Джонстон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Глава XXX
В которой мы отправляемся в путешествие
Рассвет застал нас в пути – мы шли по узкой лощине вдоль довольно широкого ручья. Но его берегам росли деревья необычайной вышины и удивительно широкие в обхвате; кипарисы, дубы и пеканы смыкали свои кроны где-то на головокружительной высоте, и их верхушки чернели на фоне розовеющего неба. Под этим плетеным узором, похожим на кованую железную решетку, пылали факелы кленов и то тут, то там плакучая ива склоняла над ручьем бледно-зеленое облако своих ветвей. Даль была застлана туманом; мы слышали, но не видели оленей, пришедших на водопой там, где было мелко, или таящихся в глухих, укромных уголках чащи.
Призрачным, нереальным и каким-то непрочным кажется нам мир, когда на землю приходит рассвет. Именно в эту пору изнемогает душа, и жизнь вдруг представляется мистерией, которую стало скучно смотреть.
Я шел сквозь туман и безмолвие, чувствуя дерганье ремешка, которым я был привязан к запястью дикаря, важно шествовавшего передо мною, и мне было все равно, как скоро они с нами покончат; таким пустым и лишенным смысла мнилось мне все, что ни есть под солнцем.
Дикон, шедший за мною, споткнулся о выступающий корень и упал на колени, потащив за собою вниз индейца, к которому был привязан. Во внезапном приступе ярости, еще более усиленном насмешками его собратьев, тот набросился на своего пленника и всадил бы в него, связанного и беспомощного, нож, если бы не вмешательство вождя. Когда их краткая перепалка закончилась и нож возвратился на свое законное место на поясе владельца, индейцы снова впали в свое привычное грозное молчание, и наш угрюмый переход возобновился. Вскоре ручей резко свернул в сторону, как раз поперек нашего пути, и нам пришлось перейти его вброд. Темная вода текла быстро и была холодна как лед. За ручьем лес был выжжен, и деревья возвышались над красной землей как обгорелые, почерневшие пыточные столбы с поднимающимися меж ними, словно привидения, клочьями тумана. Оставив этот унылый пейзаж позади, мы снова вступили в лес, где в отдалении друг от друга росли могучие дубы, а землю устилал мох и первые весенние цветы. Солнце наконец взошло, туман рассеялся и наступил мартовский день с пронизывающим до костей ветром и ослепительным солнцем.
Один из индейцев согнул свой лук и прицелился в медведя, неуклюже переходившего залитую солнечным светом поляну. Стрела попала точно в цель, и когда зверь упал замертво, мы сели вокруг разложенного с помощью трения одной палочки о другую костра и устроили пир. Согласно своим обычаям, индейцы ели жадно и много, а когда трапеза была завершена, закурили трубки, причем каждый воин сначала кинул в воздух щепотку табака в знак благодарности своему божеству Кивассе. Все они сидели и смотрели на огонь, и ни один не нарушил молчание. Когда одна за другой все трубки были выкурены, они улеглись на прошлогодние листья и заснули. Только двое наших стражей и еще один индеец бодрствовали, наблюдая за нами, и сна у них не было ни в одном глазу.
Надежды на спасение у нас не было, и мы даже не помышляли о бегстве. Дикон сидел, грызя ногти и уставившись в костер, я же растянулся на земле, положил голову на руки и попытался заснуть, но так и не смог.
Когда день подошел к полудню, мы опять встали и, не останавливаясь на привалы, прошагали всю солнечную вторую половину дня. Если не считать того, что мы были привязаны к нашим провожатым ремнями, с нами обходились вежливо. Когда наши похитители обращались к нам, речи их были учтивы, а с уст не сходили любезные улыбки. Кто растолкует обыкновения индейцев? Так уж у них заведено, что сначала они ласкают и лелеют того бедолагу, для которого уготовили все мучения ада.
На закате мы сделали привал на ужин и собрались вокруг костра, и вождь начал рассказывать историю о давнем набеге на паспахегов, которым командовал я. Он и его воины, будто великодушные противники, аплодировали какой-нибудь особенно отчаянной выходке, которая сопутствовала нашему рейду. Однако все это ничуть не отменяло того непреложного факта, что в конце пути нас будут ждать выкрашенные красной краской пыточные столбы и индейцы станут с таким рвением, словно от этого зависит спасение их душ, делать все, чтобы исторгнуть из нас крики и стоны.
Солнце село, и лес объялся тьмою. Издалека доносился вой волков, так что костер поддерживали всю ночь. Меня с Диконом привязали к деревьям, а все дикари, кроме одного, улеглись спать. Я попытался было развязать свои путы, но их завязал индеец, и вскоре я оставил свои тщетные потуги. Мы с Диконом даже не могли переговариваться друг с другом – между нами горел и дымил костер, и мы видели один другого смутно, сквозь сполохи пламени и клубы дыма. Точно так же – сквозь дым и огонь – мы будем смотреть друг на друга завтра. О чем думает сейчас Дикон, я не знал, мои же мысли были не о завтрашнем дне.
Уже давно не было дождя, и толстая подстилка из палых листьев была пружинистой и сухой. И они, и раскачивающиеся деревья громко шуршали от ветра. Неподалеку от леса было болото, и над ним плясали блуждающие огоньки – бледные, холодные точки света, движущиеся без всякой цели то туда, то сюда, словно призраки тех, кто заблудился в лесу и не нашел дороги назад. В середине ночи какое-то большое животное с треском продралось сквозь подлесок слева и ушло в темноту, шурша по прошлогодним листьям. Позже я ясно видел глаза волков, горящие в темноте за пределами освещенного костром круга. Когда ночь уже была на исходе, ветер стих и взошла луна, обратив лес в какую-то изысканно-прекрасную туманную далекую страну, которая видится нам только в снах.
Индейцы пробудились беззвучно все разом, будто в заранее назначенный час. Несколько минут они говорили меж собою, затем отвязали нас от деревьев, и путь к смерти возобновился.
Во время этого перехода вождь сам шествовал впереди меня, привязав ремень к моему запястью. Холодный мутный свет выбелил его смуглые руки, ноги и безжалостное лицо. Он шел молча, я тоже не снисходил до того, чтобы задавать ему вопросы или просить о пощаде. Везде: и во мраке глубокой чащи, и на посеребренных луной полянах, и в погруженных в серый полумрак длинных зарослях сассафрасов [132]132
Американский лавр.
[Закрыть], и в высокой шелестящей траве – передо мною стоял лишь один образ. Тоненькая, недвижная и бледная, она плыла впереди меня, и ее большие темные глаза неотрывно глядели мне в лицо. Джослин! Джослин!
На заре туман над стоящим на нашем пути пригорком растаял, и на вершине его показался индейский мальчик, размалеванный белой краской и похожий на духа, готового вот-вот взмыть в небеса. Он молился главному божеству индейцев, и до нас доносился его голос, звонкий и полный искреннего чувства. Завидев нас, он во всю прыть помчался по склону пригорка и исчез бы в лесу, если бы один из паспахегов не поймал его и не поставил в середину нашего отряда, где он неподвижно встал, невозмутимый и не выказывающий ни малейшего признака страха, настоящий воин в миниатюре. Он был из племени паманки, и между его племенем и паспахегами царил мир. Поэтому, когда он увидел тотем, выжженный на груди вождя, он тут же разговорился и вызвался сообщить о нас в свою деревню, расположенную на берегу ручья в нескольких полетах стрелы. Он ушел, а паспахеги сели передохнуть в тени деревьев и сидели там, пока к ним не явились старики из деревни и не провели их через коричневые поля мимо круга безлистных тутовых деревьев к вигваму для гостей. Здесь для них уложили подстилки, вырезанные из зеленого дерна, и принесли им воду для умывания. Чуть позже женщины выставили перед ними обильный завтрак из рыбы, индюшатины, оленины, кукурузных лепешек и индейского пива. Когда все было съедено и выпито, паспахеги расселись полукругом на траве с одной стороны, а паманки с другой, и каждый воин и старик достал трубку и кисет. Они курили торжественно и безмолвно, лишь изредка прерывая молчание каким-нибудь произнесенным медленно и величаво вопросом или комплиментом. Голубоватый дым от их трубок смешивался с солнечным светом, лившимся сквозь обнаженные ветки деревьев, а в соснах на дальнем берегу ручья то шумел, то затихал ветер.
На время курения трубок нас с Диконом развязали и посадили в самую середину круга, и когда индейцы подымали глаза от земли, они бросали на нас пристальные взгляды. Я знал их повадки, знал, как они ценят гордость, бесстрастие и храброе презрение к тому, что может сделать с тобою враг. Что ж, скоро они увидят, что у белых людей не меньше гордости, чем у дикарей.
Они с готовностью подали нам трубки, когда я их попросил. Дикон взял одну, я вторую и, сидя плечом к плечу, мы закурили с таким же умиротворенным видом, как и окружавшие нас индейцы. Не сводя взгляда с лица вождя, Дикон рассказал давнюю историю об одном злодеянии паспахегов и о том, как англичане отплатили за него, а я смеялся его рассказу, как будто это была самая забавная повесть на свете. Рассказ завершился, мы еще немного покурили как можно более безмятежно, а затем я достал из кармана кости, и мы тут же погрузились в игру, словно в мире больше не было иных столбов, кроме сохранившихся у меня столбиков золотых монет, которые я поставил на траву между нами. Паспахеги взирали на нас с суровым одобрением как на храбрецов, умеющих смеяться в лицо смерти.
Солнце уже стояло высоко над горизонтом, когда паспахеги и паманки распрощались. Отвоеванная у леса земля, тутовые деревья и растущая под ними зеленая трава, несколько грубых хижин и вьющийся над ними дым, воины, женщины и смуглые голые дети – все это исчезло, и вокруг нас снова сомкнулся лес.
В вышине дул ветер, яростно сталкивая друг с другом ветки над нашими головами, голые лианы раскачивались, задевая нас, а вокруг вихрями взвивались хороводы из прошлогодних листьев. Громадная стая голубей пронеслась по небу с запада на восток, словно быстро летящая туча. Еще немного – и мы вышли на равнину, поросшую на редкость высокими деревьями, с которых индейцы содрали кору. Давно погибшие, с почти полностью сорванной корой, окруженные опавшими большими и маленькими ветвями, они стояли оголенные и серебристо-серые, готовые вот-вот рухнуть. Пока мы проходили среди них, ветер повалил еще два дерева, и они упали наземь. В центре равнины лежало какое-то мертвое тело: то ли волк, то ли медведь, то ли человек, и туда со всех концов слетались стервятники. Потом мы вошли в сосновый сбор, тихий и тускло освещенный, с высоким зеленым пологом и гладкой душистой подстилкой из хвои. Мы прошли его за час и оказались на берегу Паманки.
Крохотная деревня – не более дюжины воинов – расположилась прямо под деревьями, доходящими до самой кромки воды, и здесь, привязанные к стволам сосен, осеняющих медленный поток, покачивались выдолбленные из бревен лодки. Когда жители деревеньки вышли, чтобы поприветствовать нас, паспахеги купили у них две лодки за ожерелье из ракушек, и мы не мешкая сели в них и на веслах поплыли вверх по реке к Уттамуссаку и его трем святилищам.
Дикона и меня посадили в одно каноэ. Теперь, когда у нас не имелось ни единого друга вплоть до берегов Паухатана, а Уттамуссак был так близко, путы были более не нужны. Через некоторое время нам вручили весла и приказали грести, в то время как наши похитители отдыхали. Сердиться на них не было смысла, и мы рассмеялись, будто над какой-то уморительной шуткой, и принялись грести так, что наше каноэ далеко обогнало своего близнеца. Дикон запел старую песню, которую мы, бывало, певали в Нидерландах, собравшись вокруг костра после марша перед предстоящей битвой. Лесное эхо повторяло громкую воинственную мелодию, и огромные стаи птиц поднимались в воздух с растущих по берегам деревьев. Индейцы нахмурились, и один из них крикнул, чтобы певца ударили по губам, но вождь покачал головой. Теперь все на берегах реки знали, что паспахеги везут в Уттамуссак пленников. Дикон продолжал петь, откинув голову назад, и в глазах его плясал столь хорошо знакомый мне дерзкий смех. Когда он дошел до припева, я тоже подхватил песню, и лес огласился звуками боевой песни англичан. Нам куда больше пристало бы петь псалом, чем эти грубые хвастливые куплеты, поскольку это было последнее, что мы пели на этой земле, но по крайней мере мы пели весело и дерзко, и души наши были более или менее спокойны.
Солнце опустилось к самому горизонту, и деревья протянули через реку свои длинные тени. Теперь паспахеги принялись рассказывать нам о тех увеселениях, которые они собирались предложить нам наутро. Они описывали все изощренные пытки, в которых они были дьявольски изобретательны, живописуя подробности медленно и издевательски и все время всматриваясь, не побелеют ли у кого-нибудь из нас губы, не дернется ли веко. Они бахвалились, что у пыточных столбов сделают из нас женщин. Как бы то ни было, им не удалось превратить нас в женщин заранее с помощью своих рассказов. Мы гребли и смеялись, а Дикон всякий раз свистел, когда видел выпрыгивающую из воды рыбу, или охотящуюся на нее скопу, или выдру, лежащую на упавшем стволе дерева под высоким берегом.
Занялся закат, и вода в реке стала похожа на расплавленное золото, текущее между суровыми, черными стенами леса. С подымающихся весел сыпались золотые брызги. Ветер стих, а вместе с ним и все другие шумы, и на реку, и на бескрайние леса опустилась проникнутая сыростью тишина. Мы приближались к Уттамуссаку, и индейцы гребли теперь молча, с опущенными глазами, в которых отражался страх, ибо за этими краями особо наблюдал Оуки, и возможно, он был разгневан. Воздух становился все холоднее и тише, однако небо еще пылало золотом, и гладь реки тоже была золотой. На южном берегу росли одни только сосны; словно высеченные из черного камня, они бездвижно стояли на фоне шафранового неба. Вскоре на некотором отдалении от берега показалось несколько невысоких холмов, безлесных, но покрытых какой-то низкой темной порослью. На вершине самого высокого стояли три черных строения, похожие на гробы. За ними ярко-желтым пламенем полыхал закат.
Один из индейцев, плывших во втором каноэ, запел молитву Оуки. Напев был низкий, отрывистый и невыразимо дикий и печальный. Один за другим остальные дикари подхватили его. Он звучал все выше, все громче, все яростнее, перешел в оглушительный крик, затем резко смолк, сменившись могильной тишиной. Оба каноэ свернули с середины потока и устремились к берегу. Когда они вышли из золотистой полосы посередине и вошли в чернильную тень сосен, паспахеги начали снимать с себя то, что, по их разумению, могло приглянуться Оуки. Один бросил в реку медную цепь, другой – головной убор из перьев, третий – браслет из голубых бусин. Вождь вытащил из ярко раскрашенного, отделанного бисером колчана все стрелы, заткнул их за пояс и уронил колчан в воду.
Мы причалили к берегу, вытащили обе лодки на берег и привязали их под нависающими над водой кустами. Затем прошли среди сосен к одному из холмов и вскоре увидели большую деревню с множеством длинных хижин и огромным вигвамом в самом центре, где останавливались императоры индейцев, когда приплывали в Уттамуссак. Сейчас вигвам пустовал, и никому не было ведомо, где теперь находится Опечанканоу.
После того как паспахегам был оказан обычный в таких случаях торжественный прием и они поблагодарили встречающих с такой же величавой торжественностью, вождь начал речь, главным предметом которой был я. Когда он умолк, толпа ответила оглушительными возгласами одобрения, и я уже было подумал, что они вряд ли станут ждать до завтра. По час был поздний, и вождь с шаманом умерили их пыл. В конце концов мужчины разошлись, а крики детей и неистовые вопли женщин, требовавших безотлагательного мщения, затихли. У пустующего вигвама выставили часового, а нас, двоих англичан, ввели вовнутрь и привязали к толстым бревнам, которые индейцы обычно подкатывают вплотную к своим дверям, когда уходят из дома.
В деревне пировали; еще много часов после наступления ночи везде ярко пылали костры и раздавались взрывы хохота и громкие песни. Голоса женщин были мелодичны, нежны и печальны, и тем не менее они ждали завтрашнего дня как величайшего из праздников.
Я подумал о женщине, которая, бывало, пела тихо и сладостно в сумерках в Уэйноке и у камина в доме пастора. Наконец все шумы затихли, костры погасли, и деревня заснула под небесами, которые нынче, как видно, были довольно слепы и глухи.
Глава XXXI
В которой Нантокуас приходит нам на помощь
Тот, кто был солдатом и искал приключений в чужих дальних странах, наверняка встречался со смертью много раз и видел ее во многих обличьях. Я хорошо изучил ее грозный лик и не очень его боялся. И за уродливой маской, которую я видел пред собою сегодня, меня в конце концов ожидала все та же старая знакомая. Я не был малым ребенком, который хнычет, внезапно оказавшись в темной комнате, и мне не пристало жаловаться на занавес, который непреклонная рука опустит между мною и жизнью, которой я жил. Смерть не страшила меня, но когда я думал о той, которую должен был навеки покинуть, мне начинало казаться, что я сойду с ума. Если бы вся эта история приключилась со мною год назад, я бы спокойно проспал всю ночь до утра – но теперь, теперь…
Я лежал, привязанный к бревну перед открытой дверью, и, глядя в дверной проем, видел сосны, качающиеся под ночным ветром, и мерцание реки под звездами, а еще я видел ее, видел так же ясно, как будто она стояла под деревьями, освещенная полуденным солнцем. То она была Джослин Перси, которую я знал в Уэйноке, то в доме пастора, то в швыряемой бурей лодке, то на пиратском корабле, то в тюрьме Джеймстауна. Одна моя рука была свободна; я достал из-за пазухи камзола маленький лиловый цветок и прижал его к лицу. Цветок совсем уже увял, и жгучие слезы не могли вернуть его к жизни.
Ее лицо, то веселое, то дерзкое, то бледное и измученное, снова сменило выражение, и теперь я видел ее перед собой такой, какой она была в джеймстаунской тюрьме, когда прильнула к моей груди и посмотрела на меня главами, блестящими от любви и непролитых слез горя.
На земле Виргинии была весна, и вскоре придет лето, но не для нас. Я протянул руку к жене, которая была далеко-далеко, и сердце мое сжалось от отчаяния. Она была мне женой меньше года, и только на днях я узнал, что она меня любит.
Через какое-то время острота моих мук притупилась, и я продолжал лежать, подавленный и лишенный всякой надежды, думая о пустяках и считая звезды между верхушками сосен.
Медленно миновал еще один час, и мужество вернулось ко мне. Я подумал о Диконе, который оказался в этой переделке из-за меня, и спросил, как он. Он ответил мне с противоположной стороны вигвама, но едва первые слова слетели с его уст, в вигвам ворвался охранник и приказал нам замолчать. Дикон выругался, и дикарь ударил его. Услыхав, как он снова зашевелился, я спросил, сильно ли его поранили. Он ответил отрицательно, и больше мы с ним не говорили.
Теперь пространство перед вигвамом заливал ясный свет луны. Ночь клонилась к концу, мы уже могли ощущать в воздухе приближение утра – оно придет совсем скоро. Зная, как быстро оно близится и что принесут нам первые лучи зари, я постарался собрать все свое мужество, рожденное твердым духом христианина, а не суетной гордыней язычника.
При первых серых проблесках рассвета деревня внезапно проснулась, будто от побудки боевого горна. Из длинных общих вигвамов высыпали мужчины, женщины и дети, вспыхнули, разгоняя туман, многочисленные костры, и все селение наполнилось гамом человеческих голосов.
Женщины спешно принялись готовить и начали приносить маисовые лепешки и жареную на открытом огне рыбу воинам, сидевшим на земле перед королевским вигвамом. Нас с Диконом развязали, вывели наружу и выдали нам нашу долю пищи. Мы принялись за еду, сидя бок о бок со своими тюремщиками, и Дикон, у которого через весь лоб шла огромная ссадина, схватил индейскую девушку, которая подала ему блюдо рыбы, и, посадив ее рядом с собой, крепко поцеловал в губы, отчего та нисколько не рассердилась, а воины рассмеялись.
При обычном порядке вещей по окончании трапезы последовало бы курение табака. Но сегодня не была закурена ни одна трубка, и женщины поспешно унесли блюда и убрали все остатки завтрака.
Вождь паспахегов встал, сбросил свой плащ и заговорил. Это был мужчина в расцвете сил, высокий, сильный, как ирокез, и безмерно жестокий и хитрый даже для дикаря. На его груди, разрисованной причудливыми фигурами, висело ожерелье из мелких костей, а мокасины украшала бахрома из скальпов его врагов. Поскольку его племя жило ближе всего от Джеймстауна и часто вступало с нами в стычки, я не раз слышал его речи и хорошо знал, как он умеет распалять страсти своего народа. Ни один актер не владел так мимикой и жестом, ни один поэт не смог бы так тонко подобрать нужные слова, ни один военачальник не сумел бы так быстро и горячо воодушевить солдат, к которым обращался. Все индейцы красноречивы, но этот далеко превосходил всех.
И на сей раз его речь возымела желаемое действие. Начав с того дня в месяце цветов, когда крылатые каноэ впервые принесли белых людей на земли Паухатана, он продолжал описывать год за годом, дошел до нынешнего часа и сделал паузу, наблюдая свой полный и безграничный триумф. Его слушателей охватило такое неистовство, что они были готовы покончить с нами тотчас же, здесь и сейчас. Мы в свою очередь вскочили на ноги и стояли, прислонясь спинами к огромному лавру, лицом к лицу с беснующейся толпой. Настолько лучше было бы для нас, если бы томагавки, отведенные назад для бросков, полетели в цель, если бы ножи, направленные нам в лица, вонзились по рукоятки в наши сердца, что мы нарочно звали смерть, изо всех сил стараясь взглядами и словами разъярить наших палачей до такой степени, чтобы они забыли о своем первоначальном намерении и осуществили месть немедля. Но этому не суждено было сбыться. Вождь заговорил опять, показывая рукой на холмы с возвышающимися над ними черными зданиями, едва различимыми в рассветной дымке. Мгновенно – и руки, сжимавшие оружие, опустились, еще мгновение – и мы отправились в путь.
Все как один жители деревни двинулись через лес к холмам, до которых было не больше нескольких полети стрелы. Молодые паспахеги понеслись вперед, чтобы участвовать в приготовлениях, но бывалые воины и старики продолжали идти мерно и степенно, и вместе с ними шли мы с Диконом, шагая так же спокойно, как и они. Женщины и дети в основном шли сзади, хотя пара-тройка нетерпеливых старух пробежала мимо нас, обзывая мужчин черепахами, которые никогда не достигнут цели. Одна из этих женщин несла огромный факел, и пока она бежала, за ней тянулась полоса пламени и дыма. Другие старухи тащили куски коры, доверху наполненные острыми сосновыми щепками, запас которых хранился в каждом вигваме.
Солнце еще не взошло, когда мы достигли лощины между невысокими холмами. Над нашими головами возвышались три длинных дома, в которых индейцы хранили изображение Оуки и мумии своих королей. Святилища, обращенные фасадами к алеющему востоку, все еще окутывал туман. Омерзительного вида жрецы, сплошь размалеванные причудливыми узорами, с повязанными на головах чучелами змей, яростно потрясая погремушками, выбежали из дверей храмов, бросились нам навстречу и принялись плясать вокруг нас, извиваясь всем телом, вздымая руки и производя при этом адский шум. Дикон уставился на них, пожал плечами и, презрительно крякнув, сел на поваленное дерево, чтобы лучше наблюдать маневры наших врагов.
Место, куда нас привели, представляло собой природный амфитеатр и отлично подходило для предстоящего здесь зрелища. Те из индейцев, которые не могли втиснуться в узкую лощину, разошлись по склонам холмов и со свирепым смехом наблюдали оттуда за вкапыванием в землю пыточных столбов, которые принесли с собою те, кто был помоложе. Женщины и дети рассыпались по лесу, видневшемуся за впадиной между холмами, и вскоре вернулись, неся огромные охапки сухих сосновых веток. Разгоряченные зрители шумно выражали свое ликование. Издевательский смех, крики неистового торжества, треск погремушек, яростный бой двух громадных барабанов – все это сливалось в оглушительный гвалт, притупляющий сознание. А высоко над ложбиной между холмов гневно рдели небеса, и белая дымка поднималась вверх, скручиваясь, словно струйки дыма.
Я присел рядом с Диконом на бревно. Под ним пучками росли бледно-голубые цветы с тонкими стебельками. Я сорвал несколько цветков и представил себе, какими голубыми выглядели бы они на белой коже ее ладони; но затем уронил их, внезапно устыдясь, что я так много думаю о земном и так мало о небесном. Мы с Диконом не заговаривали друг с другом: в разговорах не было смысла. В аду кромешном, до которого сузился для нас весь мир, лишь одно было понятно и неизбежно – то, что нам с ним предстояло умереть вместе.
Пыточные столбы были уже вкопаны в землю и выкрашены в красный цвет, и хворост под ними аккуратно уложен. Индианка, державшая факел, который должен был зажечь костер, пробежала мимо нас, крутя его над головой, чтобы пламя разгорелось ярче. Пробегая мимо меня, она остановилась и медленно провела огнем по моим запястьям. Бой барабанов внезапно смолк, и громкие голоса стихли. Для индейцев нет музыки слаще, чем крик врага; а если они исторгли его у человека смелого, который прилагал все силы, чтобы стерпеть боль, то тем лучше. Теперь все они молчали, потому что не хотели пропустить даже чересчур шумного вздоха.
Видя, что они подходят все ближе, мы с Диконом встали. Когда они подошли к нам вплотную, я повернулся и протянул Дикону руку. Он даже не пошевелился, чтобы пожать ее. Вместо этого он стоял, уставившись в одну точку – мимо меня и немного вверх. Его бронзовое от загара лицо покрыла внезапная бледность.
– Мне припоминается какой-то стих, – тихо вымолвил он. – Думаю, он из Библии. Я слышал его как-то раз еще до того, как пошел по кривой дорожке: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». [133]133
Псалтирь. Псалом 120:1
[Закрыть]Смотрите, сэр!
Я повернулся и последовал взглядом за движением его пальца. Перед нами берег круто подымался, и на всем этом пространстве до самой вершины холма не было деревьев: одна только красная земля да низкая поросль голых кустов. За возвышенностью простирался залитый солнцем восточный край неба. На самом гребне холма, на фоне восхода стоял человек – то был индеец. С одного его плеча свисала шкура выдры, в руке он держал длинный лук. Руки и ноги его были обнажены, и, стоя неподвижно, омытый розовым светом зари, он походил на какое-то совершенное бронзовое божество – от расшитых бисером мокасин до спокойного непроницаемого лица под венцом из перьев. Он только что вышел из-за бровки холма, и индейцы в лощине еще не видели его.
Пока мы с Диконом смотрели вверх, наши мучители бросились на нас. Их было с дюжину или больше, а мы оба были безоружны. Двое повисли на моих руках, оттягивая их к низу, третий взялся за ворот камзола, чтобы сорвать его с меня, и тут над нашими головами просвистела стрела и вонзилась в стоящее за нами дерево. Руки, схватившие меня, вдруг разжались, и с громогласным воплем волнующаяся толпа повернулась туда, откуда прилетела стрела.
Индеец, пустивший ее, чтобы возвестить о своем прибытии, спускался по склону к лощине. Темные фигуры, пригнувшиеся, чтобы ринуться вперед, выпрямились и расслабились. Секундное молчание, когда все затаили дыхание, рассматривая одинокую фигуру, взорвалось криками: «Сын Паухатана! Сын Паухатана!»
Он сошел в лощину, и непререкаемая властность его лица и жестов заставили толпу качнуться то в одном направлении, то в другом и, наконец, расступиться и пропустить его к тому месту, где стояли мы. Индейцы по-прежнему обступали нас со всех сторон, но больше не хватали нас за одежду и не висели у нас на руках.
– На сей раз это был очень большой волк, капитан Перси, – сказал Нантокуас.
– Я никогда еще не был так рад твоему появлению, Нантокуас, если только волк не собирается нынче позавтракать троими вместо двоих.
Он улыбнулся:
– Сегодня волку придется поголодать.
Взяв меня за руку, он повернулся к своим нахмурившимся собратьям.
– Воины с берегов Паманки! – воскликнул он. – Этот человек – друг Нантокуаса, а это значит, что он друг и всех тех, которые называли Паухатана отцом. Костер не для него и не для его слуги; держите его наготове для монаканов и для собак из длинного дома [134]134
Имеются в виду ирокезы, жившие в длинных вигвамах.
[Закрыть]. А для друга Нантокуаса – трубка мира, танец девушек, лучший молодой олень и самая жирная рыба из верш.
Все индейцы, как один, подались вперед с яростным ропотом недовольства. Их вождь вышел из толпы соплеменников и заговорил:
– Было время, когда Нантокуас был пумой, притаившейся в ветвях над вожаком стада оленей, но теперь Нантокуас – ручная пума, валяющаяся в ногах у белых людей! Были времена, когда одно слово сына Паухатана весило больше жизни многих собак, таких, как эти двое, но нынче мне неведомо, почему по его приказу мы должны потушить костры вокруг столбов. Он более не военачальник, ибо Опечанканоу не поставит во главе своих воинов ручную пуму бледнолицых. Наш верховный вождь – Опечанканоу, и скоро он разожжет невиданное доселе пламя. А нашему огню мы скормим то, что посчитаем нужным, и сегодня вечером Нантокуас может поискать в золе кости этих белых!
Он умолк, и тут же из толпы раздались громкие крики одобрения. Паспахеги набросились бы на нас опять, если бы Нантокуас, стоявший во время всей издевательской речи вождя неподвижно, с гордо поднятой головой и каменным лицом, не вскинул вверх руку с зажатым в ней золотым браслетом в виде свернувшейся змеи, украшенной большим зеленым камнем. Мне никогда не приходилось видеть эту вещицу прежде, но, по-видимому, остальным она была знакома. Возбужденные голоса затихли, и все индейцы: и паспахеги, и паманки – застыли, словно обратившись в камень.
Нантокуас холодно улыбнулся.
– Сегодня Опечанканоу вновь назначил меня военачальником. Мы вместе – брат моего отца и я – выкурили трубку мира, сидя под светом звезд у его вигвама, и внизу, под нашими ногами, темнели болота и текла река. Многие пели ему в уши против меня, но он не стал слушать их лживых песен. Мои друзья – его друзья, мой брат – его брат, мое слово – его слово; залогом тому служит этот браслет для ношения выше локтя, равного которому нет. Его Опечанканоу принес с собою, когда пришел из никому неведомой страны на земли паухатанов много весен назад. Никто из белых людей, кроме этих двоих, его не видел. Опечанканоу уже близко. Он идет сюда с двумя сотнями воинов, высокими, как сасскеханноки и храбрыми, как сыновья Вахунсонакока [135]135
Вахунсонакок – настоящее имя верховного вождя Паухатана, отца Покахонтас. Паухатан – географическое и этническое название ошибочно перенесенное на вождя конфедерации 30 индейских племен, населявших 128 деревень на востоке Виргинии и на юге Мэриленда.
[Закрыть]. Опечанканоу придет к святилищам, чтобы помолиться Кивассе о хорошей охоте. Хочешь ли ты, чтобы он спросил тебя, когда ты будешь лежать у него в ногах: «Где друг моего друга, моего военачальника Пумы, с которым мы вновь стали одним целым?»