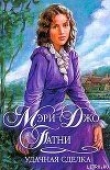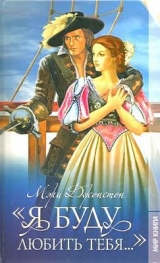
Текст книги "Я буду любить тебя..."
Автор книги: Мэри Джонстон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Из толпы индейцев послышался долгий глубокий вздох, затем наступила тишина, и они отодвинулись назад, медленно и с недовольным видом – точно собаки, побитые хозяином, но готовые порвать поводки страха при первом проявлении слабости.
– Прислушайтесь, – сказал Нантокуас улыбаясь, – и вы услышите, как шуршат прошлогодние листья под ногами Опечанканоу и его воинов.
И правда, из леса за холмами доносился шум сотен шагов. Жрецы и шаман паманки с приветственными криками бросились туда, чтобы уверить царственного богомольца в том, что Оуки будет к нему благосклонен. За жрецами и шаманом последовали самые уважаемые воины и старики паманки. Вождь паспахегов повел себя подобно флюгеру: сначала он прислушался к все приближающемуся топоту шагов, взглянул на спокойное и уверенное лицо сына Паухатана, затем придал своим чертам выражение безмятежности и произнес умиротворяющую речь, в которой главная вина за недавние события была возложена на певчих птиц, которые желали паспахегам зла. Когда он закончил, молодые индейцы вырвали из земли пыточные столбы, зашвырнули их в заросли подлеска, а женщины разбросали зажженный хворост и кинули горящие головешки в протекавший неподалеку ручей, где они погасли в клубах свистящего пара.
Я повернулся к индейцу, которому мы были обязаны своим чудесным спасением.
– Нантокуас, ты уверен, что это не сон? По-моему, Опечанканоу и пальцем не пошевельнет, чтобы спасти нас от пыток и казней, которые придумают для нас племена.
– Опечанканоу очень мудр, – ответил он тихо. – Он сказал мне, что теперь, когда он докажет, что ему дорог даже тот, кого можно назвать его врагом, тот, кто не раз выступал против мира с ним на советах белых людей, англичане уверятся, что он истинно любит их. Он сказал, что в течение пяти солнц капитан Перси будет пировать с Опечанканоу, а потом его отправят обратно в Джеймстаун. Он полагает, что после этого капитан Перси перестанет высказываться против дружбы с ним, называя его любовь к белым людям всего лишь пустыми словами, не подкрепленными делом.
Он говорил безыскусно, и в каждом его слове сквозило благородство его натуры и непоколебимая вера в то, что он говорил. Я, который был старше и лучше знал людей и маски, которые они носят на своих лицах, поверил речам Опечанканоу лишь наполовину. Моя вера в то, что темный властитель индейцев нас ненавидит, ничуть не поколебалась, и я – пока тщетно – пытался найти каплю яда в протянутом им медоносном цветке. Видит Бог, я и представить себе не мог, как отравлено это растение!
– Когда ты пропал три солнца назад, – продолжал Нантокуас, – мы с моим братом пошли по твоему следу до хижины на опушке леса, но не нашли там ничего, кроме мертвой пумы. Там, у выхода, мы наткнулись на след паспахегов, но вскоре добрались до ручья, где след оборвался.
– Мы шли по руслу этого ручья полночи, – сказал я.
Индеец кивнул.
– Я знаю. Мой брат вернулся обратно в Джеймстаун, чтобы собрать лодки, людей и ружья для похода в деревню паспахегов и дальше, вверх по реке Паухатан. Я же, кому не нужно ружье и кто не станет драться против собственного народа, двинулся вверх по течению ручья и шел по нему, покуда солнце не начало клониться к закату. Тогда я обнаружил надломленную ветку и след мокасина, наполовину прикрытый кустом, который, должно быть, не заметили, когда стирали с песка остальные следы. Тогда я оставил русло ручья и пошел дальше по следу, пока он снова не прервался у реки. Я более не стал искать его продолжения, ибо понял, что паспахеги обратили свои лица к Уттамуссаку и что там, в лощине между тремя святилищами, где уже горело множество костров, они разведут новый. И я свернул со своего пути и спешно отправился на поиски Опечанканоу. Вчера, когда солнце стояло уже низко, я нашел его – он сидел в вигваме над болотами и желтой от солнца рекой. Мы выкурили трубку мира, и он снова назначил меня своим военачальником. Я попросил у него змейку с зеленым камнем, чтобы показать ее паспахегам как знак его доверия. Он дал мне ее, но пожелал отправиться в Уттамуссак вместе со мной.
– Я обязан тебе жизнью… – начал было я.
Он легким жестом прервал мою речь.
– Капитан Перси мой друг. Мой брат любит его, и он был добр к моей сестре Покахонтас, когда она была пленницей в Джеймстауне. Я рад, что смог отогнать от него нынешнего волка.
– Скажи мне вот что, – попросил я. – Перед тем как ты покинул Джеймстаун, слышал ли ты что-либо о моей жене и моем враге?
Он покачал головой.
– На восходе комендант пришел в дом моего брата и разбудил его, крича, что ты сбежал из тюрьмы и что твой враг лежит в доме для гостей, весь изодранный каким-то лесным зверем. Мы с моим братом тотчас же пошли по твоему следу; город еще не проснулся, когда мы оставили его, и с тех пор я туда не возвращался.
К концу его рассказа мы остались в лощине втроем, ибо все дикари – и мужчины, и женщины – поспешили навстречу своему императору, слово которого было законом для всех племен от великого водопада на далеком западе до Чесапикского залива. Солнце только что поднялось над низкими холмами, заливая своим золотистым светом и лощину, и все, что ее окружало. Вода в ручейке засверкала точно бриллианты, а деревянные истуканы, украшавшие черные святилища, больше не казались устрашающими. Нигде не ощущалось ни малейшего признака угрозы: ни в безоблачных небесах, ни в доносившемся из леса сладостном и жалобном молитвенном песнопении к Кивассе, которое выводили женщины паманки. Пение приближалось, и шуршание прошлогодних листьев под множеством ног становилось все явственнее; затем весь этот шум разом затих, и Опечанканоу вступил в лощину в одиночестве. В прядь волос, оставленную на его бритой голове, было воткнуто орлиное перо, на обнаженной груди, не тронутой ни краской, ни татуировкой, висели три нитки жемчуга; его мантия была сплетена из перьев мелких певчих птиц с голубыми спинками и казалась мягкой и блестящей как атлас. Лицо этого императора варваров было темно, холодно и бесстрастно, как лик смерти. За этой никогда не меняющейся непроницаемой маской, будто в безопасном убежище, этот человек – дьявольски хитрый и коварный – мог подводить под нас невидимые подкопы, замышляя пашу погибель. Он обладал мужеством и чувством собственного достоинства – этого у него было не отнять. Думаю, он и ведомые им племена считали, что мы, англичане, причинили им немало обид: Бог знает, возможно так оно и было. Однако, если когда-либо мы и вели себя сурово или несправедливо в наших отношениях с дикарями – а я этого не утверждаю, – то по крайней мере в наших действиях не было коварства, и мы не раздавали поцелуев Иуды.
Я выступил вперед и встретил его на том самом месте, где был разложен костер. Минуту мы оба молчали. Истинной правдой было то, что я много раз высказывался против него, и он это знал. Также истинно было и то, что без его помощи Нантокуас не сумел бы спасти нас от верной смерти. И еще одной истиной было то, что индеец никогда ничего не прощает и не забывает. Он был моим спасителем, и я знал, что милосердие он явил по какой-то ведомой ему одному таинственной причине, которую я не мог постичь. Однако я должен был выказать ему благодарность и выразил ее так просто и кратко, как только мог.
Он выслушал меня без удовольствия и без неприязни, и никакие иные чувства не запечатлелись на его лице, и лишь когда я закончил, он, будто пробудившись ото сна, улыбнулся и протянул мне руку, как сделал бы белый.
Когда чьи-то губы растягиваются в улыбке, я всегда смотрю этому человеку в глаза. Глаза Опечанканоу были так же непроницаемы, как полночное озеро, а веселья или дружелюбия в них было не больше, чем в широко раскрытых глазах демонов, вырезанных из дерева на углах святилищ.
– Певчие птицы напели ложь в уши капитану Перси, – произнес он, и его голос был подобен его взгляду. – Опечанканоу полагает, что капитан Перси более не будет слушать их лживое пение. Вождь паухатанов любит белых людей: и англичан, и других белых, если они существуют. Он назовет англичан своими братьями и научится от них, как править и кому молиться.
– Пусть Опечанканоу пойдет со мною нынче в Джеймстаун, – ответствовал я. – Ему ведома мудрость лесов – пусть же он познает мудрость города.
Император снова улыбнулся.
– Я приду в Джеймстаун уже скоро, но не сегодня, и не завтра, и не послезавтра. А капитан Перси будет должен выкурить со мною трубку мира на берегу Паманки и будет пять дней пировать со мною и смотреть, как танцуют молодые воины и индейские девы. Потом он сможет отправиться в Джеймстаун с дарами для великого белого отца и с посланием от Опечанканоу, что он скоро явится сам, чтобы поучиться у белых людей.
Я мог бы скрежетать зубами от этого промедления из-за этих пяти дней, когда она будет считать меня мертвым, но было бы верхом глупости и чистым безумием выказать нетерпение, которое меня снедало. Я тоже умел улыбаться одними губами, когда того требовали обстоятельства, и пить горькое питье так, словно это напиток богов. С самым что ни на есть веселым видом и без особых опасений мы с Диконом последовали за хитроумным императором, его молодым военачальником, которого он снова привязал к себе незримой нитью, и их свирепой свитой обратно в деревню, которую мы не чаяли когда-либо увидеть вновь. Мы пробыли там день и ночь, затем Опечанканоу отослал паспахегов прочь – куда, он нам не сказал – и вместе с нами направился в свою собственную деревню, располагавшуюся вверх по течению от великих болот Паманки.
Глава XXXII
В которой мы гостим у императора
Мне и прежде случалось проводить по нескольку дней и ночей среди индейцев в качестве исследователя, завоевателя и переговорщика, когда мы меняли голубые бусы на еду – кукурузу и индеек. Тогда со мною всегда были и другие англичане. Хорошо представляя себе, что мы имеем дело с язычниками, коварными и свирепыми, которые сегодня набиваются в друзья, а завтра станут злейшими врагами, мы держали мушкеты наготове, смотрели в оба и, тешась остротой риска и новизной противника и обстановки, ухитрялись получать от этих кратких визитов не только выгоду, но и немалое удовольствие. Но сейчас все было иначе.
День за днем я изнывал от тревоги в проклятой деревне Опечанканоу. Пиры, охота и ликование всей деревни после удачной охоты, буйные песни и еще более буйные пляски, фантастическое ритуальное фиглярство, внезапные вспышки ярости и столь же внезапные взрывы хохоча, громадные костры, вокруг которых сидели размалеванные воины, бессонные часовые, обширные болота, через которые невозможно было пройти ночью, мертвые листья, громко шуршавшие даже от самого легкого шага, однообразные дни, нескончаемые ночи, когда я думал о ее горе и об опасности, которая, быть может, ей грозила, – все это было как дурной сон, от которого я не мог очнуться.
Суждено ли нам когда-нибудь пробудиться? Может быть, от этого сна мы перейдем к более глубокому, от которого не будет пробуждения? Каждое утро я задавал себе вопрос: а не окажемся ли мы снова в лощине между холмами, прежде чем придет ночь? Ночь приходила, а в нашем причудливом сновидении все оставалось по-прежнему.
Должен признать, что загадочный император, которому мы были обязаны жизнью, принимал нас как дорогих гостей. Самые лучшие куски мяса убитых на охоте животных доставались нам, самая вкусная рыба, самые нежные корешки. Шкуры, на которых мы спали, были легкими и пушистыми, женщины прислуживали нам усердно, а старики и воины вели с нами бесчисленные торжественные беседы, сидя под распускающимися деревьями в клубах голубого табачного дыма. Мы были живы и в добром здравии, с нами учтиво обращались и вскоре обещали отпустить; мы могли бы ждать – ибо нам не оставалось ничего другого – в относительном довольстве, но ни малейшего довольства не было в наших сердцах. В воздухе был разлит ужас. Он словно невидимое испарение подымался от зеленеющих болот, от медленно несущей свои воды реки, от гниющих листьев, от стылой черной земли и обнаженного леса. Мы не знали, в чем его суть, но он пробирал нас до мозга костей.
Все это время Опечанканоу мы видели редко, хотя нас поселили в такой близости от него, что его часовые охраняли и нас. Словно некое божество, он скрывался в самых глубинах своего вигвама с его извилистыми коридорами и висячими циновками, отгораживающими его от остального мира. Иногда, выходя из своего затворничества, он отправлялся прямиком в лес. Вместе с ним уходили лучшие воины, но по возвращении они не приносили с собой добычи и не приводили пленных. Что они делали в лесу, мы не знали. Будь с нами Нантокуас, он бы сильно скрасил наше пребывание в деревне Опечанканоу, но утром того дня, когда мы прибыли в деревню, император отправил его послом к рагшаханнокам, и на четвертое утро нашего пребывания у Опечанканоу, когда восход снова озарил черный голый лес, он еще не вернулся. Если бы бегство было возможно, мы с Диконом не стали бы ждать, когда Опечанканоу исполнит свое сомнительное обещание, данное нам среди святилищ Уттамуссака. Но бдительность индейцев не знала сна: они следили за нами и день и ночь. А были еще сухие листья, которые предательски шуршали при малейшем движении, а еще надо было пересечь болота и переплыть реку…
Так томительно протекли четыре дня, а ранним утром пятого, едва выйдя из нашего вигвама, мы обнаружили Нантокуаса, который сидел, великолепный в своей раскраске и нарядной амуниции посла, недвижный, как бронзовая статуя, и не обращающий ни малейшего внимания на восхищенные взгляды женщин, что стояли на коленях вокруг нашего костра, готовя нам завтрак. Увидев нас, он встал, чтобы поприветствовать нас, и я крепко обнял его – так рад я был увидеть его снова.
– Раппаханноки устраивали пиры в мою честь очень долго, – сказал он, – и я уже начал бояться, что капитан Перси уйдет в Джеймстаун до того, как я вернусь на берега Паманки.
– Увижу ли я когда-нибудь Джеймстаун вновь, Нантокуас? – спросил я. – Меня одолевают сомнения.
Он посмотрел мне в глаза, и взгляд его был так же прям и искренен, как и всегда.
– Вы уйдете завтра на рассвете, – ответил он. – Опечанканоу дал мне слово.
– Я рад это слышать. Но для какой надобности нас задержали тут вообще? Почему он не освободил нас еще пять дней назад?
Нантокуас покачал головой:
– Я не знаю. У Опечанканоу в голове много разных мыслей, которые он не открывает никому. Но завтра он отошлет вас в Джеймстаун с дарами для губернатора и с уверениями в своей любви к людям с белой кожей. Сегодня будет дан большой пир, а вечером для вас будут танцевать юноши и девушки. Поутру вы отправитесь в путь.
– А ты разве не отправишься с нами? – спросил я. – Мы всегда рады видеть тебя, Нантокуас, и в память о твоей сестре, и ради тебя самого. Ролф возликует, увидев тебя снова: он все время ревнует тебя к лесу.
Он снова покачал головой.
– Нантокуас, сын Паухатана много думал в последнее время, – сказал он просто. – Уклад жизни и обычаи белых людей казались ему очень хорошими, и он знает, что Бог белых людей сильнее, чем Оуки, он добр и милосерден, не то что Оуки, который высасывает кровь детей. Помнит он и Покахонтас, которая любила белых людей и заботилась о них, и плакала, когда им грозила опасность. Думает он и о Ролфе, ибо Ролф – его брат и учитель. Но Опечанканоу – его король, люди с красной кожей – его народ, а лес – его дом. Если оттого, что он любит Ролфа и пути белых людей кажутся ему лучше собственных, он забыл все это, значит, он не прав. Всевышний недоволен им. Теперь Нантокуас вновь вернулся домой, в лес, к охоте, к тропе войны и к королю своего народа. Он снова станет пумой, притаившейся в ветвях…
– Над головами белых людей?
Он посмотрел на меня молча, и на лицо его набежала тень.
– Над головами монаканов, – медленно вымолвил он. – Почему капитан Перси сказал: «над головами белых людей»? Опечанканоу и англичане навеки зарыли топор войны, и дым от трубки мира никогда не рассеется. Нантокуас хотел сказать: над головами монаканов и собак из длинного дома.
Я положил руку ему на плечо.
– Я знаю, ты так и думал, брат Ролфа, если не по крови, то по духу. Забудь мои слова, я сказал их не подумав. Если мы и вправду отправимся завтра, мне будет тяжело расстаться с тобой, но, будь я на твоем месте, я поступил бы так же.
Тень, омрачившая его лицо, исчезла, плечи расправились.
– Это и есть то, что ты разумеешь под верностью, преданностью и рыцарским духом, не так ли? – спросил он, и в речи его, медленной и степенной, как у всех индейцев, прозвучала едва уловимая пылкая нотка.
– Да, – ответил я. – Я считаю, что ты, Нантокуас, настоящий рыцарь. А кроме того, ты мой друг, который спас мне жизнь.
Он улыбнулся, его улыбка была похожа на улыбку его сестры: такая же краткая, сияющая, и так же, как у нее, мгновенно сменяющаяся полнейшей серьезностью. Мы вместе сели у костра и принялись за непритязательный завтрак, во время которого нам прислуживали робкие смуглые девы, а с неба сквозь опушенные первой зеленью ветви деревьев лился яркий солнечный свет. Я не мог не улыбаться, глядя, как индейские девушки стараются предложить молодому вождю самые отборные куски мяса и самые вкусные маисовые лепешки, и как спокойно он отвергает их благосклонность. Когда трапеза завершилась, он ушел, чтобы смыть с себя красную и белую краску, снять головной убор, состоящий из чучела сокола и нескольких ниток медных бус, а также великолепный пояс, колчан и плащ, сшитый из шкурок енота. Тем временем мы с Диконом уселись перед нашим вигвамом, куря трубки и прикидывая расстояние, отделяющее нас от Джеймстауна, и кратчайший срок, за который его можно преодолеть.
Когда мы просидели так около часа, к нам явились с визитом старики и воины; теперь курение трубок должно было начаться сызнова. Женщины разложили большим полукругом циновки, и каждый дикарь уселся, явив при сем безукоризненную благовоспитанность – то есть в абсолютном молчании и с каменным лицом. Все они были размалеваны краской мира: красной или красной и белой; и все сидели, вперив глаза в землю, покуда я не произнес приветственную речь. Вскоре после этого воздух наполнился ароматным табачным дымом; в густой голубоватой мгле полукруг из раскрашенных человеческих фигур казался неким фантастическим сном. Один из стариков встал и сказал длинную и трогательную речь, многажды упомянув при этом выкуренные трубки мира и зарытые топоры войны. Когда он закончил, один из вождей заговорил о любви Опечанканоу к англичанам, «высокой, как звезды, глубокой, как Попогуссо, и необъятной, как небо от восхода до заката», присовокупив к этому, что смерть Нематтанау в минувшем году и распри по поводу охотничьих угодий не возбудили в сердцах индейцев желания отомстить. На этом куда как правдоподобном заверении он закончил свое выступление, и все индейцы молча уставились на меня, ожидая ответных медоточивых речей. Эти паманки, живущие вдалеке от наших поселений, почти не знали английского; познания паспахегов были лишь немногим больше. Посему я продекламировал им большую часть седьмой песни части второй поэмы мастера Спенсера «Королева фей». Затем я поведал им историю венецианского мавра, а закончил рассказом капитана Смита о трех головах турок.
Все это было воспринято как нельзя лучше. Когда индейцы наконец ушли, чтобы поменять раскраску тела для предстоящего пира, мы с Диконом посмеялись над своим дурачеством, как будто, кроме нас двоих, никто больше не умел играть словами. Мы были беспечны и веселы как дети – да простит нас за это Бог!
День тянулся медленно, с нескончаемой переменой блюд, каждое из коих мы должны были хотя бы отведать, с бесконечным курением трубок и речами, которые надо было выслушивать, а потом непременно отвечать. Когда наступил вечер и наши гостеприимные хозяева удалились, дабы приготовиться к пляске, мы были так утомлены, будто целый день прошагали пешком.
Весь день в деревьях шумел сильный ветер, но с заходом солнца он стих, превратившись в горестный шепот. Небо окрасилось тем же странным малиновым цветом, который я видел в Уэйноке в минувшем году. На этом фоне сосны были словно нарисованы чернилами, а узкие извилистые ручейки, пронизывающие болота, походили на струйки крови, которые медленно стекают в реку, черную там, где ее затеняли сосны, красную там, где ее касались лучи заката. Из глубины болот донесся крик какой то большой птицы, и было в нем что-то одинокое и зловещее, словно голос трубы, что играет над павшими на поле боя. Потом небо померкло и стало пепельно-серым, разом похолодало, и в воздухе разлилась какая-то давящая тяжесть, проникающая в самую душу. Дикон вдруг резко вздрогнул, беспокойно заворочался на бревне, которое служило ему ложем, и что-то забормотал.
– Тебе холодно? – спросил я.
Он покачал головой.
– Да нет, просто что-то дрожь пробирает. Я бы с радостью отдал все пиво, которое от начала времен сварили эти язычники, за один глоточек доброго бренди.
В центре деревни высилась огромная куча бревен и сухих веток, которую натаскали за день женщины и дети. Когда стемнело и в лесу заухали совы, ее подпалили и огонь осветил всю деревню из конца в конец. Стоящие там и сям вигвамы, подмостки, на которых сушили рыбу, высокие стройные сосны и раскидистые тутовые деревья – все это разом высветилось, когда пламя с ревом взметнулось до самой высокой безлистной кроны. Теперь деревня светилась, как зажженная лампа, поставленная среди мертвой черноты леса и болот. Опечанканоу, сопровождаемый двумя десятками воинов, вышел из леса и остановился подле меня. Я встал, дабы приветствовать его, ибо он был император, хотя в то же время – язычник и дикарь.
– Передай англичанам, что Опечанканоу стареет, – сказал он. – Годы, которые раньше были для него как капли росы на маисе, теперь подобно граду прибивают его к земле, из которой он вышел. Рука его уже не так быстра и сильна, как прежде. Он стар; тропа войны и танец скальпов более не услаждают его сердце. Он хочет умереть в мире со всеми. Передай это англичанам, а еще скажи им, что Опечанканоу знает, что они добры и справедливы, что они не относятся к людям с иным цветом кожи, как к детям, которых можно обмануть с помощью игрушек, а потом, когда они начнут мешать, убрать их со своего пути. Здешняя земля просторна, и в ней много охотничьих угодий. Пусть же люди с красной кожей, которые жили здесь столько лун, сколько летом бывает листьев на деревьях, и люди с белой кожей, которые прибыли сюда вчера, живут бок о бок в мире, деля маисовые поля, запруды с рыбой и охотничьи угодья.
Он не стал ждать моего ответа, но прошел дальше, и в его величавой фигуре и медленной твердой поступи не было ни малейшего признака старости. Я хмуро смотрел, как его вигвам поглотил его и воинов, и ни на секунду не поверил этому хитрому дьяволу.
Мы сидели, уставясь на огонь костра, когда нас внезапно обступила стайка девушек, вышедших из леса. Они были разрисованы краской, с оленьими рогами на головах и сосновыми ветками в руках. Они танцевали вокруг нас, то придвигаясь, пока темно-зеленые иголки не смыкались у нас над головами, то расходясь, так что нас и их разделяла полоса травы. Их стройные тела блестели в свете костра; они двигались грациозно, в такт жалостной песни, то распеваемой хором, то выводимой одним-единственным голосом. Так некогда танцевала перед англичанами и Покахонтас, танцевала много раз. Я подумал об этой милой девушке, о ее огромных удивленных глазах, о безвременной и печальной ее кончине, о том, как любила она Ролфа и как счастливы они были в своем коротком супружестве. Оно расцвело, такое же прекрасное и такое же недолговечное, как роза, которая, едва распустившись, увядает, оставляя после себя лишь память об ушедшей красе. Смерть труслива, она обходит стороной мужчин, бросающих ей вызов, и поражает молодых, красивых и невинных…
Нескончаемое лицедейство сегодняшнего дня утомило нас; к тому же струны наших душ были напряжены, ибо мы желали как можно скорее узнать, что же произошло в Джеймстауне с тех пор, как мы покинули тюрьму, Душевный подъем, который мы чувствовали какое-то время назад, прошел совершенно. Теперь и жалостная песня, и раскачивающиеся фигуры танцовщиц, и то и дело освещающий силуэты деревьев красный свет, и черный саван леса, и тихий горестный шум ветра – все это казалось чужим и вместе с тем таким омертвело древним, как будто мы видели и слышали это с сотворения мира. И вот внезапно на меня напал страх, страх беспричинный и неразумный, который, однако, тяжким камнем лег мне на сердце. Она была в городе, под защитой палисада, под покровительством губернатора, ее окружали мои друзья, а враг мой лежал больной и неспособный причинить ей вред. Опасность грозила не ей, а мне. Я посмеялся над собою, но все же на душе у меня было тягостно, и помышлял я лишь о том, чтобы поскорее пуститься в путь.
Между тем индейские девушки все ускоряли и ускоряли свой танец и теперь уже пели по-другому: весело, пронзительно и красиво. Звуки песни становились все выше и выше, смуглые руки и ноги двигались все быстрее и быстрее; затем, совершенно внезапно, и пение и пляски прекратились. Те, кто только что плясали дерзко и исступленно, словно жрицы какого-то буйного божества, снова превратились в робких смуглых индейских дев, которые смиренно отошли от нас и сели на траву под деревьями. Из темноты раздался взрыв диких воплей, лишь чуть менее устрашающий, чем военный клич. Один миг – и все воины деревни выбежали из тени деревьев и заполнили все пространство, освещенное костром. Они то окружали нас, то плясали вокруг костра, то каждый из них кружился вокруг своей оси, притоптывая и бормоча что-то себе под нос. Большинство из них были разрисованы красным, но некоторые, словно ожившие статуи, выкрасились в белое с головы до пят; были и такие, что натерлись жиром и налепили на него мелкие разноцветные перья. Из-за высоких головных уборов все они казались великанами и все походили на демонов, прыгающих и выплясывающих при свете костра. Как и девушки, они тоже пели, но напев их был груб и прерывался устрашающими воплями. Из хижины позади нас выбежали двое или трое жрецов, шаман и более двух десятков стариков. В руках у них были индейские барабаны, в которые они неистово колотили, и длинные, сделанные из тростника трубы, которые гудели так же воинственно. Старики несли надетое на кол изображение Оуки – чудовищное творение из набитых чем-то шкур и звякающих медных цепей. Когда они присоединились к воинам, пляшущим в свете костра, шум сделался оглушающим. Кто-то подкинул еще бревен в костер, и стало светло как днем. Опечанканоу в круге огня не было, как не было и Нантокуаса.
Мы с Диконом наблюдали за этим грубым зрелищем, как за любым другим увеселением виргинских индейцев – с отвращением и утомлением. Мы знали, что оно продлится большую часть ночи. Оно устраивалось в нашу честь, и какое-то время мы должны были сидеть и выказывать свое удовольствие; но по истечении некоторого срока, когда они напоются и напляшутся до того, что забудут о нашем присутствии, мы сможем уйти спать, и единственными зрителями песен и плясок воинов останутся женщины и дети. Мы ждали этого момента с нетерпением, хотя и не показывали своих чувств толпившимся вокруг нас танцорам и певцам.
Время шло, шум усиливался, и пляски становились все бешенее. Танцоры наносили друг другу удары, прыгая и крутясь вокруг своей оси, по их телам струился пот, а из глоток вырывались хриплые животные крики.
Костер, в который все подбрасывали свежие дрова, ревел и трещал, насмехаясь над безмолвными звездами. Стволы и ветви сосен казались бронзово-красными, лес вокруг был черен, как смерть. Все звуки, доносящиеся из болот и леса, тонули в визге труб, диких воплях и грохоте барабанов.
Из рядов примостившихся под соснами женщин доносились пронзительный смех и хлопанье в ладоши. Они сидели и стояли на коленях, наклонившись вперед, и, забыв обо всем, наблюдали за пляшущими воинами. Только одна смотрела не на них, а на нас. Она стояла немного поодаль от своих товарок, одна ее тонкая смуглая рука касалась ствола дерева, одна смуглая нога застыла впереди другой, как будто она только ожидала знака, чтобы сдвинуться с места. Время от времени она нетерпеливо поглядывала то на крутящиеся в свете огня фигуры, то на стариков и тех немногих воинов, что не танцевали, но потом ее взоры неизменно обращались к нам. Она была одной из тех дев, что танцевали перед нами раньше. Когда они сели отдохнуть среди деревьев, она исчезла, и только позднее я увидел ее снова выходя щей из темноты к костру и своим смуглым подругам. Увидев ее вновь, я вскоре понял, что за ее пристальным наблюдением за нами скрывается какая-то причина, что
она должна передать нам послание или предупредить о грозящей опасности. Один раз, когда я двинулся было, чтобы подойти к ней, она покачала головой и приложила палец к губам. Один танцор упал наземь в полном изнеможении, затем другой и третий, и дюжина или более воинов, сидевших справа от нас, заняли их места. Жрецы трясли своими погремушками и доводили себя до головокружения, изгибаясь и крутясь вокруг чучела Оуки; старики, хотя и сидели наподобие статуй, думали лишь о пляске и о том, как превосходно сами они плясали давным-давно, когда были молоды.
Я встал со своего места и, подойдя к вождю деревни, который сидел, вперив взгляд в молодого индейца, своего сына, судя по всему, готового превзойти остальных в этой бешеной пляске, сказал ему, что я и мой слуга устали и пойдем в наш вигвам, чтобы проспать остаток ночи. Он выслушал нас с затуманенным взором, не переставая следить за танцующим молодым индейцем, и не предложил проводить меня до нашего вигвама. А я еще заметил, что мое обиталище находится всего лишь в пятидесяти ярдах от него, освещенное пылающем костром, и было бы досадно отрывать его или кого-либо другого от созерцания этого вертящегося как волчок воина, такого сильного и смелого, что он наверняка когда-нибудь поведет своих соплеменников вперед, по тропе войны.
Не прошло и мгновения, как он кивнул, и мы с Диконом спокойно, но в то же время уверенно, дабы избегнуть любых подозрений в том, что мы хотим скрыться, покинули толпу дикарей и прошествовали по освещенному костром кругу, который отделял их от нашего вигвама. Когда мы прошли шагов пятьдесят, я оглянулся через плечо и увидел, что юная индианка уже не стоит под соснами, там, где мы видели ее в прошлый раз. Теперь она двигалась чуть дальше, то появляясь, то вновь скрываясь между деревьев, что росли слева, сразу за нашим вигвамом. Дойдя до входа в него, мы обернулись и посмотрели на толпу, которую только что оставили. Все сидели спиной к нам, все глаза были устремлены на танцоров, пляшущих вокруг разросшегося костра. Быстро и бесшумно мы миновали полосу освещенной земли, доходящую до наших друзей-деревьев, и оказались в узкой полосе тени между светом большого костра, который мы покинули, и блеском костра поменьше, который гостеприимно горел перед входом в вигвам императора. Под деревьями, ожидая нас, стояла молодая индианка, тонкая, как тростинка, с большими, широко распахнутыми робкими глазами. Увидев меня и Дикона, она не произнесла ни звука, а только опять приложила палец к губам и проворно заскользила вперед, неслышная, словно ночной мотылек, и мы последовали за ней, укрытые тьмой от стоящих в двух шагах часовых. Тропинка привела нас к вигваму; он был больше обычного и спрятан под сенью деревьев. Индианка бесшумно приподняла циновку, закрывавшую вход, и мы, мгновение поколебавшись, нагнулись и вошли.