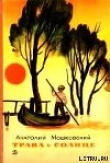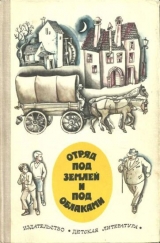
Текст книги "Отряд под землей и под облаками"
Автор книги: Мато Ловрак
Соавторы: Драгутин Малович,Франце Бевк
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
16
Инспектор Паппагалло был самым счастливым человеком на свете. Хотя он и напускал на себя хмурый вид, сердце его прыгало от радости. Повышение в чине, можно сказать, было в кармане. Птички, за которыми он гонялся вот уже несколько месяцев, чирикали в клетке. Анибале – золотой парень!
Однако он ошибался, полагая, что стоит ему взять одного из них за ухо, как из него тут же посыплются признания. Тонин и Ерко были твердые орешки. Того, в чем их уличили, они не отрицали. Но ни в чем другом не признавались. Тонин в присутствии Анибале решительно отвергал, что Павлек ему что-то передавал. Павлек выдал себя сам тем, что исчез из дома. На квартире у него нашли книги и листовки. Однако из Ерко и Тонина никакими побоями нельзя было выбить ни слова.
На помощь пришел Нейче. Паппагалло правильно рассчитал, что этому рохле он развяжет язык. Нейче так боялся побоев, что совершенно потерял голову, а инспектор еще пригрозил ему смертью. Если же он все выложит, сказали ему, его выпустят и он вернется к тете. При своем легковерии и боязни побоев и смерти он не мог долго упорствовать. Он описал, в каком месте скрывается Павлек, при этом страстно желая, чтоб его там не нашли. Выдал он и Филиппа. Не умолчал и о Жутке, которая сказала им, что их ищут. Словом, выложил все, что знал. Лишь кое-какие важные подробности ему помогали вспомнить тростью. Каждое его слово записывали.
Когда на следующее утро полиция пришла за ни о чем не подозревающим Филиппом, на лестнице его дома арестовали и Павлека. Паппагалло просто ликовал. Он послал двух агентов на берег Сочи, чтоб они застали его там врасплох спящим, а птенчик сам прилетел к нему в руки.
Павлек никогда в жизни не испытывал такой горечи. Он опоздал! От ужаса и изумления у него широко раскрылись глаза. Ноги одеревенели, и он не мог бы бежать, даже если б такая возможность вдруг представилась. Филиппу не помог и сам угодил в западню! Обида и горечь лишили его сил, голова поникла…
Потом он стоял в канцелярии перед инспектором. Руки его были бессильно опущены, но голову он уже держал высоко поднятой. Глаза смотрели смело и спокойно. Он был ко всему готов. В конце стола сидел Бастон, перед ним лежала камышовая трость.
Лицо Паппагалло выражало деланную скорбь и разочарование: «Это невероятно! И его я хотел сделать своим помощником! А он без всякого зазрения совести лгал мне в глаза и притворялся!»
Он кинул взгляд на агента, незаметно подмигнув ему, чтобы тот вышел. Инспектор и Павлек остались вдвоем.
– Я огорчен, – заговорил Паппагалло, разыгрывая искреннее горе, – очень огорчен. И разочарован. До глубины души. Ты – и эта компания! Не ждал я такого от тебя…
Павлек молчал. Слова инспектора его совсем не трогали.
– Что ж, тебе нечего сказать? – продолжал инспектор. – Тогда и мне нечего сказать. Не знаю, что и думать. Удивительно! В высшей степени удивительно! Я считал тебя порядочным мальчиком. Что скажет твой отец? Его это очень огорчит.
Павлек опустил голову. При мысли об отце ему и правда стало не по себе. Как он покажется ему на глаза?
– Я был тебе другом. Приглашал заходить, поболтать. Ты избегал меня, потому что совесть у тебя была нечиста. Так ведь?
Павлек упорно молчал.
– Я не могу поверить, что ты так испорчен! – Паппагалло понизил голос и продолжал дружеским тоном: – Просто не могу поверить! Душа не позволяет. Тебя впутали обманом. Я в этом убежден! Поэтому я и хочу по-дружески помочь тебе. То, чем вы занимались, – преступление. Серьезное преступление! О том, что ожидает твоих товарищей, я говорить не хочу. Они получат по заслугам. Но тебе, если ты все расскажешь, повинишься и раскаешься, могут сделать поблажку. Не бойся, об этом никто не узнает, кроме меня. Никто! Видишь, мы и сейчас с тобой одни. Говори! Расскажи подробно и точно, с чего все началось, сколько вас было, что вы делали и что собирались предпринять в дальнейшем. Словом, все, все! Ничего не утаивай. И мы тебя тут же отпустим домой. Завтра опять пойдешь в школу. Под арестом тебя держать не станем…
Мальчик, стиснув зубы, молчал.
– Не хочешь говорить? – Инспектор повысил голос, и взгляд его стал жестким. – Тогда приступим к допросу. Но смотри – отвечать только правду!.. Где револьвер?
Когда Павлека схватили, ему тут же вывернули карманы. Тогда ему не пришло в голову, что это ищут револьвер. Сейчас он подумал о Нейче. Ох этот Нейче! На мгновение он втянул голову в плечи, но тут же снова ее вскинул.
– У меня нет револьвера!
– Знаю, что нет. Но он у тебя был. Тебе дал его Тонин. Ты стрелял из него. Куда ты его спрятал?
– У меня не было револьвера, – сказал Павлек.
Несколько мгновений Паппагалло пронизывал его сердитым взглядом. Потом полез в ящик стола, вытащил листовку и сунул ему под нос.
– А это тебе знакомо?
– Нет.
– Нет? Ее нашли в твоих книгах. Будешь еще отпираться?
Павлек молчал.
– Кто тебе ее дал?
– Никто. Она не моя.
Инспектор стискивал зубы, с трудом сдерживая ярость.
– Я хотел тебе помочь, а ты водишь меня за нос! – закричал он. – Нам все известно! Все, «черный брат»! Вы распространяли листовки антигосударственного содержания. Вывесили словенский флаг. Собирались налепить на стены домов призыв к восстанию. Это государственное преступление! Преступление, которое карается смертной казнью. Смертной казнью! Мы вас повесим… Только полное признание и раскаяние могут спасти вас…
У Павлека задрожали колени. Однако не от страха перед смертью, а от сознания, что все раскрыто.
– Будешь говорить? – грозно спросил инспектор.
Павлек только покачал головой: у него пропал голос.
Паппагалло нажал кнопку звонка. Вошел Бастон и вопросительно посмотрел на инспектора.
– Не хочет говорить, – сказал Паппагалло. – Ничего не делал. Невинной овечкой прикидывается! Черное за белое пытается выдать. Но у нас есть способ развязать ему язык, – угрожающе проговорил он и обернулся к Павлеку: – Не я буду тебя бить. И не господин Бастон будет тебя хлестать, а твое собственное упрямство…
Агент взял со стола трость, рассек ею воздух и с видом палача стал перед Павлеком. Тот прикрыл руками лицо, сгорбился, напрягся и затаил дыхание в ожидании первого удара.
17
Перо отказывается описывать подробности истязаний, которым подвергались «черные братья». О том, как из ребят выбивали признание, можно было бы написать еще много страниц, но лучше я опущу их. Все были достойны сочувствия. Даже Нейче. Трудно судить его слишком строго. Он был неплохой мальчик, только трусишка и ребячлив не по возрасту, дальше своего носа ничего не видел. С таким характером не легко стать героем, даже и вступив в общество «черных братьев».
Его, разумеется, не выпустили, как обещали, хотя он все рассказал, и он долго горько плакал. Как и всех, его тоже посадили в одиночку. Это была тесная темная камера без окна, лишь над дверью была отдушина, в которую проходил воздух. Днем здесь стояла мертвая тишина, словно его закопали глубоко под землю. Почти каждую ночь раздавался скрип дверей – это мальчиков водили на допрос. Сквозь стены доносились звуки ударов, крики и рыдания. От этих страшных голосов Нейче била дрожь, он не мог их слышать. Он затыкал уши, бросался ничком на деревянный лежак и дрожал как в лихорадке.
Иногда два-три раза в ночь скрипела и его дверь. Нейче водили на очную ставку. То с Ерко, то с Тонином, Павлеком или Филиппом, и он должен был повторять то, в чем уже признался. Это было самое страшное. Он трясся как тростинка на ветру, глаза молили о прощении. Ребята были избиты так, что едва держались на ногах. В их взглядах он читал удивление, угрозу, презрение. Его показания заставили их признаться. Всех, кроме Ерко. Ерко настолько измучили допросами и истязаниями, что он еле-еле волочил ноги, от него осталась одна тень.
Признанием «черных братьев», подтвердивших показания Нейче, закончилась лишь первая часть следствия, тут же началась вторая, а с ней и новые муки. Паппагалло, произведенный тем временем в комиссары, не верил, что ребята действовали самостоятельно. Он считал их обычными уличными сорванцами, сорванцам же пристало играть в индейцев и разбойников, а не в заговорщиков. Он хотел во что бы то ни стало докопаться, кто их подбил на это дело, кто снабжал их деньгами и руководил ими. Ему чудился за всем этим большой заговор, представляющий серьезную опасность для государства. И он весь горел от нетерпения и жажды деятельности.
Однако ни от одного из мальчиков нельзя было добиться показания на этот счет; даже из такого зайца, как Нейче, не удавалось ничего вытрясти… Не помогали ни посулы, ни угрозы. Напрасно размахивал своей тростью Бастон, верой и правдой служа отечеству. Каждый удар вызывал у Нейче лишь потоки слез.
– Говори, кто вас научил? – нашептывал ему на ухо Паппагалло. – Кто давал вам деньги? Будешь говорить?
– Да, да!
Трость замирала.
– Ну, говори же! Кто?
Нейче стоял перед комиссаром в полной растерянности, не зная, что сказать, что сделать. Кто научил? Никто! Но ему не верили. Назвать тетю? Или толстого пекаря на углу улицы, куда он ходил за булками? Или отца Тонина? Хозяйку Павлека госпожу Нину? Он мало кого знал в городе. Назвать кого придется, лишь бы освободиться, нельзя, это было бы ложью. И все равно это обратилось бы против него. Выхода не было…
Его снова отводили в камеру, и через минуту до него доносились крики Тонина…
Больше, чем на трость Бастона, Паппагалло рассчитывал на голод и жажду. «Черные братья» с первого дня заключения не получали ни крошки хлеба, ни капли воды. Постепенно желудок привык к отсутствию пищи и затих. Мальчики вконец ослабли, колени тряслись, голова кружилась. Но тяжелее голода, хуже любых побоев была жажда. Пересохшее горло, казалось, заполнял песок, язык прилипал к нёбу. Они не могли думать ни о чем, кроме воды. Во сне им виделась вода, широкой журчащей струей льющаяся мимо рта. Они вертели головой, пытаясь поймать языком хоть каплю. Они испытывали одно желание – напиться досыта, а там хоть и умереть…
На четвертый или пятый день им дали соленую рыбу. Прекрасная еда, если ее есть чем запить. Нейче жадно вонзил зубы в розоватое мясо. Утолив первый голод, он решил, что жажда несколько ослабла. Но это продолжалось мгновение. Тут же он почувствовал, что жажда стала еще сильнее, чем прежде, она жгла все нутро огнем и мутила разум.
Спотыкаясь, он доплелся до двери и забарабанил по ней кулаками.
– Воды! – глухо и хрипло вырвалось из его горла. – Воды! Воды!
Он окончательно изнемог, ноги больше не держали его. Язык распух; ему казалось, что он сейчас умрет. Нейче упал на доски, зарылся лицом в ладони, дергался всем телом и стонал.
– Воды, воды, воды! – твердил он одно слово. В конце концов язык перестал ему повиноваться, и слышался лишь невнятный стон.
В коридоре заскрипели двери. «Черных братьев» снова попели на допрос, но теперь не было слышно ни ударов трости, ни криков. Стояла грозная тишина.
Пришли и за Нейче. Голова кружилась отчаянно, ноги не слушались. Чтобы не упасть, он держался руками за стены. Губы его все время тихо повторяли: «Воды, воды…»
На этот раз в камере пыток кое-что изменилось. За столом сидел пожилой, седовласый господин с гладко выбритым, неподвижным лицом и прищуренным левым глазом. Он смерил Нейче холодным взглядом. Рядом с незнакомым господином сидел Паппагалло, выражение лица его было мягче, чем обычно. Бастон расположился у стены, без трости, руки он держал за спиной. На краю стола стояла кружка с молоком, на нее Нейче и уставился жадным взглядом.
– Садись, – сказал ему Паппагалло.
Нейче сел, едва на него взглянув. Глаза его были прикованы к кружке с молоком.
– Хочешь пить?
Мальчик кивнул, в глазах его засветилась надежда.
– Сейчас будешь пить, – добродушно проговорил комиссар. – Но прежде ты должен все рассказать! Сам знаешь, что нас интересует. Повторять не буду.
Невыносимая жажда, вид молока и условие, которое он не в силах был выполнить, сломили Нейче. Он отчаянно, безутешно зарыдал, сложил в мольбе руки, глаза его были полны укора и грусти, словно глаза подстреленной косули в последние мгновения жизни.
– О-о-о, я ничего больше не знаю! – вырвался у него из горла хриплый, прерывистый крик. – Я все… сказал… О-о-о, я все сказал!.. Все…
Слова прерывались громкими всхлипами.
Паппагалло оглянулся на седовласого господина и чуть заметно пожал плечами, как бы говоря: не знаю, что и делать. Тот некоторое время пристально смотрел на Нейче, потом сделал решительный жест рукой и опустил глаза на стол.
Паппагалло взял кружку и протянул ее Нейче.
– На, пей! – сказал он добродушным голосом. – До дна!
Нейче схватил кружку обеими руками и, мешая молоко со слезами, жадно приник к кружке, словно в ней была его жизнь.
– Еще хочешь? – спросил комиссар, когда Нейче поставил пустую кружку на стол.
– О да!
Бастон взял с подоконника кувшин и налил ему еще кружку.
18
Следствие по делу «черных братьев» закончилось, и их перевели в судебную тюрьму. У них еще не зажили следы побоев, лица были бледные, с черными подглазьями, но мальчики уже улыбались. Сквозь большое, зарешеченное окно лился воздух, солнце играло на стенах. Они утолили жажду. В полдень им обещали дать по куску хлеба и миске горячей похлебки. На железных койках лежали подушки, простыни и одеяла.
В камере, куда их поместили, уже находился молодой парень по имени Юшто. Для своих семнадцати лет он был невысок ростом; рыжие волосы коротко острижены, веснушки щедро украшали его лицо, серые глаза смотрели смело. Штаны внизу висели бахромой, башмаки стоптаны, руки торчали из рукавов тесного пиджачка. Он бесстрашно передразнивал надзирателя, как только тот поворачивался к нему спиной, и ребята сразу почувствовали к нему симпатию.
Нейче, которого никто не удостоил ни взглядом, ни словом, выбрал себе койку в углу, за дверью. Тихий и перепуганный, он зажал руки между колен и, погруженный в свои мысли, сидел не поднимая глаз… Ерко был совершенно прозрачный. Войдя в камеру, он чуть не упал от слабости. Сейчас он сидел на койке под окном и растерянно улыбался. Глаза его лихорадочно блестели, мелкая дрожь сотрясала тело.
– Если ты болен, ложись! – покровительственно сказал ему Юшто. – Больным разрешается днем лежать. Ты болен?
– Нехорошо мне, – ответил Ерко.
– Завтра можешь потребовать, чтоб тебе вызвали доктора.
Ерко разобрал постель, лег и натянул одеяло до подбородка. Закрыл глаза и тихо, едва слышно дышал.
Юшто порылся в карманах, нашел окурок и закурил. Окурок прилип к губе, и он дымил, не вынимая его изо рта. Сунув руки в карманы пиджачка, он мерил крупными шагами камеру и переводил взгляд с одного на другого.
– Что натворили? – спросил он.
– Ничего, – ответил Тонин.
– Ха! – презрительно хмыкнул Юшто. – Рассказывайте! За «ничего» не сажают! Втирайте очки кому-нибудь другому.
– Ладно! – взорвался Павлек. – Листовки расклеивали. Это что? Преступление?
– А… – протянул Юшто. – Я слышал про вас. Здесь все известно. Здорово вас разукрасили! – сказал он, глядя на заплывший глаз Тонина и распухшие губы Филиппа.
– Да, жаловаться не приходится, – горько пошутил Тонин. – А ты за что здесь?
– Хозяин, у которого я работал, дал мне затрещину. А я его так лягнул ногой в живот, что он тут же сковырнулся на землю. Два года мне теперь обеспечены.
Мальчики смотрели на Юшто со все возрастающим изумлением. Но вся его история с затрещиной была выдумкой. На самом деле он уже давно бродяжничал; родом он был из села, несколько раз его отсылали туда, но он снова возвращался в город. Занимался он и мелкими кражами. Но признаться в этом ему было стыдно. Хотя гимназистов он считал еще детьми, они были «политические», и в душе он испытывал к ним уважение.
– Два года! – воскликнул Павлек. Прошло всего несколько дней, как их взяли, а ему казалось, что прошли месяцы.
– Вам тоже дадут не меньше, – сказал Юшто, выплюнул окурок и снова зашагал по камере. – Или вы признались?
– Признались, – проворчал Филипп, который все это время с трудом сдерживался и сейчас бросил яростный взгляд на Нейче. – Пришлось признаться, раз они все уже выведали. Вот этот заяц наложил полные штаны, из него все и вытрясли…
Нейче вскинул испуганные глаза. Он с ужасом ждал этого мгновения. В полиции его мучило сознание вины и чувство стыда, там он не испытывал страха перед товарищами, там они ничего не могли ему сделать. Теперь он снова был с ними. Он страдал от их презрения, упрек Филиппа вызвал новую боль. Он обвел молящим взглядом всех подряд; ему казалось, что от него ждут каких-то объяснений, оправданий.
– Меня так били! – плачущим голосом протянул он.
– Били? – Филипп сухо, издевательски засмеялся. – Тебя били, а нас по головке гладили, да? Видишь, что из меня сделали? А пышками да коврижками тебя не угощали?
– Нет.
– Ой, а нас на убой кормили! – подал голос Тонин. – Желудок мне испортили. Павлек, а ты съел все колбасы, которыми тебя потчевали?
– Где там! Павлек взмахнул рукой. – До сих пор на спине таскаю.
Мальчики засмеялись.
– А рыбу-то тебе давали? – снова спросил Филипп.
– Ой, она была такая соленая… – простонал Нейче. – После нее еще больше пить захотелось.
– Вот осел! – Филипп ударил себя по колену. – И ее съел, обжора! Так ведь они могли за стакан воды заставить тебя признаться, что ты мой родной дядя!
Новый взрыв смеха.
Филипп подошел к Нейче и сунул ему под нос кулак.
– Мы еще с тобой поговорим, – угрожающе сказал он. Не здесь, а там… Запомни это!
– Один я виноват, что ли? – запричитал Нейче, чуть не плача, и вскочил на ноги. – Павлеку и Тонину ты ничего не говоришь! А это они виноваты, что Анибале увидел листовки! Вот почему нас разоблачили…
Нейче не договорил до конца. Тонин подскочил и дал ему по физиономии. То, за что он все эти дни в глубине души упрекал себя, Нейче сказал ему прямо в глаза. Этого он не мог стерпеть.
Нейче схватился руками за лицо и громко заплакал.
– Тихо! – шикнул на них Юшто, до сих пор забавлявшийся с высоты своего жизненного опыта ссорой «малышей». – Тихо! Еще накличете на нашу голову какого-нибудь дьявола!
Мальчики затаились, как перепуганные мышата. Только Нейче еле слышно всхлипывал и кулаком утирал слезы.
В коридоре раздались шаги. В двери распахнулось окошечко, показалась голова надзирателя.
– В чем дело? Что за вопли?
– Ничего, – сказал Юшто. – Домой хочет, вот и плачет! – ткнул он пальцем в Нейче.
– Не домой, а в карцер пойдет, если будет канючить, – сурово сказал надзиратель. – В темный карцер.
Окошечко снова захлопнулось.
Задремавший Ерко встрепенулся, оперся на руку и обвел взглядом камеру.
– Оставьте его, – проговорил он тихим голосом. – Оставьте! Не обращайте на него внимания, как будто его тут нет… Как будто его нет…
Он снова лег и закрыл глаза.
Павлек подошел к нему и сел на край койки:
– Ерко, ты болен?
Товарищ посмотрел на него и грустно улыбнулся.
– Не знаю, – сказал он.
– Что с тобой? Где болит?
– Ничего у меня не болит. Слабый только. Ничего не могу… Ничего… Высплюсь вот, и все опять будет хорошо…
– Хочешь чего-нибудь?
– Воды… Немножко водички…
Павлек принес ему воды. Он сделал несколько глотков и закрыл глаза…
Вечером, когда все улеглись и во всех камерах воцарилась тишина, Тонин поднял голову и тихонько окликнул Павлека.
– Что? – отозвался тот.
– Ты отдал бульдог?
– Нет, я его спрятал, – ответил Павлек так, чтобы слышал только Тонин. – Паппагалло я сказал, что бросил его в реку. А на самом деле спрятал.
Тонин довольно улыбнулся. Снова все стихло. Сквозь окно со двора проникал свет и рисовал квадраты решетки на стене.
19
Ночной сон не прибавил Ерко сил. Спал он беспокойно, каждую минуту просыпался. Утром все ребята уплетали хлеб и ели похлебку. Лица их слегка порозовели. У Ерко еда вызывала отвращение. Он лишь то и дело просил воды, его мучила невыносимая жажда. Все время клонило в сон, иногда он погружался в тяжелое забытье.
Чаще всего ему представлялось, что он на допросе. Еще чаще он думал об этом наяву. Физически он был самым слабым среди «черных братьев», но духом был сильнее всех. От показаний, которые он дал в первый день, он так и не отказался. Ни признания товарищей, ни побои, ни голод, ни жажда на него не подействовали. Паппагалло в ярости скрипел зубами; он поставил перед собой задачу сломить его, так как считал его главарем. Душу его он не сумел сломить, но слабый организм был сломлен. Мучения превысили его физические силы. Ерко чувствовал, что нить жизни в нем надорвана.
Мальчики были подавлены его болезнью. К ним силы возвращались с каждым днем, они могли бы уже громко разговаривать, смеяться, но ходили на цыпочках, разговаривали шепотом. То и дело кто-нибудь подходил к больному, смотрел на него с сочувствием, всем хотелось хоть как-то ему помочь. Они боялись лишний раз потревожить его вопросом, разбудить, если ему удавалось задремать. Иногда он ненадолго открывал глаза и делал успокаивающий жест рукой: не волнуйтесь, мол! Товарищи надеялись, что наступит день, когда взгляд его прояснится и он улыбнется им. Мысль о смерти не приходила им в голову.
Однажды они сидели на койке Юшто и с восхищением следили за тем, как бродяга из жеваного хлебного мякиша мастерил цветы. Зашел разговор о больном Ерко.
– Почему его не берут в больницу? – спросил Павлек.
– Почему! – сказал Юшто. – Знаешь, что говорит доктор? Болит у тебя живот или голова, все одно тебе скажут – лежать, пропишут касторку и заставят поститься. А умрет человек, они рты разевают от удивления, как голодные вороны.
– Неужто умирали?
– Да, примерно с месяц назад один тут умер.
– Тут? – изумился Тонин.
– Вон с той койки. – Юшто показал на койку, на которой в одиночестве сидел Нейче. – Не верили, что он серьезно болен. А он как-то ночью встал и вдруг грохнулся на пол. Мы положили его на койку, он раза два вздохнул и умер.
Мальчики посмотрели на больного Ерко, который лежал совершенно неподвижно, словно неживой, и только одеяло на груди слегка опускалось и поднималось. В камере словно повеяло смертью.
Вечером они все по очереди подходили к Ерко: может, он воды хочет? Но он как будто спал, и они не решились его будить…
Дышал Ерко еще более прерывисто, чем прежде. Иногда дыхание вообще замирало, а потом легкие с силой и хрипом выталкивали воздух из груди… Этого не слышал никто, кроме Нейче. Он тихо лежал без сна на своей постели, отдавшись своим переживаниям. Сердце его не было бесчувственным, презрение товарищей очень его мучило. Особенно его задело отношение Ерко. Он не мог пережить слова, которые тот сказал о нем: «Не обращайте на него внимания, как будто его тут нет». Эти слова обрекли Нейче на полное одиночество. Он всегда относился к Ерко с особым уважением, можно сказать, обожанием и надеялся, что по крайней мере тот поймет его и простит. Ведь все, что он сделал, он сделал не нарочно, он не мог иначе. Душа его не в силах была примириться с тем, что Ерко осудил его и отверг.
Он тихо встал, прислушался, все ли спят. Никто не шелохнулся. Он подошел к Ерко. Нейче давно собирался сделать этот шаг, да мужества не хватало. Он опустился на одно колено и взял бледную, худую руку товарища, неподвижно лежавшую на одеяле.
– Ерко… – шепотом окликнул он его. – Ерко.
Больной задержал дыхание, словно прислушиваясь, но не смог ни шевельнуться, ни открыть глаз.
– Ерко, ты слышишь? – горячо зашептал Нейче. – Ты сердишься на меня?
Тут Ерко чуть приоткрыл глаза, блеснувшие в слабом отсвете дворового фонаря.
– Ерко, ты сердишься на меня? – повторил Нейче.
Веки мальчика снова опустились, он лишь слабо стиснул руку Нейче. В этом слабом пожатии Нейче увидел понимание его душевной муки, прощение и тихий знак восстановленной дружбы. Но пальцы Ерко тут же ослабли, рука бессильно легла на одеяло. Из груди сквозь сжатые губы вырвалось хриплое дыхание.
Радость и благодарность залили душу Нейче, но в то же время его сковал ужас. Когда-то он видел, как умирала его старшая сестра. Картина эта глубоко врезалась ему в память, он никогда ее не забывал, и теперь ему показалось, что с Ерко происходит то же самое.
Он бросился к постели Павлека.
– Павлек! – тряс он за плечо товарища. – Павлек!
Павлек проснулся, поднял голову и с раздражением посмотрел на Нейче:
– Что тебе?
– Ерко умирает!
Павлек встал, подошел к больному и окликнул его. Ерко не отзывался. Он тяжело дышал, веки его чуть приоткрылись.
Камера проснулась.
– Что такое? Что случилось? – спрашивал вскинувшийся Юшто.
– Ерко голоса не подает, – выдавил из себя Павлек – горло перехватила судорога боли.
Юшто встал, потрогал Ерко за руку, потряс его за плечо… Ничего. Дыхания больного снова не было слышно.
Ни слова не говоря, бродяга подошел к двери и постучал.
Надзиратель, клевавший носом в коридоре, зажег свет и сунул свою заспанную недовольную физиономию в окошко.
– Что такое? Чего колобродите?
– Человек умирает! – Юшто показал на Ерко. – Позовите доктора!
– Доктора? В такую пору? – Надзиратель с возмущением взглянул на больного. – Еще чего выдумали!.. Завтра будет доктор. Небось до утра не помрет… Живо по койкам! Спать! И чтоб тихо мне!
Окошко в двери захлопнулось, свет погас, шаги удалились.
Мальчики не легли, сидели по своим койкам; заснуть они уже не могли. Прислушивались к неровному дыханию больного и думали тяжелую думу. Изредка раздавались тихие голоса. Что делать? Как помочь товарищу? Они сознавали свое бессилие.
– Знаете что, – раздался голос Юшто, который лежал на спине, подложив руки под голову, и глядел в потолок, – давайте накроем его простыней и скажем, что он умер. Сразу унесут.
Мальчики молчали. Предложение Юшто им не нравилось. Им казалось, что этим шутить нельзя: не ровен час, еще и правда смерть накличешь.
– Как хотите, – сказал Юшто, несколько уязвленный общим молчанием. – Я вас не неволю. Только так он у вас в самом деле помрет…
Тонин и Филипп быстро переглянулись. Потом Тонин подошел к Ерко и несколько мгновений пристально на него смотрел. Наконец он решился и стянул простыню со своей постели. Филипп помог завернуть больного. Сделав это, они стали, опустив руки, словно не зная, как действовать дальше. Юшто направился к двери.
Надзиратель удивленно пялился в окошко на постель, выглядевшую как смертное ложе. Словам Юшто, что парень умер, он поверил. Известие это ему не понравилось. Он быстро ушел и вернулся с еще одним надзирателем. Они заглянули в камеру, пошептались, заперли окошечко и, не сказав ни слова, ушли.
Спустя час, а может быть, и полчаса, потому что минуты тянулись страшно долго, заскрипел засов. В камеру вошли надзиратель и доктор. У доктора была заспанная физиономия, глубокие залысины надо лбом обрамляли седые, торчком стоящие волосы.
– Где покойник? – спросил он и, не ожидая ответа, шагнул прямо к покрытой постели. – Как это могло произойти? – удивился он.
Он отдернул простыню, пощупал пульс, оттянул веки и, приложив ухо к груди, долго слушал сердце.
– Он еще жив, – сказал доктор, – однако… – Он хотел продолжить, но прикусил язык. – Почему вы раньше меня не позвали? – сделал он выговор надзирателю. – Немедленно в амбулаторию! А завтра в больницу…
«Черные братья» стояли безмолвно. Раньше они боялись, что их станут ругать за ложь и обман, но теперь мысли их приняли совсем другое направление. Сердца их переполняли иные чувства.
Пришли двое служителей в полосатых одеждах, с носилками. Ерко положили на носилки. Он на мгновение открыл глаза, словно бы удивляясь тому, что с ним делают, и снова закрыл их. Мальчики стояли как завороженные. Они хотели подойти к товарищу, пожать ему руку, сказать что-нибудь, но все произошло так быстро и сурово, что они не смели и шелохнуться.
Шаги стихли, мальчики снова легли, бессонно тараща глаза в темноту. Из угла за дверью слышались тихие всхлипывания Нейче. Он не в силах был скрыть свое горе и отчаяние. Павлек, Тонин и Филипп, стиснув зубы, молча переживали новый удар.