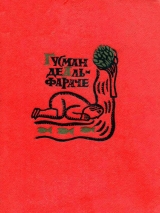
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
о том, что произошло у Гусмана де Альфараче с хозяином постоялого двора в Кантильяне
Как только мы расстались со своими спутниками, я спросил погонщика, куда мы пойдем.
– У меня тут есть знакомый трактирщик, – ответил он, – и домишко у него хороший, и сам он большой хлебосол.
И он повел меня на постоялый двор, содержатель которого слыл в округе самым отпетым мошенником, хотя попить и поесть у него можно было вволю; словом, попал я из огня да в полымя, – наткнулся на Сциллу, спасаясь от Харибды.
Наш хозяин держал у себя доброго осла и кобылку галисийской породы. Если и люди, когда нет выбора, не ищут ни красоты, ни молодости, ни изящества, – сойдет любой чепец, хоть на плешивой голове, – не мудрено, что и у животных бывает то же самое. Осел и кобылка всегда ходили в паре, ели в хлеву из одной кормушки, паслись на одном лугу; хозяин не держал их на привязи, а отпускал порезвиться на воле, чтобы они помогали проходить курс наук ослам и лошадям других хозяев. От этого приятного времяпровождения кобылка в конце концов забрюхатела.
А в Андалусии есть строжайший закон, запрещающий случку лошадей с ослами и сурово карающий нарушителей[78]78
…сурово карающий нарушителей. – Начиная с XIV в. в Испании издаются королевские указы, запрещающие гибридизацию скота на юге страны, особенно в Андалусии, крае чистокровных арабских коней. Севилья, главный город Андалусии, славилась самой крупной в Европе ярмаркой лошадей.
[Закрыть]. И вот, когда кобылка в должный срок ожеребилась, хозяин хотел было оставить себе лошачка и вырастить. Спрятав его и продержав несколько дней, хозяин затем понял, что скрыть это дело от соседей не удастся и недруги все равно пронюхают. Опасаясь кары и в то же время не желая упустить свое, он зарезал лошачка в ночь с пятницы на субботу, мясо порубил на куски и положил их в маринад, а голье, потроха, ливер, язык и мозги приготовил на субботу. Как я уже сказал, приехали мы засветло и в добрый час, ибо на постоялых дворах кто раньше придет, тому и почет: и ужин найдется, и постель его ждет. Расседлав ослов, погонщик задал им корму. Я же чувствовал себя таким разбитым, что лег прямо на землю и долго еще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Ляжки у меня онемели, ступни распухли, оттого что ехал я свесив ноги, без стремян, ягодицы омертвели от тряски и в паху будто кинжалом кололо, словом, все тело ломило и к тому же ужасно хотелось есть. Когда спутник мой управился с ослами и подошел ко мне, я сказал:
– А не поужинать ли нам, дружище?
Он ответил, что это было бы очень кстати, ибо время позднее, а завтра надо встать чем свет, чтобы к сроку поспеть в Касалью и забрать груз. Мы спросили хозяина, найдется ли что на ужин. Тот отвечал, что найдется, да такое, что пальчики оближешь.
Хозяин был человек расторопный, смекалистый, веселый, речистый и плут первостатейный. Я-то поверил ему – с виду он был душа человек, а истинного его нрава я еще не знал. Когда я услышал, как он козыряет своими припасами и хвалится, что хорошо накормит, сердце мое возликовало. Я принялся возносить в душе горячие благодарения господу, славя имя того, кто вместе с болезнями ниспосылает лекарства, после трудов дарует отдохновение, после бури – затишье, после огорчения – радость, а после скудного обеда – обильный ужин.
Сам не знаю, рассказать ли вам о забавной обмолвке одного знакомого мне крестьянина из деревни Олиас близ Толедо. Пожалуй, расскажу: в его обмолвке нет ничего неприличного, и допустил ее по простоте душевной старинный христианин[79]79
…старинный христианин. – Так называли в Испании тех, кто имел удостоверение, что в их роду не было браков с лицами еврейского или мавританского происхождения.
[Закрыть]. Однажды он играл с друзьями в примеру, и когда третий игрок сбросил лишние карты, второй сказал: «Благословен господь, я выиграл: у меня примера». Тут наш крестьянин, глянув в свои карты и увидев, что все они одной масти, на радостях, что победа за ним, поспешно сказал: «Не очень благословен, у меня флюс»[80]80
Флюс. – При игре в примеру для каждой карты установлено определенное число очков: семерка – 21, шестерка – 18 и т. д. Игроки получают по четыре карты. «Флюс» – четыре карты одной масти – дает наибольший выигрыш; затем следуют четыре карты, дающие пятьдесят пять и «примера», или «кинола», – четыре карты всех мастей. Если ни у кого нет даже примеры, выигрывает тот, кто набрал больше очков в картах одной масти.
[Закрыть]. И если эту смешную историю дозволительно привести кстати, то именно здесь, ибо со мной так и случилось.
Погонщик спросил хозяина:
– Так что там у тебя приготовлено?
– Вчера я зарезал славную телочку, – ответил хитрец, – корова из-за нынешней засухи совсем отощала, на выпасах ни травинки, пришлось телку уже через неделю прирезать. Потроха готовы, только скажите, что подать.
С этими словами он запел игривую песенку и, выкинув коленце, хлопнул рукой по подошве. Тут я совсем приободрился – приятно было слышать, что у него есть нежные телячьи потроха, при одном упоминании о которых у меня слюнки потекли. Усталости как не бывало, и я весело сказал:
– Подавай что хочешь, хозяин!
Тотчас он принес столик, накрытый чистой скатертью, ковригу хлеба, не такого скверного, как в харчевне, флягу доброго вина и свежий салат. Мне с моими дочиста промытыми кишками это было на один зуб, и я охотно променял бы салат на телячий желудок или ногу. Но я не унывал, ибо такая предпосылка способна была сбить с толку любого мудреца и притупить вкус у голодного человека.
Верно говорят тосканцы: нельзя доверять словам женщин, моряков и трактирщиков и еще менее тем, кто сам себя хвалит; обычно, и даже чаще всего, их слова оказываются ложью. После салата хозяин подал тарелки, и на каждой было немного жареных потрохов. Заметьте, немного, ибо много он боялся положить, опасаясь, как бы желудки наши, удовлетворив первый голод и насытившись, не почуяли обмана. Зорко следя за нами, он мало-помалу распалял наш аппетит, а мы, все более голодные, ели с возраставшей жадностью.
О погонщике и говорить нечего; родился и вырос он меж людей невежественных и грубых, за лакомство почитающих зубок чеснока. Сельский простой люд, о доброте коего и опрятности я умалчиваю, привередливостью не отличается и редко разбирает, что хорошо, а что плохо. Большинству из них недостает тонкости чувств; эти люди видеть-то видят, да не то, что надо; слышат, да не то, что следует; так же обстоит у них и с прочими чувствами, а особливо туп язык, если только не требуется позлословить, да еще об идальго. Они глотают не жуя, как собаки или страусы, способные сожрать кусок раскаленного железа, а при случае и башмак с двойной подошвой, прослужившей в Мадриде добрых три зимы. Я сам видел, как страус ухватил клювом шапку с головы пажа и мигом заглотал.
Но если я, выросший в довольстве у благородных и чистоплотных родителей, не заметил надувательства, то лишь из-за великого голода, и в том мое оправдание. Мне так хотелось чего-нибудь вкусного! Сколько нам ни подавали, мне все было мало. Подлец-хозяин подносил еду скудными порциями. Экая невидаль! Да будь она еще хуже, все равно показалась бы мне изысканным угощением. Разве ты не слышал, что голод лучший повар? Я и говорю, что все это было мне слаще меда и только пуще разлакомило.
Я спросил, нет ли еще чего. Хозяин ответил, что, если угодно, подаст жаренные на сале мозги с яйцами. Мы сказали, что согласны. Не успели и слова вымолвить, как все было приготовлено и подано. А пока что, дабы мы не изошли слюною и, как загнанные почтовые лошади, не обезножели, он устроил нам пробежку с плетеными кишками и кусочками сычуга. Мне они не понравились; мясо, на мой вкус, отдавало прелой соломой. Я не стал его есть, предоставив погонщику управляться одному; тарелки вмиг опустели, словно виноградник после сбора урожая.
Я не огорчился, а даже рад был, что мой спутник набьет себе брюхо потрохами и мне достанется больше мозгов. Увы, получилось не так; он и дальше уплетал за обе щеки, будто у него целые сутки маковой росинки во рту не было. Когда подали мозги в яйцах, погонщик вдруг захохотал, по своему обыкновению, во все горло. Я обиделся, полагая, что он хочет отбить у меня аппетит, напомнив о злополучной яичнице. Хозяин же, пристально глядя на нас обоих, нетерпеливо ожидал, что мы скажем об угощении; когда погонщик разразился своим дурацким безудержным хохотом, он решил, что обман раскрыт, – иного повода для смеха как будто не было. Известно, на воре шапка горит, он и тени своей боится, вина порождает в нем страх перед наказанием, всякое движение, кивок кажутся угрозой, ему чудится, что ветром разносит слух о его делах и все о них знают. Малый этот, хоть и был плут матерый, к подобным проделкам привычный и в воровстве понаторевший, на сей раз ошалел от страха. Ведь такие люди обычно трусы и хвастуны.
Как ты думаешь, почему иной кричит, что убьет да зарежет? Охотно скажу тебе: чтобы застращать и возместить угрозами недостаток храбрости, – ни дать ни взять собака, которая лает, да не кусает. Тявкает, наскакивает, а взглянешь построже – убежит.
Итак, хозяин наш встревожился не на шутку, ибо, как я уже говорил, негодяи трусливы, мнительны и злобны.
– Клянусь, это телячьи мозги, нечего тут смеяться, – пробормотал он, растерявшись. – Коли понадобится, хоть сто свидетелей найду!
Но тут же спохватился и побагровел так, что из скул, казалось, вот-вот кровь брызнет, а из глаз со злости искры посыплются.
Погонщик обернулся к нему и сказал:
– Ты-то причем, братец, кто тебя трогает? Может, у тебя здесь заведено взимать с постояльцев, коль им охота придет посмеяться, или налог какой надо за смех платить? Хочу смеюсь, хочу плачу, а ты не мешай, твое дело деньги получать. Кабы я над тобой захотел посмеяться, то не постеснялся бы прямо в глаза. Такой уж я человек. Просто, глядя на эти яйца, я припомнил, как давеча потчевали моего товарища в харчевне, что в трех лигах отсюда.
Тут он принялся пересказывать всю историю – и то, что от меня слышал, и то, что при нем приключилось с хозяйкой, – да с таким удовольствием, будто нежился в ванне из розовой воды, – так он причмокивал, гоготал, гримасничал и размахивал руками.
Хозяин только крестился да ахал, тысячекратно взывал к господу Иисусу. Возведя глаза к небесам, он восклицал:
– Святая матерь божия, смилуйся над нами! Посрами, господь, того, кто свое ремесло срамит!
А поскольку он в своем воровском ремесле был мастак, то и надеялся, что проклятие его не коснется. Прохаживаясь взад-вперед, будто не находя себе места от возмущения и гнева, он кричал:
– И как эта харчевня еще не развалилась? Как попускает господь? Почему не карает мошенницу? Как эта старая колдунья, эта ведьма еще ходит по белу свету, как земля ее носит? Все на нее нарекают, все клянут ее проделки, никто еще не остался доволен, все жалуются. Либо кругом негодяи, либо негодяйка она, – не могут же все ошибаться. Из-за таких вот плутней никто и не желает останавливаться у нее – только открещиваются и проезжают мимо. Клянусь, старухе, видно, мало ста отметин под сорочкой от сотни плетей, которые ей всыпали за такие делишки. Ей ведь запретили держать харчевню! Уж не знаю, как это она снова взялась за прежнее ремесло и до сих пор не попалась. В чем тут заковыка, не пойму, хоть убей, как сказал муравей. Одно ясно, дело нечисто – грабит она людей нынче, как вчера, как и прошлый год. И хуже всего, что ворует она будто с соизволения начальства. Верно, так оно и есть – стража, соглядатаи, фискалы, альгвасилы[81]81
Альгвасил – судебный служитель, жандарм.
[Закрыть] про это знают, да смотрят сквозь пальцы, и никто ее не трогает: старуха умеет их умаслить и поделиться тем, что урывает у других. Всенепременно так, не то бы она уже погорела и снова провели бы ее по деревне. Но и то сказать, немало она теряет на том, что о ее заведении идет худая слава, – будь она поопрятнее да почестнее, к ней бы чаще заезжали, а с миру по нитке – голому рубашка. Муравей по зернышку тащит, глядь – и амбар полон на весь год. Никто бы не точил на нее зубы. Ах, пропади она пропадом, разбойница!
Я было думал, что речи конец, но хозяин снова заладил:
– Хвала непорочной деве Марии, я хоть и беден, да в доме моем порядок. Если что продается, то по-честному, а не так, чтобы сбывать кота за кролика, а козла за барана. Первое дело – жить без греха, смело глядеть людям в глаза. Свое береги, на чужое не зарься и никого не обманывай.
Тут хозяин остановился и перевел дух, к большому нашему удовольствию. Судя по разгону, который он взял, я уже решил, что его разглагольствованиям конца не будет, однако он больше ничего не сказал и подал нам оливки с грецкий орех величиной. Мы попросили приготовить на утро еще телятинки. Хозяин охотно согласился, а мы отправились на поиски удобного местечка для ночлега и, расстелив попоны там, где земля была поровней, улеглись спать.
ГЛАВА VI,в которой Гусман де Альфараче заканчивает рассказ о своем приключении на постоялом дворе
В воскресенье я проснулся на рассвете в таком виде, что, очутись я в этот миг на одной из площадей Севильи или у дверей родного дома, вряд ли кто-нибудь узнал бы меня. Ночью на меня напали полчища блох, да так яростно, будто они тоже в этом году жили впроголодь и я был послан им для подкрепления сил. Я весь был в красных пятнах, точно корью заболел, – на теле, на лице, на руках живого места не было. Но фортуна сжалилась надо мной; с дороги я так устал и так усердно прикладывался накануне к фляге, что с непривычки спал как убитый и видел райские сны, пока меня не разбудил мой спутник, которому хотелось пораньше сходить к мессе, чтобы успеть вовремя проделать оставшиеся семь лиг. Чуть свет мы были на ногах и попросили принести завтрак, что тотчас было исполнено.
Завтрак показался мне не особенно вкусным, зато погонщик уплетал мясо с такой жадностью, будто ел павлинью грудку. Послушать, как он расхваливал это жаркое, так можно подумать, что он в жизни не едал ничего лучшего. Я только поддакивал ему, не доверяя своему вкусу, и приписывал недостатки жаркого, унаследованные от папаши осла, собственной привередливости; но, по правде, жаркое было прескверное и сразу выдавало свое происхождение. Оно показалось мне жестким и пресным; даже та малость, которую я съел за ужином, не переварилась за целую ночь и лежала камнем в желудке. Хоть я и побаивался издевок погонщика, а все же спросил у хозяина:
– Почему это мясо такое невкусное и жесткое, все зубы переломаешь?
– Разве не видите, сеньор, – ответил мне хозяин, – оно совсем свеженькое, еще не пропиталось маринадом.
– Дело тут не в маринаде, – заметил погонщик, – а в том, что этот барчук вырос на медовых пряниках да на свежих яичках – вот ему все и кажется невкусным да жестким.
Пожав плечами, я замолчал; то был чужой для меня мир, и казалось, еще один день пути, и я перестану понимать язык окружающих. Ответ хозяина меня не убедил, на душе было скверно, а почему – я и сам не знал. И тут мне пришла на память клятва, которую хозяин так некстати произнес накануне вечером, уверяя, что жаркое из телятины. Мне это показалось подозрительным, и я подумал, не потому ли он и клялся, что лгал? Истина не нуждается в клятвах, разве что в суде или когда нужда заставит. А ежели человек оправдывается, прежде чем его обвинят, – это всегда неспроста. Мне стало не по себе, и хоть я дурного еще ничего не видел, а уж добра не ждал. Но я решил, что все это – одно мое воображение, и не придал значения своим предчувствиям.
Я спросил счет. Мой спутник сказал, чтобы я не беспокоился, – он, дескать, сам заплатит. Я отошел, подумав, что поступает он так по дружбе, не желая делить на двоих столь малую сумму. В душе и бесконечно был ему благодарен, восхваляя за щедрость, выказанную с самой нашей встречи на дороге, когда он бесплатно подвез меня и накормил.
Думалось мне, что всегда так будет и повсюду отыщется человек, готовый заплатить за меня и подвезти, Я воспрянул духом и все меньше вспоминал родительский кров, словно к мыслям о нем и обо всем, что я покинул, примешивалась ложка дегтя. А пока мой спутник расплачивался, я, не желая дать повод сказать, что преисподняя полна неблагодарных, напоил его ослов, а затем пригнал их обратно к кормушкам, чтобы они съели весь корм до того, как их начнут седлать. Стараясь угодить своему благодетелю, я даже поскреб ослам головы и уши. Пока я с ними возился, мои плащ, который лежал на скамье, испарился, как ртуть на огне или дым в воздухе, исчез прямо из-под рук, только я его и видел. Я заподозрил, что хозяин или погонщик шутки ради спрятали его.
Но дело запахло не шуткой, когда оба они стали божиться, что плаща у них нет и они понятия не имеют, кто мог его взять и где он. Я взглянул на ворота. Они были заперты, и никто их при мне не открывал. Кроме нас двоих с погонщиком да хозяина, во дворе никого не было. Я решил, что, наверно, сам куда-то засунул плащ и просто не припомню куда. Принялся я искать его по всему дому и, пройдя через зал и кухню, вышел на задний двор, где увидел большую лужу свежей крови и рядом шкуру лошака, с еще не отрезанными ножками, парой длинных ушей и передней частью морды. Тут же валялся череп, не хватало только языка и мозгов.
Подозрения мои подтвердились. Мигом позвал я своего спутника и, показывая на остатки от нашего ужина и завтрака, сказал:
– Ну, что ты теперь думаешь о тех, кто питается дома медовыми пряниками и свежими яичками? Не эту ли телятину ты расхваливал так громогласно? Вот он каков, твой хлебосол! Что ты теперь скажешь об ужине и завтраке, которыми он нас попотчевал? Да, славно обошелся с нами плут. Это он-то не продает кота за кролика, а козла за барана, глядит людям прямо в глаза! А еще проклинал хозяйку харчевни за ее мошенничества!
Погонщик был так ошеломлен этим зрелищем, что лишь понурил голову и молча пошел собираться в путь. От огорчения он за весь день не вымолвил ни слова до самого нашего расставанья. А распрощаться нам пришлось с неприятностями, как вы увидите дальше.
Пропажа плаща была для меня не шуткой, как поймет всякий, с кем случалось нечто подобное. А все же я почти обрадовался своей беде, ибо благодаря ей прекратились эти дурацкие взрывы хохота, от которых мне становилось тошно, и погонщик перестал донимать меня своими насмешками. Поэтому я немного осмелел, убеждая себя, что клятвы хозяина, будто он не брал плаща, – вздор. Велико могущество разума: даже слабым он придает силу и отвагу. Я стал настойчиво требовать у хозяина свой плащ, а он только шуточками отделывался. Наконец я вышел из себя и пригрозил ему судом, но пока еще и пальцем его не тронул и даже не заикнулся о том, что приметил. Видя, как я молод, беззащитен и беден, хозяин распетушился, стал кричать, что высечет меня, и осыпать всякой бранью, как то свойственно трусам. Но даже кроткий агнец впадает в ярость, когда его оскорбляют; слово за слово, мы разгорячились, и я, как ни был слаб и юн, отбил от скамьи полкирпича и швырнул в хозяина; если бы тот не спрятался за столб и удар мой настиг его, я был бы отомщен. Но плуту удалось увернуться и забежать в дом, откуда он тотчас же вышел с обнаженной шпагой в руке.
Полюбуйтесь на этого зверя, которому уже мало его огромных страшных лап, чтобы совладать с моими слабыми, детскими ручонками! Он уже забыл об угрозе высечь меня и теперь собирается напасть с оружием – на меня, глупого, безоружного птенца. Хозяин стал наступать, но я, напуганный всем происшедшим, успел запастись двумя булыжниками, которые выковырял па мощеном дворе. Заметив, что в обеих руках у меня по камню, хозяин остановился. Крики и шум на постоялом дворе всполошили народ во всем околотке. Сбежались соседи, за ними альгвасилы, писцы и целая толпа всякого народа.
В селении было два алькальда[82]82
…два алькальда… – В каждом населенном пункте Испании того времени было два алькальда от Эрмандады (см. комментарий 86), которые ведали разбором преступлений, совершенных за чертой селения.
[Закрыть], и оба явились на место происшествия. Каждый хотел забрать это дело в свои руки. Писцы, заботясь о своей выгоде, уверяли каждого из них, что дело надлежит расследовать именно ему, чем довели обоих до неистовства. Спор о том, кому достанется разбор дела, перешел в стычку не менее ожесточенную и шумную, нежели прежняя. Обе стороны извлекали из могил предков, честили матерей, не щадили и жен, перечисляя все их грешки. Вероятно, они говорили правду. Но ни один не слушал другого, да и все мы друг друга не слушали.
Явилось несколько рехидоров и уважаемых жителей селения; они кое-как утихомирили спорщиков, а затем взялись за меня, ибо где тонко, там и рвется. Конечно, всегда виноват чужак, бедняк, обездоленный человек без крова, поддержки и защиты. Стали допытываться, из-за чего, переполох, и, отведя меня в сторону, учинили допрос; я рассказал все как на духу. Потом, чтобы не услышали стоявшие во дворе люди, я попросил алькальдов отойти со мной подальше и тихонько сообщил им про лошака.
Алькальды сперва собирались опросить свидетелей, но, решив, что времени у них на все хватит, принялись писать бумагу, чтобы задержать хозяина, а тот, не подозревая, за какие грехи на него насели, и думая, что все дело в плаще, пытался отвертеться шуточками, – ведь никто не мог подтвердить, что у меня действительно был плащ, и подкрепить слова погонщика, уверявшего, что я приехал в плаще.
Но увидев, что во двор выносят одно за другим куски маринованного мяса, шкуру и прочие части лошака, хозяин обмер; он так перетрусил, что при допросе, учиненном тут же, во дворе, куда снесли все эти улики, сразу во всем сознался и покаялся, не смея что-либо отрицать или утаить. Поистине верно, что люди подлые, ведущие жизнь бесчестную, всегда малодушны и трусливы, как я уже раньше говорил. Хозяина не пытали, ему даже не пригрозили пыткой, а он уже повинился и в том, о чем его не спрашивали, – рассказал о своих воровских проделках и плутнях, содеянных им здесь, на постоялом дворе, а также в бытность скототорговцем, когда он грабил на большой дороге, чем и накопил денег для своего заведения.
Я слушал это, навострив уши, все ждал, не всплывет ли на свет божий и мой плащ, но хозяин был так зол на меня, что о плаще не обмолвился ни единым словом. Уж я старался и так и этак, чтобы заставить его проговориться, да все было зря.
Нашим показаниям – моим и погонщика – поверили, хоть были мы люди пришлые. Касательно же того, следует ли и меня заточить в тюрьму за драку и, как говорится, забрать и битого и небитого, мнения разошлись. Писцам хотелось упечь меня за решетку, и они на этом настаивали. Но один из алькальдов заявил, что я прав и никакой вины на мне нет. Да и что, мол, с меня спрашивать, когда я гол как сокол и даже плаща лишился. Итак, меня решили отпустить, а в тюрьму повели хозяина.
Мы с погонщиком маленько пообчистились и отправились в путь. Подъехали к тому месту, где нас ждали каноники, и те уселись верхом. Я рассказал им о происшествии, они весьма были удивлены и посочувствовали моей беде, но поправить ее ничем не могли и препоручили меня господу.
И мне и спутнику моему из-за переполоха и поспешного отъезда – а гнали мы вовсю – так и не пришлось сходить к мессе. Я же, по набожности своей, привык слушать ее каждый день. И вот с того дня запало мне в душу, что дурное начало к добру не приведет и не видать мне в жизни счастья и удачи. Так оно и сталось, о чем ты узнаешь из дальнейшего, ибо то, что начато без помощи божьей, добром не кончается.








