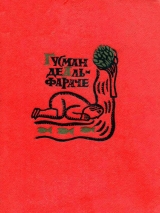
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
в которой Гусман де Альфараче рассказывает о своем приключении на службе у повара и о том, как хозяин прогнал его
Великой хвалы достоин тот, кто нажил добро своим трудом, но еще более следует почитать того, кто сумел сохранить нажитое. Желание угодить хозяевам тянуло меня в одну сторону, дурные привычки – еще сильнее в другую. И все мое усердие было сплошная фальшь, обезьянство. А слава, приобретенная ложью, недолго сияет и быстро меркнет.
Со мной случилось то, что бывает с масляным пятном: коль сразу его не увидишь, расползется и не выведешь. Теперь мне уже никто не верил: одни называли меня новой метлой, другие – кошкой Венеры[136]136
Кошка Венеры – образ, заимствованный из басни Эзопа. Юноше полюбилась красивая кошка, и он упросил Венеру превратить ее в девушку, чтобы взять в жены. Ночью невеста заметила мышь и, соскочив с брачного ложа, погналась за ней.
[Закрыть]. Они ошибались – по природе своей я был добр, и не она приохотила меня к дурному; это я ее испортил и склонил ко злу. Наставили же меня нужда и порок, а вышколили слуги и домашние моего хозяина.
Есть воры удачливые, которые доживают до старости, а есть неудачники, которые попадают на виселицу после первой кражи. Для других воровство было грехом прощеным, для меня – смертным. И поделом мне, ибо занялся тем, что мне не пристало. Развратило меня дурное общество, этот палач добродетели, лестница пороков, хмельное вино, удушливый дым, злые чары, мартовское солнце, бессердый аспид, пенье сирены. В начале службы я старался трудиться и снискать похвалу, но мало-помалу дурные приятели испортили меня. А помогла им праздность; она источник всех моих бед. Если к труженику стекаются все добродетели, то бездельнику сопутствуют все пороки.
Праздность – пространная нива нашей погибели, плуг, взрыхляющий почву для дурных помыслов, семя плевела, сапка, выпалывающая добрые нравы, серп, подрезающий добрые дела, цеп, который измолачивает нашу честь, воз, груженный злодеяниями, амбар для всяческих пороков.
Себя я не видел, а смотрел на других. Казалось мне, что в их делах нет ничего недозволенного, да не подумал я о том, что им, людям опытным, в воровстве закосневшим, оно сходит с рук и барыши приносит, ради чего они и служат. Захотелось и мне пристать к честной компании, да позабыл, что я им не ровня, а всего лишь оборванный пикаро.
Но если есть для меня извинение и вы согласны его выслушать, скажу, что, глядя, как легко все шагают по этой дорожке, я решил, что ведет она в сказочную страну Хауха[137]137
Хауха – провинция в Перу, славившаяся благодатным климатом и богатыми залежами драгоценных металлов. Название ее стало в испанском языке нарицательным словом для обозначения края изобилия.
[Закрыть], куда не худо бы и мне попасть, и даже полагал это делом доблести. Потом мне объяснили, что рассуждал я правильно, но жизнь понимал превратно. Ибо, по обычаю, булла с привилегией на воровство даруется лишь мастерам цеха богатых и сильных – фаворитам, спесивцам сановитым, льстецам, проливающим крокодиловы слезы, скорпионам, чьи уста ласкают, а хвост жалит, да подлипалам, кои сладкими речами ублажают плоть и горькими делами губят душу.
Таким, как они, все идет впрок, а таким, как я, все вменяется в преступление и порок. Да, я заблуждался, и заблуждение до того дошло, что недуг мой стал всем бросаться в глаза, хотя мои провинности были сущим пустяком.
Говорят, последним узнает о позоре муж. Каким-то чудом до ушей хозяина доходила едва ли сотая часть моих плутней; видно, слуги, которым я всегда старался угодить, не желали, чтобы он разгневался и прогнал меня, а может, привыкнув к таким делам, они, хоть и бранили меня, нисколько не удивлялись.
Но по моей неосторожности кое-какие из этих проделок вышли наружу, и хозяин рассердился, – теперь он ходил за мной по пятам, чтобы поймать на горячем.
Однажды его позвали во дворец; там готовились к пиру в честь некоего иностранного государя, недавно прибывшего в Мадрид. Хозяин взял меня с собой, чтобы, по свычаю и обычаю, переправить домой добычу. Едва вошли мы во дворцовую кухню, как в наше распоряжение поступили все припасы. Хозяин принялся с великой ловкостью рубить, резать и делить, щедро откладывая по собственному тарифу положенную ему долю; он опасался, как бы в кухонной суете, из-за всяческих забот, не упустили позаботиться о нем и не перепутали паи, ибо кесарю кесарево: каждый должен сам взять что причитается.
А когда стемнело, хозяин велел мне принести мешки. Набивая их до отказа, он украдкой, чтобы никто не заметил, взваливал их мне на плечи и отправлял домой; много раз пришлось мне пробежаться туда и обратно, от усталости я едва переводил дух. Каждый мешок был что Ноев ковчег, да еще неизвестно, было ли и в ковчеге столько всяких тварей, – может, господь создал их потом. Когда я с этим покончил, хозяин приказал развести огонь, согреть воду, ощипать и обжарить на углях птицу, с чем я провозился далеко за полночь.
У дорогого моего хозяина на душе было неспокойно, он места себе не находил, опасаясь, что его жена не сумеет одна разобраться с такой уймой припасов и непременно напутает.
– Гусманильо, – с тревогой сказал он, – ступай-ка домой, пристрой получше все, что принес, да не спи, стереги добро. Скажи хозяйке, что я остаюсь здесь. Присматривай за домом, а на рассвете мигом лети сюда.
Так я и сделал, передал хозяйке слова ее супруга, попросил у нее крюков и веревок, приладил их на галс-рее в патио и развесил наши трофеи. Любо было смотреть на пестрое оперение всех этих каплунов, куропаток, голубей, кур, павлинов, дроздов, перепелов, уток и гусей, среди которых кролики выглядывали точно живые; отдельно я развесил окорока, языки, куски телятины, дичи, веприны, баранины, молочных поросят и козлят. Весь патио был словно убран коврами, гвоздей я на это не пожалел; право, набралось столько разной живности, будто я приволок сюда по меньшей мере две части света из пяти; «для веселья не хватало лишь семи инфантов Лары»[138]138
«…лишь семи инфантов Лары» – два стиха из знаменитого романса о семи инфантах Лары. Их дядя, мстя за оскорбление своей невесты, предал их маврам, и все семеро были убиты, в пути, когда направлялись на его свадьбу.
[Закрыть]. Потрудившись на славу и разместив все наилучшим образом, я едва не свалился от усталости, но мои старания не пошли мне на пользу.
Господская спальня находилась в нижнем этаже. Пока я, как навозный жук, перетаскивал на своем горбу тяжелую ношу, хозяйка улеглась спать. Верно, за ужином она соленого поела и, по привычке, хлебнула лишнего. Закончив дела, я тоже решил прилечь и поднялся к себе наверх.
Было очень душно, я долго чесался да ворочался, но, несмотря на все мои усилия, сон наконец одолел меня, и я задремал. Однако, памятуя наказ хозяина встать пораньше, я спал неспокойно, воюя со сном и с одеялом, – в этих краях слугам вроде меня простыней не дают, только кинут ветхий тюфяк.
И вот, извольте радоваться, часа в три, уже перед рассветом, слышу я, что внизу, в патио, затеяли возню коты, которые, должно быть, устроили себе пир, стащив на крыше у соседей кусок вяленой трески. А нрав у этих тварей прескверный; точно старики, они всегда недовольны, даже за едой ворчат – не разберешь, то ли еда им по вкусу, то ли недосолена. Своим воем коты разбудили меня. Я прислушался и сказал себе: «Черт подери! Этот народец так расшумелся не из-за одежд праведного[139]139
…не из-за одежд праведного. – Намек на эпизод из Евангелия. Воины, распявшие Христа, бросали жребий, деля между собой его одежду.
[Закрыть]. Не иначе как грызутся, деля наше добро, – сожрут мясо, а расплачиваться моим костям. Ввек мне тогда не откупиться и не оправдаться!»
Думая, что меня никто не увидит, я как спал нагишом, так и соскочил с постели и сломя голову, будто семью мою похищают мавры и надо ее спасать, помчался вниз по лестнице, оступаясь и спотыкаясь, только бы поспеть на помощь вовремя, не опоздать, что нередко случается в важных делах.
Моя хозяйка, которая не была так утомлена, к тому времени успела выспаться; она небось уже десятый сон досмотрела и зашебаршила, как шелковичные черви, когда проснутся. Услышав кошачий концерт, она подумала, что я сплю – так бы оно и лучше было – и ничего не слышу. Ложилась она обычно одетая, но потом все с себя сбрасывала и спала голая. Так и в этот раз на ней не было ни рубашки, ни другой какой тряпки, чтобы прикрыть наследие праматери Евы. Забыв об этом, хозяйка выбежала из спальни и, дрожащая, со свечой в руке, ринулась на защиту своего добра. И ее и меня подняла с постели одна мысль, встревожились мы одинаково – речь ведь шла о кровном деле, – и так как оба были босые, прибежали почти без шума.
И вот мы в патио; она, завидев меня, пугается, я тоже. Хозяйка приняла меня за домового; она выронила подсвечник и закричала благим матом. Ослепленный пламенем свечи, я завопил еще громче, в ужасе решив, что это привидение, душа нашего эконома, который скончался за два дня до того, а теперь явился свести счеты с хозяином. Хозяйка орала на весь околоток, я своими криками мог бы поднять на ноги весь город. Она убежала в спальню, я поспешил к себе наверх. Коты бросились врассыпную, и на первой же ступеньке я наступил на одного из них, домашнего любимчика. Кот впился когтями мне в пятку, я подумал, что меня схватил сам дьявол; полумертвый от страха, я грохнулся ничком на ступеньки, ободрал колени и раскровенил нос.
Все произошло так быстро, что никто из нас двоих, прибежавших на зов набата, не успел догадаться, с кем повстречался. Лишь когда я упал на лестнице, а хозяйка спряталась в своей комнате, мы узнали друг друга по стонам и воплям.
Но, то ли с перепугу, то ли из-за утреннего холода, моей достопочтенной госпоже отказала сдерживающая способность; затворы ее утробы ослабли прежде, нежели она забежала в дом, и все содержимое осталось на пороге и в патио вместе со множеством вишневых косточек – видать, она глотала вишни целиком. Немало мне пришлось потрудиться с мытьем и уборкой, ибо следить за чистотой было моей обязанностью. Тут я узнал, что испражнения в подобных случаях куда зловонней и отвратительней, чем обычные, естественные. Предоставляю философу исследовать и выяснить причину, а я лишь свидетельствую о сем по опыту, поплатившись за него трудом в ущерб моему обонянию.
Это происшествие сильно сконфузило хозяйку, а меня еще сильней; хоть я был мужчина, но по молодости своей не набрался ума в таких делах. Стыдлив я был, точно девица; да на моем месте и настоящий мужчина смутился бы, глядя на этакую срамоту. Я искренне огорчался тем, что увидел хозяйку голой, и ни за что не согласился бы снова попасть в такую переделку. Тщетно пытался я убедить рассерженную женщину, что с моей стороны тут не было подвоха, – никакие клятвы не могли вразумить ее и доказать мою невиновность.
С той поры хозяйка прониклась неприязнью ко мне. Как я потом узнал от одной соседки, которой она рассказала об этом случае, более всего огорчало ее не то, что она показалась передо мной голая, а то, что дала волю своим кишкам, – на все прочее, говорила она, ей было наплевать; для женщины, мало-мальски уверенной в себе, это, мол, только лестно.
Когда я убедился, что с хозяйкой поладить не удастся, я почел это за дурной знак и со дня на день ждал, что меня выгонят из дому. Долго ли было ей взвести на меня напраслину, разжечь гнев супруга и обвинить меня, бедного, во всех грехах! Ни разу хозяйка уже не взглянула на меня ласково и не заговорила со мной.
Но это было потом, а тогда, лишь только рассвело, я, как было приказано, вернулся во дворец и снова впрягся в свое ярмо. О ночном происшествии я перед хозяином и не заикнулся. Он спросил, хорошо ли я разместил то, что принес домой. Я ответил, что все сделано, как надо. Мне поручили кое-какую работу. Уж поверьте, мой хозяин с прочими поварами, как и я с поварятами, работники и помощники, все мы не столько приправляли соусы, сколько переправляли добро в надежные тайники. Ну и был тут кавардак! Ни порядка, ни счета, ни расчета! Требовали, не стесняясь, выдавали, не жалея, хватали, не стыдясь. Как мало шло в котлы, как много пропадало зря! То просили сахару для тортов, то для тортов сахару – по два-три раза одного и того же.
Такие пиры называли мы «юбилеями»[140]140
Юбилеи – празднества, устраивавшиеся в Древнем Риме раз в сто лет. Этот обычай был поддержан папами, которые давали полное отпущение грехов богомольцам, являвшимся в Рим в год юбилея. Первый католический юбилей состоялся в 1300 г. и принес церкви такой доход, что юбилеи стали устраивать чаще – через пятьдесят, через тридцать три, а затем через двадцать пять лет.
[Закрыть]. Тут река выходила из берегов, и рыба сама в руки лезла. Помня поговорку «люди за хлеб, так и я не слеп», я подумал, что зубы у меня не тупее, чем у прочих, почему бы и мне не получить индульгенцию? Я тоже из плоти и крови, руки-ноги у меня на месте. Конечно, нечего мне и мечтать во всем уподобиться себе подобным, но не велик грех, если я подберу хоть объедки с их стола, подкормлюсь на даровщинку.
Я ощипывал птицу, чистил миндаль и орехи, грел воду и делал пропасть всяких других дел – прямо из сил выбился. Одежонки на мне только и было, что старая рубашка да рваный кафтан. На долю моего хозяина досталась корзина яиц. Я сунул несколько штук под рубашку, прямо к голому телу, да еще в карманы припрятал. На этом я и погорел. А поступил я так не из жадности; взял-то я чепуху, больше из желания похвалиться, что и я, мол, разок поцеловал невесту, а то скажут, что невинным остался, – в столице побывал, а короля не видал.
Подлец-хозяин сразу это пронюхал и решил моей виной себя обелить, уличить меня в краже и тем доказать свою честность. Когда я выходил из кухни, чтоб спрятать эти злосчастные яйца, он в присутствии закупщика и других почтенных слуг накинулся на меня, аки лев рыкающий, начал таскать за вихры и пинать ногами.
Сам представь, что стало с моим товаром, – все яйца раскололись, белки и желтки потекли по ногам. «Знать, преследует меня какая-то куриная планида», – подумал я. Мне захотелось гневно крикнуть: «Ты ворюга, у тебя весь дом увешан краденым, что ты воровал, а я таскал! И ты еще подымаешь шум из-за этой несчастной полдюжины яиц! Не меня, а себя позоришь!» Но я предпочел смолчать, ибо молчанье лучший ответ на брань. Тяжело мне было сносить ее от своего хозяина; будь это чужой, я бы меньше огорчился. Но что поделаешь, пришлось стерпеть; я не отвечал ни слова и только возводил к небу полные слез глаза.
Когда кончилась эта суматоха с пиром, мы пошли домой. По дороге хозяин сказал мне:
– Послушай, Гусманильо! Мне самому жаль, – больше, чем ты думаешь, – что нынче тебе досталось. Знаю, я был неправ; но ты не горюй, завтра я куплю тебе новые башмаки, а стоят они побольше, чем эти яйца.
Я порадовался обещанию: башмаки у меня были старые, худые.
Но, как вошли мы в дом, хозяйка, должно быть, наговорила мужу, и с того дня повар глядел на меня с такой кислой миной, точно уксусу хлебнул; о том, чтобы купить башмаки, уж и речи не было, – так я и остался без них. Видя, что хозяин сердится, я рассыпа́лся перед ним мелким бесом, угождал во всем пуще прежнего и на кухне старался ни в чем не проштрафиться.
Как-то в праздник у нас, по обычаю, готовили мясо, запеченное в тесте, и всякие пироги, после чего осталось немного теста, а среди мусора завалялась мозговая кость, почти нетронутая. Назавтра ожидался бой быков, и мне, чтобы повеселиться, дозарезу нужно было раздобыть деньжат. В один миг я обмазал тестом этот мосол, да так ловко, что с виду он вполне мог сойти за отличного кролика.
С этим товаром побежал я на наш рынок, надеясь облапошить какого-нибудь чужака, но времени было в обрез, и долго дожидаться покупателя я не мог. Ко мне подошел почтенный седой эскудеро, я сразу сбавил цену, и мы сошлись на трех с половиной реалах; я был на седьмом небе от радости, что так быстро вернусь домой. Я спешил, но покупателю было не к спеху. Он неторопливо засунул под мышку небольшой календарь, который держал в руке, заткнул за пояс перчатки и носовой платок, затем вынул из футляра очки и битых два часа протирал их и вздевал на нос. После этого он принялся вынимать из кошелька по одному куарто и класть монеты мне на ладонь, причем каждый полкуарто казался ему целым куартильо, и он по шесть раз переворачивал монетку в руке, да еще разглядывал на свет.
Только получил я свои деньги, как принесла нелегкая моего хозяина; заметив мое отсутствие, он отправился на розыски.
– Чем торгуете, молодой человек? – спросил он, хватая меня за руку.
Эскудеро, будь он трижды проклят, все еще не убрался, а при нем я не мог раскрыть свой секрет. Не смея объявить себя изобретателем столь замечательного творения, я онемел; так оно и осталось безымянным, вроде запрещенной книги или другого недозволенного товара; зато наказание досталось мне, ибо хозяин отнял у меня все монеты до единой, приговаривая:
– Выкладывай деньги, мерзавец! И мне еще расхваливали тебя! Притворялся тихоней, корчил из себя честного малого! И такому я доверял свое имущество! Такого вора пригрел! Кормил-поил его, а он, выходит, плут отпетый! Чтоб ноги твоей не было в моем доме! И близко не смей подходить! Кто на малое позарится, и большим не побрезгует.
И, угостив подзатыльником да пинком в придачу, он едва не сбил меня с ног. А треклятый покупатель все стоял да смотрел – послала же мне злая судьба этакого увальня!
Растерявшись, я не знал, что говорить, а мог бы своему ругателю напомнить кое о чем. Но как-никак он был моим хозяином, спорить мне не подобало; я побрел прочь, понуря голову, не говоря ни слова. Куда разумней молча уходить от оскорблений, чем отвечать на них бранью.
ГЛАВА VIIо том, как Гусман де Альфараче, выгнанный поваром, снова стал пикаро, и о том, как он обокрал бакалейщика
Во всех обстоятельствах мудрость надобно предпочесть богатству, ибо фортуна превратна, мудрость же не покидает нас и в беде. Деньги растрачиваются, а знания возрастают, и как бы мало ни знал мудрец, это больше, чем все достояние богача. Вряд ли кто усомнится в превосходстве мудрости над богатством. Философы изображали фортуну в самых различных видах, ибо она многолика; каждый из них рисовал тот ее лик, каким она оборачивалась к нему или к другим людям, коих он наблюдал. Когда фортуна благосклонна, она – мачеха всех добродетелей, когда враждебна – мать всех пороков; чем больше благоволит она смертному, тем больше горестей уготовляет ему. Она хрупка, как стекло, неустойчива, как шар на гладкой поверхности. Сегодня дает, завтра отнимает. Как волны морские, она всегда в движении. Катит нас, вертит и так и эдак, и вдруг выбросит на брега смерти, где уже оставляет нас навеки; а при жизни, словно комедиантов, принуждает учить все новые и новые роли, дабы разыгрывать их на подмостках вселенной.
Любой ничтожный случай может разорить нас, похитить наше богатство, но, раздавленные фортуной, отчаявшиеся в исцелении, мы находим искусного врачевателя в мудрости. Знания подобны богатейшим россыпям, откуда всякий, кто пожелает, может черпать сокровища, как воду из полноводной реки, не боясь, что река оскудеет или иссякнет. Мудрость украшает нас в счастье и поддерживает в несчастье. В бедняке она – серебро, в богаче – золото, а в государе – сверкающий алмаз. Мудрец благополучно проходит опасные спуски и мрачные теснины фортуны, тогда как глупец и на ровном месте спотыкается и падает.
Никакие земные невзгоды, морские бури и воздушные вихри не могут одолеть мудрость; посему всякий человек должен жить, чтобы познавать, и познавать, чтобы разумно жить. Блага, даруемые мудростью, надежны и устойчивы, постоянны и вечны.
Ты, пожалуй, спросишь меня: «Куда это Гусман направился с таким грузом мудрости? Что он собирается с нею делать? Зачем восхваляет ее так усердно и многословно? Что он хочет нам сказать? К чему клонит?»
Увы, брат мой, всего только к корзине носильщика, ибо мудрость, которую я постиг, заключалась лишь в том, как на хлеб заработать, а это добрая половина всей мудрости. У кого работа, у того и заработок, и, не зная иного способа перебиться, я в ту пору счел ремесло носильщика занятием не менее достойным, чем красноречие для Демосфена или хитроумные деяния для Улисса.
По натуре я был склонен к добру. Сын людей благородных и почтенных, я не мог склонности сей ни подавить в себе, ни утратить. Я всенепременно должен был походить на родителей, терпеливо снося оскорбления, в коих испытываются сильные духом. Ежели дурным людям счастье лишь во вред, то людям добродетельным и несчастья идут на пользу.
Кто мог подумать, что за службу усердную со мной рассчитаются столь жестокосердно, да еще по такому случайному и пустячному поводу? Впрочем, ты можешь сказать, что на том и мир держится: та же причина, которая побуждает человека нести службу честно, ревностно и исправно, толкает его на забвение и нарушение долга, и смысл этого либо в том, чтобы все равно заблуждались, либо же в том, чтобы господь, по предназначению своему, вслед за преступлением насылал кару.
Дорого бы я дал за то, чтобы открыть хозяину, в чем состоял весь мой грех! Да все равно не помогло бы, слишком был он зол на меня из-за наговоров супруги. Малейшая оплошность погубила бы меня, и, как бы я ни остерегался, дела мои были плохи. И вот я на улице; отколотили, прогнали и «до свиданья» не сказали. Что делать, куда податься, что будет со мной? Кто теперь согласится взять меня на службу, меня, выгнанного за воровство?
Тут я вспомнил о прежних своих злоключениях и о том, как корзина стала для меня якорем спасения. Лето пролетело, берись пирожник за дело[141]141
…берись, пирожник, за дело. – Поговорка, связанная с тем, что пирожники, выпекавшие горячие пончики, занимались этим только зимой (см. в Книге первой, гл. III).
[Закрыть]. Хорошо, что пришлось тогда потрудиться, – теперь это мне пригодилось. Коль взялся за труды по доброй воле, они не в тягость и в злой доле; от них никуда не убежишь, потому лучше к ним привыкать заранее. Они приучают нас к смирению, а оно нам всегда на пользу.
Пусть горек твой труд, но, если захочешь, ты обретешь в нем сладостную награду; и хоть сладостно отдохновение, страшись горькой расплаты, если не заслужил его своей добродетелью. Не доведись мне прежде испытать, что такое труд, я, обленясь на хозяйских хлебах и привыкнув к безоблачному житью поваренка, подобно кормчему, плававшему лишь в пресных водах, ни за что не сумел бы, покинув кухонную гавань, проплыть по бурному морю и пособить своей беде.
Что сталось бы тогда со мной? Только вообрази, как я был растерян и удручен, как печалился, лишившись места и не зная, как прожить, где голову приклонить. На деньги, что я получал, выигрывал и крал, я не приобрел себе ни поместья, ни дохода, ни дома, ни плаща, ни другой одежонки. Как приходило, так уходило, что получал, то проедал, что выигрывал, то спускал, и вот по делам и плоды.
Но нет худа без добра: во всех невзгодах оставался при мне главный мой капитал – бесстыдство, а бедняку от стыда мало проку, – чем меньше стыдится, тем меньше и страдает от своих неудач.
В столице я знал все ходы и выходы; на покупку корзины деньги у меня были. Но прежде чем снова взвалить ее на плечи, я попробовал обойти друзей и знакомых моего хозяина в надежде, что кто-нибудь да возьмет меня, – ведь дело я уже знал и охотно подучился бы еще чему-нибудь, чтобы заработать на пропитание. Некоторые меня жалели и не отказывали в куске хлеба. Но вскоре им, верно, наговорили обо мне такого, что передо мной стали захлопываться все двери. На кого бог, на того и люди.
Службу я искал, дабы не упрекать себя, что вернулся к прошлому, не пожелав взяться за честный труд. Поверь, в ту пору я любил труд, ибо на опыте познал губительность пороков и убедился, что лишь труд дает человеку право называться человеком, тогда как праздность лишает его этого права. Но, увы, для меня уже было поздно.
Не пойму, отчего так получается, что, стремясь к добродетели, мы никогда ее не достигаем и хоть в иные часы полны благих намерений, нам не удается их осуществить за целые годы и даже за всю жизнь. Видно, потому, что наши желания и помыслы устремлены лишь к настоящему.
Начал я снова таскать свою корзину. В пище ограничивал себя необходимым; желудок никогда не был для меня богом, и я знал, что человеку надлежит съедать ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни, меж тем как, предаваясь чревоугодию, он уподобляется скоту, который откармливают на сало. Таким образом, питаясь умеренно, я был духом бодр, телом крепок, не страдал от дурных соков, короче, был здоров и даже деньги для картишек у меня оставались.
Пил я тоже в меру, не брался за флягу без надобности и остерегался хватить лишнего. Такова была моя натура, к тому же мне претило безудержное пьянство моих товарищей, которых вино лишало понятия и чувств. Еле живые, охрипшие, с воспаленными глазами, отравляя воздух зловонным дыханием и бранью, спотыкаясь и кланяясь, расшаркиваясь и приплясывая в лад бубенцам, звеневшим в их забубенных головушках, они – на позор роду человеческому – были забавой для мальчишек, посмешищем для взрослых и уроком равно для всех.
Пикаро-пьяница, еще куда ни шло. Этому я не дивлюсь; им, отребью общества, всякая низость пристала, всякое бесчинство к лицу… Но чтобы люди уважаемые, именитые и сановные, те, кто должен быть примером воздержания, поступали не лучше плутов! Чтобы лица духовные дозволяли себе преступить меру в винопитии! И не только преступить, но и дойти до такого состояния, когда их непотребство всем заметно. Пусть сами рассудят, ежели способны рассуждать; но боюсь, они примутся оправдывать одну нелепость другими, доказывая по всем правилам логики, что согрешить раз – все равно что грешить сотни раз, а также и выпить, хоть каждый из них понимает, что это не так. Об этом пороке стыдно говорить, позорно ему предаваться, бесчестно потакать ему; он заслуживает лишь презрения.
На площади подле храма Святого Креста[142]142
…подле храма Святого Креста… – У этого храма находился рынок, и там собирались носильщики-пикаро.
[Закрыть] был у нас, пикаро, свой домишко, купленный и обстроенный на чужие деньги. Там мы собирались, там веселились. Я вставал на рассвете, забегал ко всем торговкам и пекарям, не пропускал и бойню – каждое утро приносило мне жатву, которой я кормился весь день; клиенты, не имевшие слуг, платили мне за доставку припасов, а я исполнял их поручения честно и расторопно, без обмана и плутовства.
Обо мне пошла добрая слава, и нередко мои товарищи сидели впроголодь, меж тем как у меня хватало денег даже нанять помощника. В ту пору пикаро было мало, но мы часто сидели без дела; нынче их много, а всем работы хватает. В наши дни сословие пикаро самое многочисленное, все в него попадают и даже гордятся этим. Так низко мы пали, что позор кажется нам завидной участью, а унижение – честью.
Как-то разнесся слух, что нескольким капитанам дано поручение набрать отряды, а такие вести тотчас распространяются, и в каждом кружке болтунов, в каждом доме начинаются заседания государственного совета. В плутовском притоне тоже не дремлют, тамошние обитатели не хуже других участвуют в управлении государством, произносят речи, высказывают свои мнения и сочиняют прожекты. Не думай, что низкое звание этого люда умаляет точность и верность их суждении. Напротив, именно они нередко и знают настоятельные нужды страны, а причину сего понять нетрудно: среди них немало людей весьма рассудительных, достойных лучшей участи. Снуя день-деньской по городу, бродя по улицам и дворам, они всего насмотрятся и наслушаются, тем более что их много, а ходят они в одиночку. И хоть говорят «сколько голов, столько умов», пусть сто человек несут околесицу, найдутся и такие, что рассуждают вполне здраво. И вот, притащив целый ворох новостей, мы за ужином принимались обсуждать события в столице. Да что мы! В любом погребке или трактире лишь о том и судачили, а мы слушали да на ус мотали – в этих заведениях тоже есть свои классы и залы для диспутов; здесь решают самые запутанные дела, ставят пределы притязаниям султана, реформируют королевские советы, привлекают к ответу вельмож. Словом, здесь все известно, всему выносится приговор, все подсудно этим законодателям, ибо вещают они устами Бахуса и усердно чтят праматерь Цереру[143]143
…чтят праматерь Цереру… – то есть усердно поглощают всякие яства. Церера – у древних римлян богиня плодородия и земледелия.
[Закрыть], разглагольствуя на полный желудок, а известно, что от молодого вина в бочке бурлит.
Наслушавшись этих разговоров, мы затем обсуждали их в нашей хунте. На сей раз мы предсказали, что новые отряды направятся в Италию. Так оно и сталось: подняв свои знамена в Ла-Манче и проследовав от Альмодо́вара и Аргамасильи[144]144
Альмодовар, Аргамасилья. – Альмодовар – город на юге провинции Сьюдад-Реаль. Аргамасилья – местечко в Ла-Манче, в ста пятидесяти километрах к югу от Мадрида.
[Закрыть] по окраинам Толедского королевства, они дошли до Алькала́-де-Энарес и Гвадалахары[145]145
Алькала́-де-Энарес, Гвадалахара. – Алькала́-де-Энарес – город в провинции Мадрид, славившийся своим университетом, основанным в начале XVI в. Гвадалахара – главный город одноименной провинции к северо-востоку от Мадрида.
[Закрыть], приближаясь к Средиземному морю.
Я решил, что наконец мне представляется случай осуществить давнее горячее желание – отправиться в Италию, чтобы познакомиться со своими родичами и узнать, что они за люди. Однако я до того обносился и оборвался, что об этом не могло быть и речи; узда здравого смысла сдержала мой пыл. И все же, отказавшись пока от своего намерения, я непрестанно о нем думал.
Эта мысль не выходила у меня из головы. Днем я размышлял о путешествии, ночью видел его во сне. В Риме говорят: «Хочешь стать папой, сперва представь себе это в уме», – и на мне эта поговорка подтвердилась. Однажды, поглощенный своей вечной заботой, сидел я на рынке близ лавки, у которой мы с помощником обычно ожидали работы. Подперев щеку рукой, я прикидывал, как бы увязаться за солдатами, хоть носильщиком, если ничего лучшего не придумаю, как вдруг услышал:
– Гусман, эй, Гусманильо!
Я обернулся на окрик и увидел, что из-под навеса у ворот бойни зовет меня бакалейщик. Он помахал рукой, чтобы я подошел; и когда я спросил, чего ему надо, он сказал:
– Открывай свою корзину.
Он высыпал в нее две с половиной тысячи реалов в серебре и золоте да горсть медных куарто. Я спросил:
– К какому меднику прикажете отнести все эти медяки?
Он сказал:
– Ишь ты плут, по-твоему, это медяки? Поворачивайся живей, надобно снести это одному чужеземному купцу, у которого я закупил товар для своей лавки.
Говорит он это мне, а я о своем думаю – как бы мне его надуть. Ибо ни любящий отец при радостной вести о рождении долгожданного сына, ни потерпевший кораблекрушение моряк при виде желанной гавани, ни доблестный полководец при падении крепости, завоеванной в упорных боях, так не радуются, как возликовал я при сих сладостных словах, произнесенных звучным и приятным голосом доброго бакалейщика: «Открывай свою корзину».
Великие слова! Каждая их буква запечатлелась в моем сердце золотыми письменами, наполнив его блаженством. И особливо, когда золото оказалось самой чистой пробы и меня ввели в полное и безраздельное владение тем, чего жаждала моя душа. С того счастливого мгновения у меня появились деньги, и жизнь моя потекла по-иному. Я взвалил на плечи корзину, делая вид, что изнываю под ее тяжестью, хотя скорее изнывал от сожаления, что ноша недостаточно тяжела.
Бакалейщик пошел вперед, а я за ним, сгорая от желания очутиться в толпе; тогда, воспользовавшись толчеей, я улизнул бы в какой-нибудь переулок или подворотню.
Фортуна вняла моим мольбам и послала мне отличный проходной двор – всегда бы так везло! Шмыгнув в главные ворота, я вышел через заднюю калитку за три улицы оттуда и принялся петлять по переулкам, шагая медленно и чинно, чтобы не вызвать подозрений; так с самым невинным видом я добрался до Ворот де-ла-Вега, а оттуда уже пустился во всю прыть к реке. Миновав Каса-дель-Кампо[146]146
Каса-дель-Кампо – парк в окрестностях Мадрида, где находился охотничий домик, построенный по приказу Филиппа II.
[Закрыть], я под покровом темноты прошагал еще одну лигу и углубился в заросли тополей, осин и ежевики.
Там, в самой чаще, я сделал остановку; надо было обдумать, как поступить в будущем, чтобы извлечь пользу из прошлого. Удачно начать и продолжить – еще полдела. Что толку в хорошем начале и отличной середине без благополучного конца? Что толку в краденом, коли меня поймают? Я бы все потерял, да, может, и уши в придачу[147]147
…и уши в придачу… – За воровство наказывали первый раз плетьми, во второй раз отрезали уши, а в третий раз отправляли на виселицу.
[Закрыть], а будь немного постарше, удостоился бы чести через год быть помянутым в панихиде.








