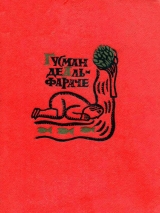
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Следует различать доброжелательство, дружбу и любовь. Доброжелательным я могу быть и к человеку, которого никогда не видел, а только слышал о его добродетелях и благородстве либо о других достоинствах, вызвавших у меня такое чувство. Дружбой мы называем отношения, кои завязываем с людьми, встречаясь и беседуя с ними или же сближаясь к взаимной пользе. Вот почему доброжелательство мы можем питать и к людям, от нас далеким, а дружбу – лишь к людям близким. Любовь же – особь статья. Она непременно взаимная, ибо тут две души обмениваются местами и каждая больше пребывает в любимом предмете, нежели в собственном теле. Любовь тем совершенней, чем совершенней ее предмет, и вполне истинна лишь любовь к богу. Посему должны мы превыше всего любить бога, посвящая ему все наше сердце и все силы, ибо так же велика и его любовь к нам. А после бога надлежит любить супруга и ближнего своего. Низменное же, нечистое чувство не может и недостойно именоваться любовью, ибо оно не истинно; всюду, где возникнет любовь, действуют лишь одни ее чары, единственные чары на свете. Любовь равняет сословия, сокрушает твердыни и укрощает свирепых львов. А потому ошибаются те, кто верит в любовные напитки или зелья; от них человек только теряет рассудок, лишается жизни и доброй славы, впадает в недуг и тяжкие грехи. Истинная любовь свободна; полюбив, мы добровольно вверяем себя во власть любимого существа. Но если алькайда[42]42
Алькайд – комендант крепости.
[Закрыть] силой вынуждают сдать крепость, он ее сдает, а не отдает добровольно, и о том, кто полюбил благодаря нечестным приемам, нельзя сказать, что он любит, ибо его увлекли насильно туда, куда должна вести свободная воля.
Слово за слово, хозяин и гости разговорились, а затем сели за карты. Принялись они втроем играть в примеру[43]43
Примера – см. ниже примечание 80 (Флюс).
[Закрыть]. Матушка все была в выигрыше, потому что отец нарочно проигрывал. А когда стало темнеть, игру прекратили и вышли в сад насладиться прохладой. Тем временем были накрыты столы. Господа поужинали, затем спустились к реке, наняли гребцов и, приказав украсить лодку зеленью, уселись в нее и поплыли к Севилье под звуки нежной гармоничной музыки, доносившейся о других лодок. В этих местах, да еще весною, музыка на воде – вещь обычная.
Приехав в город, все разошлись по домам и каждый улегся в свою постель; вот только о матушке я бы этого не сказал с уверенностью, ибо, когда она спала с супругом, у нее было, как у некоей второй Мелисандры, «тело пленное в Сансуэнье, а душа в Париже милом»[44]44
«…в Париже милом». – Стихи из старинного романса о Гайферосе и его жене Мелисандре, похищенной маврами и находившейся в плену в Сансуэнье (то есть Саксонии). Согласно романсам, Гайферос – племянник Карла Великого, а Мелисандра – дочь этого императора.
[Закрыть].
С этого дня между нею и моим отцом возникла самая тесная дружба, и оба они, памятуя, сколь много потеряют, если союз их распадется, вели себя с таким благоразумием и ловкостью, на какие способен только изворотливый левантинец генуэзской выучки, который вам подсчитает и укажет в процентах, что выгодней – ломать хлеб руками или резать ножом; под стать ему была и матушка, о достоинствах которой я уже говорил, уроженка Андалусии, прошедшая хорошую школу, а высшее образование получившая в капелле святой девы де ла Антигва между двумя хорами[45]45
…между двумя хорами. – Капелла святой девы де ла Антигва – одна из основных капелл Севильского кафедрального собора, обычное место свиданий кавалеров с дамами.
[Закрыть]. Матушка и прежде не гнушалась разными делишками, так что, вступая в союз со старым кабальеро, она, как в том клялась мне, внесла свою долю, не утаив ни одной вещицы и ни одной монетки, – более трех тысяч дукатов в золотых и серебряных вещах, не считая мебели и одежды.
Быстро мчится время, и все спешит вслед за ним. Каждый новый день приносит новое, и вотще пытались бы мы задержать быстротекущее – с каждой минутой все меньше минут остается жить, с каждым утром мы стареем и приближаемся к смерти. Как я уже упоминал, добрый кабальеро был человек пожилой и хворый, а матушка – женщина молодая, красивая, с огоньком. Лакомый кусочек дразнил аппетит старика, и невоздержность наконец свела его в могилу. Сперва рези в желудке, потом головные боли да лихорадка, а там, глядишь, перестал есть и пить. Так мало-помалу распутство сгубило старика, он отдал богу душу, и возвратить его к жизни не смогла даже та, кого он называл «жизнью своей». Да, пустые это слова: его-то похоронили, а она осталась жива.
Было в доме старого кабальеро множество племянников, но, кроме меня, ни один не доводился моей матери сыном. Все они, как хлебцы десятинного сбора[46]46
…как хлебцы десятинного сбора… – Десятинный сбор в пользу церкви часто выплачивался натурой.
[Закрыть], были разной выпечки. Наш благодетель, царство ему небесное, мало знал радостей в жизни сей. А когда настал час его кончины, все – и племянники, и моя мать – принялись хватать кто что мог; душа еще не покинула бренное тело, а уж на постели ни одной простыни не осталось. При разграблении Антверпена[47]47
При разграблении Антверпена… – Это разграбление произошло в 1576 г, после отъезда герцога Альбы, королевского наместника во Фландрии, и внезапной смерти его преемника. Испанские войска, оставшиеся без верховного командования, начали вымогать деньги у местных властей, бесчинствовать и грабить. Антверпен подвергся такому опустошению, что это вошло в поговорку.
[Закрыть] и то меньше усердствовали – нас подгонял страх перед секвестром[48]48
Секвестр – здесь конфискация церковью имущества лица, пользовавшегося церковными доходами и умершего без наследников.
[Закрыть]. Пока был жив старик, моя мать ведала кухней, распоряжалась бельем, хранила ключи и пользовалась полным доверием хозяина; теперь она позаботилась заранее передать все, что сумела, тому, кому отдала свое сердце. Все ценное в доме было в ее руках, но, почуяв опасность, матушка на всякий случай решила припрятать добро, чтобы не пришлось потом каяться.
Все потрудились так славно, что едва осталось на что похоронить покойника. Несколько дней спустя власти стали доискиваться, куда делось имущество. В церквах и на дверях домов развесили указ об отлучении расхитителей, но на том дело и кончилось, – украденное редко возвращают. Матушку мою все же оправдать можно – покойный кабальеро, земля ему пухом, пересчитывая деньги, перекладывая сундуки или принося что-нибудь в дом, не раз ей говаривал: «Все здесь твое, все для тебя, госпожа моя». А этого, как объяснили законники, было вполне достаточно, чтобы успокоить ее совесть. К тому же она взяла лишь то, что ей причиталось: пусть промысел бесчестен, доходы были честные.
Эта жалкая кончина подтверждает мудрость слышанных мною слов о том, что богачи умирают от голода, бедняки – от объедения, а кто живет церковными доходами и не имеет наследников – от холода. Примером может служить наш кабальеро, ибо еще при жизни ему рубашки на теле не оставили, а саван сшили из милости. Богачи боятся, как бы пища им не повредила, да сами себе вредят: еда им подается унциями, питье – наперстками, они не живут, а прозябают, и чаще умирают от голода, нежели от недугов. А вот бедняков все жалеют, за то, что они бедняки: один им подаяние посылает, другой сам приносит, все готовы им помочь, особенно когда нищета доходит до крайности. Истощенные, оголодалые, набрасываются они на все без разбору, ибо удержать их некому, и так объедаются, что природного жара не хватает на то, чтобы переварить обильную пищу, которая гасит и этот слабый жар; вот почему они погибают от объедения.
То же видим мы и в больницах, куда ходят благочестивые сердобольные дурехи, приносят в карманах и рукавах всякую снедь больным, а вслед за хозяйками и служанки тащат полные корзины гостинцев. Полагая, что подают милостыню, эти святоши, из любви к богу, только губят бедняков. По-моему, обычай этот следовало бы отменить. Пусть подаяние вручают больничному служителю, а он уже по усмотрению лекаря все распределит, как должно, и каждый кусок попадет на свое место, а то от этих подаяний только зло и пагуба. Кто занимается благотворительностью, не думая, на пользу она или во вред, не считаясь ни с болезнью, ни с состоянием больного, – закармливает несчастных, будто каплунов, и попросту убивает их. Отсюда ясно, что всякую снедь следует передавать служителям, дабы те разумно ее распределили, либо подавать деньгами, которые пойдут на более неотложные нужды.
Что за вздор я несу! Да еще подкрепленный богословием! Не сдается ли вам, мои читатели, что я одним скачком перемахнул со скамьи галерника на капитанский мостик. Это я-то вздумал поучать добрых людей, что твой Иоанн Божий![49]49
Иоанн Божий (1495—1550) – почетное прозвание португальца Жуана Сьюдад, основателя ордена «Милосердных братьев».
[Закрыть] Печь накалилась, потому искры и посыпались. Уж извини, читатель, если я сболтнул лишнее. Просто попалась по пути кегля, я и запустил в нее шаром. Так буду поступать и впредь при всяком удобном случае. А ты не гляди, кто говорит с тобой, а слушай, что он говорит, – ведь, надевая щегольской костюм, ты не думаешь о том, что его, быть может, сшил горбун. Заранее предупреждаю: запасись терпением и не придирайся ко мне. Всем не угодишь: различие вкусов не измерить никакой меркой, не взвесить никакими весами; каждый судит на свой лад, полагая, что его вкус самый верный, и чаще всего ошибается, ибо у большинства вкус плохой.
Но возвращаюсь на прежнее место – там ждет меня матушка, ныне уже вдова после первого своего сожителя; зато второй ее нежно любит и осыпает подарками. Пока суд да дело, мне исполнилось три года, пошел четвертый, и по расчетам и законам женской науки было у меня двое отцов. Ибо моя мать умудрилась сделать так, что оба меня усыновили, то есть задумала и осуществила невозможное. Сами посудите – оба равно ее любили, оба были довольны и счастливы. Каждый считал меня своим сыном – так называл меня и один и другой. Наедине со стариком моя мать твердила ему, что я – вылитый кабальеро и мы с ним схожи как две капли воды. Когда же оставалась с моим отцом, то клялась, что мы словно два близнеца, только я поменьше ростом, и она просто диву дается, как это до сих пор правда не вышла наружу – ведь и слепой, проведя рукой по нашим лицам, уличил бы ее в измене. И отец и кабальеро так ее любили, так ей верили, что все осталось шито-крыто и ни один ее ни в чем не заподозрил.
Каждый из них доверял ее словам и баловал меня. Разница была лишь в том, что, пока был жив добрый кабальеро, в глазах людей моим отцом слыл он, а настоящим отцом, хоть и тайным, был другой. Впоследствии мать подтвердила это, подробно рассказав мне обо всем. Итак, я заранее отметаю всякие попытки опозорить меня. Из уст моей матери я не раз слышал и повторяю ее слова: никто, мол, не может с уверенностью сказать, кто из них двоих был моим отцом и не был ли им кто-нибудь третий. Да простит меня моя родительница, а только правда важнее всего, особенно для сочинителя, и я не желаю подвергнуться упрекам в том, что плету небылицы. Конечно, женщина, которая уверяет в своей любви двух мужчин зараз, обманывает обоих, и верить ей нельзя, Но это справедливо лишь для незамужних женщин, а что до замужних – тут иные правила. Замужние обычно говорят, что двое мужчин – все равно что один, один – все равно что ни одного, а вот трое – уж плутовство. Ведь муж в счет не идет, и в этом они правы; стало быть, коли есть только муж – все равно что нет никого; а если к мужу есть другой мужчина – значит, есть один; а коли есть еще два, а всего трое, – это равно двум мужчинам для незамужней. Итак, по этому рассуждению расчет получается правильный. Как бы то ни было, отцом моим был левантинец – и он и мать твердили мне это и доказывали каждый по-своему, а раз обе стороны пришли к соглашению, не мне затевать тяжбу. Сыном левантинца я себя называю и полагаю, ибо в этом союзе мое рождение узаконили священными узами брака, а мне оно и удобней, нежели слышать от всякого встречного, что я, дескать, ублюдок, безотцовщина.
Отец мой так любил нас с матерью, и не на словах, а на деле, что пренебрег людской молвой, мнением общества, гласом народа, – ведь матушку по ее первому сожителю иначе не величали, как «командоршей», и она отзывалась на это прозвище, будто и впрямь за ней числилась энкомьенда. Не посмотрев ни на то, ни на другое, отец с нею обвенчался. Но ты, читатель, не подумай, будто поступил он опрометчиво. Каждый сам знает, что ему лучше: умному в его дому дурак не указ.
Но времечко шло. Усадьба моего отца, которой он обзавелся для развлечения, принесла ему одно разорение; доходов было мало, убытков много, деньги так и летели – и на хозяйство, и на пирушки. Такие поместья хороши, когда к ним имеешь другие, понадежней и прибыльней, и с тех живешь; для людей же не слишком богатых – это моль, поедающая все до ниточки, это червь-древоточец, от которого все идет прахом, это цикута в сосуде с амброй. Усадьба, тяжбы, разорительная страсть к моей матери и прочие расходы опустошили кошелек моего отца, и бедняга вскоре оказался на волосок от банкрутства, что, впрочем, было ему не в новинку.
Матушка была женщина хозяйственная, отнюдь не мотовка. В приданое она принесла все, что накопила в девичестве и при жизни кабальеро, как и то, что припрятала после его смерти, – всего тысяч десять дукатов. Деньги эти послужили отцу подспорьем; дела его поправились. Как фитиль в светильнике вспыхивает ярче, стоит подлить туда масла, так и отец снова заблистал: принялся сорить деньгами, завел карету и богатые носилки, и не потому, что моей матери уж очень этого хотелось, а чтобы пустить пыль в глаза и скрыть свою несостоятельность. Он изворачивался, как мог, но доходы не покрывали расходов. Один с сошкой, семеро с ложкой, а есть-то каждый день надо, дороговизна что ни год растет, дела идут из рук вон плохо. Случается, и праведно нажитое теряешь, а уж неправедная денежка и сама пропадает, и душу губит. Грех эти деньги принес, грех и унес, проку нам от них было немного, а тут еще отца болезнь подкосила и в пять дней свела в могилу.
Я тогда был несмышленышем, хотя пошел мне уже тринадцатый год; потеряв отца, я не больно кручинился. Нужда одолевала нас, но в доме оставались еще кое-какие драгоценности; мы их продавали, да тем и жили со дня на день. У разорившихся богачей обычно сохраняются некоторые безделушки, и эти обломки прежней роскоши порою ценней, чем весь капитал бедняка, – по ним, как по римским руинам, можно судить о былом величии.
Матушка моя, лишившись доброго и преданного супруга, сильно горевала. Осталась она одна-одинешенька, без достатка, а возраст уже не позволял ей пустить в ход свои прелести и вернуть себе прежнюю славу. Ее красота еще не вполне увяла, и все же годы прошли не бесследно. Некогда ее милости добивались толпы воздыхателей, и ей было обидно, что все это миновало и ни один стоящий мужчина, от которого можно поживиться, на нее уже не смотрит, – иного она сама бы не приняла, да и я бы не позволил.
Даже тут мне не повезло! Красота матушки исчезла и перестала приносить доход как раз тогда, когда я более всего в этом нуждался. Исчезла – это я, пожалуй, неверно сказал. Матушка еще была хороша собой: в тот день, когда она надела вдовий чепец, ей, думаю, было лишь чуть побольше сорока. Видел я потом перезрелых дев постарше ее и к тому же не таких привлекательных, которые корчили из себя девочек, уверяя, будто только вчера еще в куклы играли. Но матушка, хоть и не была старухой, ни за что не продешевила бы и скорее умерла бы с голоду, нежели спустилась хоть на ступеньку ниже или нанесла малейший урон своей чести.
Итак, я остался без обоих отцов, и, что всего хуже, нам приходилось блюсти честь дома, в котором уже не было человека, способного ее поддержать. По отцовской линии я мог бы поспорить в знатности с самим Сидом, ибо в моем свидетельстве о крещении значились весьма громкие имена. По материнской линии тоже числилась куча всяческих предков. Как я потом узнал, там было больше привоев, нежели в толедских садах. Скажу открыто, что моя матушка следовала по стопам своей родительницы, у нее брала образчик для своих узоров, в ее делах находила пример для доблестных деяний. Во всем подражая родительнице, матушка, однако, не сумела так удачно родить: для бабушки дочка стала утешением, а я для матери – наказанием господним.
Если матушка сумела опутать двух мужчин, то бабка проделала то же с двумя дюжинами. Они у ней, точно цыплята, ели из одной миски, спали в одном гнезде, друг друга не клевали, так что клобучки надевать им не приходилось. Когда родилась дочь, бабка впутала в это дело множество знатных господ, клялась и божилась каждому, что это его ребенок. Малютка походила на всех – глаза у нее были одного отца, рот и прочие черты – другого, телосложение – третьего; даже родинки подделывала хитрая мамаша, а одного простака убедила, что дочурка плюется точь-в-точь как он. В этом бабка была мастерица, и в присутствии одного из отцов она называла дочку по его фамилии, а если приходило сразу несколько, то просто по имени. Окрестили же мою матушку Марселой, и, понятно, к этому имени прибавлялось звонкое «донья»; ведь дама без «доньи» все равно что дом без крыши, мельница без жернова и тело без тени. О фамилиях нечего и говорить; уж поверьте, что бабка позаботилась снабдить свою дочь самыми громкими, приписав к ее родне столько знатных семейств, что любой герольд запутался бы; перечислять все эти фамилии – что поминальник читать. Более всего бабушка благоволила к Гусманам;[50]50
Гусманы – один из древнейших родов в Испании. Выражение «быть из рода Гусманов» равноценно – «быть самого знатного происхождения».
[Закрыть] однажды она по секрету сообщила моей матери следующее: повинуясь голосу совести и не желая обременять душу тайной, она должна признаться, что по неким косвенным приметам считает ее дочерью одного кабальеро, близкого родича герцогов Медина Сидония[51]51
Медина Сидония – знатный род в провинции Кадис.
[Закрыть].
Бабка была женщина мудрая и жила припеваючи до самой своей смерти. Дивиться тут нечему: могильный мрак поглотил ее, когда для моей матери уже забрезжила заря, так что дочка была ее опорой. Первый же грех с богачом-перуанцем[52]52
…с богачом-перуанцем… – «Перуанцами» называли в Испании той эпохи людей, которые вернулись из Нового Света с большим богатством.
[Закрыть], у которого денег куры не клевали, принес им больше четырех тысяч дукатов. Чести свей бабушка не пятнала, долг блюла свято, никому себя в обиду не давала и даже дьяволу дани не платила. Кабы и нам так повезло, мы бы не тужили; всего лучше было матушке родить мне сестру, чтобы та стала ей опорой, посохом в старости, маяком в бедствиях, надежной гаванью для нас, потерпевших крушение. О, тогда бы мы натянули фортуне предлинный нос!
Ведь Севилья – самое удобное место для купли-продажи: здесь всякий товар находит покупателя, на все есть любители. Этот город – родина всесветная, открытый заповедник, запутанный клубок, широкое поле, надежный маяк, малое подобие вселенной, родная мать сиротам, прибежище грешников, здесь во всем есть нужда и никто не нуждается; если же товар не продашь в Севилье, вези его в Мадрид – море, куда впадают все реки и где всему найдется место. Я бы сумел ловчить не хуже других. Достались бы и на мою долю пенсии, синекуры, комиссионные и прочие почтенные доходы – с таким кладом в семье все дороги были бы мне открыты. Уж по крайности ели бы мы и пили не хуже самого короля. Если у тебя есть такой ходкий товар, как смазливая сестренка, всегда найдешь охотника купить ее и под такой залог получишь все, что душе угодно.
Но мне, как вы уже слышали, не повезло: остался я один как перст, не было у меня тенистого дерева, чтобы укрыться от зноя, нужда-горе одолевали меня, дошла честь, что нечего есть, сил было мало, забот много, а делать я ничего не умел. Посудите, прав ли был я, подросток, – в ту пору у меня уже ломался голос, – если при таком благородном происхождении рассчитывал на что-то лучшее.
Чтобы выбраться из нужды, я надумал попытать свои силы, покинув матушку и родной край. Так я и сделал, а чтобы никто меня не узнал, отказался от фамилии отца и назвал себя по матери – Гусманом, прибавив к сему Альфараче – название места, откуда был родом. Так отправился я повидать мир и начал скитаться по белу свету, препоручив себя богу и добрым людям, которым в ту пору еще доверял.
ГЛАВА IIIо том, как Гусман ушел из дому в пятницу вечером и что случилось с ним в харчевне
Мальчик я был изнеженный и балованный, потому что рос в Севилье без отцовского присмотра, при матери-вдове, о чем ты, читатель, уже знаешь. Дома меня пичкали ветчинкой, сдобными булочками, сбитыми сливками и вареньем из розовых лепестков на меду; лелеяли и холили пуще какого-нибудь купеческого сынка из Толедо. Нелегко было мне покидать родительский дом, друзей и близких, да и любовь к родным местам томила сердце. Но ничего не поделаешь, надо было уходить. Придавало мне духу желание повидать свет и добраться до Италии, где я надеялся познакомиться с почтенной моей родней.
Из дому я вышел поздно вечером и, как теперь мне ясно, в недобрый час, Надежда сулила мне золотые горы, а я потерял и то, что имел. Со мной получилось то же, что с собакой, погнавшейся за тенью от куска мяса, Едва я переступил порог, как невольно из моих глаз хлынули потоки слез, обильных, как воды Нила, и заструились по лицу и одежде. Из-за слез и наступивших сумерек я ничего не видел вокруг – ни неба над головой, ни земли под ногами. Дойдя до больницы святого Лазаря[53]53
Больница святого Лазаря для прокаженных была основана Альфонсо X Мудрым (1252—1284).
[Закрыть], расположенной невдалеке от города, я уселся на ступенях у входа в сей святой приют.
Здесь я снова принялся думать и размышлять о своей жизни. Мне захотелось вернуться, ибо вышел я из дому, почти ничем не запасшись – ни умом, ни деньгами – для столь долгого пути, да и для короткого не был снаряжен. В довершение беды – а беда никогда не приходит одна, за ней другие тянутся целыми гроздьями, словно вишни, – дело было в пятницу, и уже порядком стемнело, а я ушел, не поужинав и даже не пообедав. Будь это в скоромный день – еще с полбеды. Выйдя из города, я бы нашел, – нюхом нашел, даже если бы от рождения был слепым, – какую-нибудь харчевню и купил бы там себе лепешку, чтоб заморить червячка и осушить свои слезы.
Тут-то я понял, насколько ценнее становится для нас то, что мы утратили, и сколь велика разница между сытостью и голодом. За едой забываешь обо всех горестях, а вот когда нечем утолить голод, ничто тебе не мило, все не по нутру, нет тебе ни радости, ни веселья; недаром голодные люди ссорятся безо всякой причины, никто вроде не виноват, а все друг друга винят, сочиняют прожекты и воздушные замки или ударяются в политиканство и философию.
Голод меня мучил, а поужинать было негде, разве что напиться холодной воды из ручейка, протекавшего поблизости. Что тут делать, куда податься? То, что прежде придавало духу, теперь повергало в уныние. Колеблясь между страхом и надеждой, я видел впереди разверстую бездну, а позади – волчью стаю. Чтобы избавиться от сомнений, решил я препоручить себя воле божьей и, войдя в храм, сотворил краткую и, может быть, не очень усердную молитву, – долго там оставаться мне не разрешили: наступило время запирать храм. Мрак покрыл землю и мои надежды, но не закрылся источник моих слез. В слезах я и заснул, прикорнув на скамье перед порталом храма.
Спал я крепко, сам не пойму отчего, – может, оттого, что грусть и печаль нагоняют сон, как заметил один горец[54]54
…как заметил один горец… – то есть уроженец северо-запада Испании (в частности, Сантандера и его окрестностей).
[Закрыть], который вместе с родными и друзьями шел хоронить жену босой, в вывернутом наизнанку кафтане – таков их обычай. В тамошних краях дома стоят разбросанно, некоторые расположены очень далеко от церкви, и наш горец, проходя мимо кабачка, где торговали белым вином, решил промочить горло. Сделав вид, будто задерживается совсем по другой нужде, он сказал остальным: «Идите, идите, сеньоры, не ждите меня, несите бедняжку, я мигом догоню…» Он зашел в кабачок, глотнул вина, раз, другой, третий, захмелел и уснул. Когда люди уже возвращались с похорон, кто-то увидел, что вдовец лежит на полу, и окликнул его. Проснувшись, тот сказал: «Вот так оказия, сеньоры мои! Уж вы простите меня – с горя страсть как хочется выпить и поспать».
Так и со мной случилось; открыл глаза я уже в субботу утром, часа через два после восхода солнца. И то вряд ли бы я проснулся, кабы не звон бубнов и танцы женщин, которые пришли праздновать свадьбу и разбудили меня своей музыкой и пением. Голодный, заспанный, хоть было уже не рано, я вскочил, не понимая, где я, – мне казалось, что я все еще вижу сон. Но сообразив, что это явь, сказал себе: «Жребий брошен! Помоги мне, господи!» – и решительно двинулся в путь, сам не зная, куда иду, да и не заботясь об этом.
Выбрал я дорогу, какая показалась мне красивей, и зашагал наугад. Как вспомню теперь об этом, мне приходят на ум рассказы о дурно управляемых семьях и государствах, в которых голова у ног ума просит. Там, где нет разума и понятия, бросают золото в огонь наудачу, а затем поклоняются золотому тельцу[55]55
…поклоняются золотому тельцу. – Согласно библейскому рассказу, в то время как Моисей пребывал на горе Синай, получая от бога скрижали с заповедями, евреи, не надеясь на его возвращение, потребовали от его брата Аарона сотворить им бога, «который бы шел перед народом». Аарон предложил всем принести золотые украшения, и из них был отлит золотой телец, которому евреи принесли жертвы. Спустившись с Синая, Моисей уничтожил тельца (Исход, гл. 32).
[Закрыть]. Ноги вели меня, я же следовал за ними, будь что будет, куда дорога выведет.
Припоминается мне тут некий самозваный лекарь из Ла-Манчи. Он никогда ничему не учился и был совсем неграмотный. В сумке у него лежали отдельно рецепты на сладкие микстуры и на слабительные. Посещая больного, он с важным видом засовывал руку в одно из отделений сумки, вытаскивал первый попавшийся рецепт и давал больному, приговаривая про себя: «Пошли тебе боже, что гоже!» При кровопусканиях он не старался правильно выбрать вену и выпустить нужное количество крови, полагая, что чуть больше, чуть меньше – невелика разница. Так он и орудовал вслепую.
В то время я тоже мог бы сказать: «Пошли мне боже, что гоже!» Ведь я не знал, по какой дорожке иду и куда она меня приведет. Всемогущий господь по своей воле и для ему одному ведомых целей ниспосылает нам горести, кои могут составить высшее для нас благо, если мы пожелаем понять его урок. Посему должны мы благодарить бога за все испытания, ибо они суть знамение, что всевышний о нас не забывает. Что ж до меня, то начало пути было и началом моих горестей, которые и дальше преследовали меня неотступно, не давая передышки, и, где бы я ни был, всюду осаждали меня. Но это были не те горести, которые ниспосылает господь, а те, которые я сам на себя навлекал.
Между первыми и вторыми есть различие, ибо от горестей, посланных богом, он сам же избавляет нас, и их можно сравнить с россыпями чистейшего золота или с драгоценностями, скрытыми под тонким слоем земли: стоит лишь копнуть, и сразу их найдешь. Но горести, кои постигают человека за его пороки и жажду наслаждений, это золоченые пилюли, обманывающие глаз своим блеском: на вид они вкусны, а отведав их, мы подрываем и губим здоровье. Это зеленые луга, где кишат ядовитые змеи, это драгоценные с виду камни, под коими таятся полчища скорпионов, это смерть, вечная под лживым обликом краткой жизни.
В тот день, пройдя всего две лиги, я от непривычки путешествовать пешком так устал, что мне казалось, будто я уже достиг страны антиподов[56]56
…достиг страны антиподов… – Представление об антиподах («противоногих»), обитателях противоположного пункта земли, восходит к учениям стоиков. В средние века это представление отвергалось как противоречащее Библии. Но после первых кругосветных плаваний оно возродилось в Европе.
[Закрыть] и, подобно славному Колумбу, открыл Новый Свет. Весь в поту и пыли я кое-как доплелся до харчевни, не чуя под собой ног, а главное – голодный, точно волк, у которого пасть полна зубов, а желудок пуст. Было уже около полудня, Я спросил поесть, и мне ответили, что ничего нет, кроме яиц. Будь это яйца как яйца, еще куда ни шло, но в них, то ли от сильной жары, то ли оттого, что наседку давно утащила лиса, завелись цыплята, и мошенница-хозяйка, чтобы не потерпеть убытку, перемешивала их со свежими. Мне же она дала одних тухлых яиц – да вознаградит ее так же господь за доброе дело! Верно, увидав перед собой круглолицего, желторотого, доверчивого мальчишку, она решила, что для такого молокососа все сойдет.
Хозяйка спросила меня:
– Откуда ты, сынок?
Я ответил, что из Севильи. Тогда она подошла ближе и, потрепав меня по щеке, сказала:
– И куда же ты, глупенький, идешь?
О боже всесильный, каким зловонным дыханием меня обдало! Мне почудилось, что на меня находит, как зараза, сама старость со всеми старческими недугами. Все мои внутренности перевернулись, и будь в желудке хоть немного пищи, меня бы тут же стошнило.
Я сказал хозяйке, что направляюсь в Мадрид, и попросил накормить. Она усадила меня на колченогую скамеечку, расстелила на табурете черную, как сажа, тряпицу, поставила соль в глиняном черепке вместо солонки, кувшин с водой и положила полковриги хлеба, еще более черного, чем салфетка под ним. Затем подала на тарелке яичный омлет, который я скорее назвал бы яичным пластырем.
Яйца, хлеб, кувшин, вода, солонка, соль, салфетка и сама хозяйка – все было как на подбор. Но я тогда мало что смыслил, а тут еще в желудке ветер свистит, кишка кишке кукиш кажет. Как свинья набрасывается на желуди, я глотал все подряд, хоть и слышал, что у меня под зубами трещат нежные косточки злополучных цыплят и словно щекочут мне десны. Правду сказать, я впервые пробовал такое, и на вкус эти яйца сильно отличались от тех, которые я едал дома у матери. Но от голода и усталости я не стал задумываться над этим, решив, что в разных местностях и яйца должны различаться по вкусу. Так что даже эта еда показалась мне счастьем.
Голодный не разбирается в подливах, так же как нуждающийся – в средствах. Еды было немного, проглотил я ее быстро и жадно. С хлебом, правда, чуть замешкался. Был он прескверный, и приходилось есть не спеша, с расстановкой, чтобы куски спускались в желудок по порядку, друг за дружкой. Начал я с корки и кончил мякишем, который смахивал на замазку, но, как ни был он плох, я подобрал все крошки, ни одной не оставил мышам, словно ел сладкий пирог. Так лакомки, усевшись вокруг вазы с фруктами, сперва съедают самые спелые, затем принимаются за зеленые, и вскоре от фруктов следа не остается. Вот и я, как говорится, «умял» полковриги; но для моей ненасытной утробы не хватило бы и целого трехфунтового хлеба.
Год тогда выдался засушливый, неурожайный[57]57
Год тогда выдался засушливый, неурожайный… – Голод в Севилье в 1557 г., по-видимому, личное воспоминание автора.
[Закрыть], а в Севилье приходилось особенно туго: здесь и в хорошие годы перебиваются кое-как, а в голодные – уж и говорить нечего. Углубляться в эту материю и объяснять, отчего да почему, мне негоже. Севилья – мой родной город, так лучше промолчу: повсюду творится то же самое, всему найдется пример и в других краях. Везде люди покупают чины лишь для своей выгоды, явной или тайной, и не для того тратят тысячи дукатов, чтобы облегчить участь бедняков. Напротив, прежде чем Христа ради подать полкуарто[58]58
Полкуарто. – Куарто («четвертак») – медная монета, составлявшая 1/4 медного реала.
[Закрыть], десять раз перевернут монету на ладони.
Таков был один рехидор[59]59
Рехидор – член городской управы («аюнтамьенто»).
[Закрыть], которому старик горожанин, знавший, что тот злоупотребляет своим положением, сказал: «Что же это вы, сеньор? Ведь, вступая в должность, вы присягали защищать бедняков, не забывать про голь городскую». Рехидор ответил: «Да разве я не выполняю свою присягу? Каждую субботу не забываю сходить на городскую бойню за положенной долей голья[60]60
…за положенной долей голья… – Баранья требуха и другие отходы распределялись на городской бойне бесплатно по субботам, причем в первую очередь получали свою долю представители власти.
[Закрыть]; ведь я заплатил за нее свои кровные». А разумел он баранье голье.
Так уж заведено повсюду на белом свете. Кто у власти, делит пирог меж собой – нынче мне, завтра тебе, дай мне купить, дам тебе продать; это они налагают запреты на продажу провизии; они и цены назначают, словно это их товар, и продают его, за сколько им вздумается, ибо все, что продается и покупается, принадлежит им.
Я сам знавал другого рехидора, из одного большого города Андалусии и Гранады[61]61
…из одного большого города Андалусии и Гранады… – Андалусия – южная область Испании, куда в числе восьми провинций входит Гранада.
[Закрыть], который держал много скота. Когда наступили холода, молоко стало плохо расходиться, – зимой обычно все расхватывают горячие пончики. Смекнув, что великий пост принесет ему большие и невозместимые убытки, рехидор заявил в городской управе, будто продавцы пончиков, мориски, грабят государство. Он представил подробный расчет, во что обходятся пончики торговцам – вышло чуть больше шести мараведи, – и добился, чтобы цену назначили в восемь мараведи, то есть разрешили самую ничтожную прибыль. Все мориски отказались выпекать пончики, ибо терпели на них убытки, а рехидор между тем сбывал свои запасы масла, сливок, свежего сыра и прочей молочной снеди, пока не пришло время выгонять скот на летние пастбища. Наступила пора сыроварения, и тут рехидор поднял цену на пончики до двенадцати мараведи, прежней их цены, да было уже лето, а летом горячих пончиков никто не покупает. Хитрец-рехидор сам рассказывал потом об этой проделке и учил других, как надо жить.










