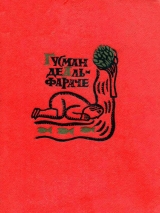
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Проехав в виду лагеря и оставив его далеко позади, они направились в Лоху[95]95
Лоха – город в провинции Гранада.
[Закрыть] по тропам и проходам, как вдруг, уже близ города, жестокая судьба столкнула их с капитаном отряда, который ловил солдат, сбежавших из армии и покинувших свои посты. Заметив путников, капитан велел их задержать. Мавр притворился, будто у него есть пропуск, и стал искать у себя на груди, в карманах и других местах, но ничего не нашел. Тогда капитан, которому показалось странным, что они едут не по дороге, заподозрил обман и приказал их схватить и вернуть в лагерь.
Нисколько не смутившись, Осмин смело заговорил с капитаном. Он воспользовался именем того кабальеро, в чьем доме находилась Дараха, и, назвавшись его сыном доном Родриго де Падилья, сказал, что направлялся с письмом своего отца касательно Дарахи к королевской чете, но в пути занемог и теперь возвращается в Севилью. Он также заявил, будто потерял пропуск и что оба они заплутались и свернули на эту тропу в поисках дороги.
Все было напрасно; капитан настаивал, чтобы путники ехали с ним в лагерь, а те никак не соглашались. Поехали бы они своим путем или вернулись, капитан с того не получил бы ни гроша, а хотел он, разумеется, одного – чтобы такой кабальеро, каким Осмин представился, умаслил его несколькими дублонами:[96]96
Дублон – испанская золотая монета, имевшая различную ценность, чеканилась в два и в четыре эскудо.
[Закрыть] ведь никакая подпись генерала не имеет той силы, что королевская печать, особливо же выгравированная на благородном металле. Подобные начальники – гроза лишь для какого-нибудь оборванца или дезертира: тут они и власть показывают, и приказы ревностно исполняют; но не таковы они для тех, от кого ждут прибыли, а ее-то им и надобно.
Догадавшись об истинной причине столь сурового обращения, Осмин принялся увещевать капитана: «Не думайте, сеньор, что я почел бы за труд воротиться назад хоть десять раз и побоялся бы снова пуститься в путь, но я, как сами видите, слаб здоровьем; лишь сия крайность понуждает меня умолять вас не чинить мне притеснений, угрожающих моей жизни». И сняв с пальца ценный перстень, юноша вложил его капитану в руку, что подействовало так, словно огонь полили уксусом. «Езжайте, ваша милость, в добрый час, – поспешно проговорил капитан. – Всякому понятно, что такой знатный кабальеро, как вы, не сбежит из армии, прихватив жалованье, и не покинет лагеря, не имея на то столь важной причины, какая, видимо, есть у вас. Я поеду с вами до самой Лохи, где снабжу вас охранной грамотой, дабы вы могли безопасно продолжать путь». Так он и сделал; прибыв в Лоху, они отдохнули и расстались добрыми друзьями, после чего каждый отправился своей дорогой.
С такими злоключениями наши путники добрались до Севильи; там Осмин, по известным ему приметам, разыскал улицу и дом, где проживала Дараха. Несколько дней подряд прохаживался он у этого дома в разные часы дня, но нареченную свою ему так и не удалось увидеть: она никуда не выходила, не посещала церковь и все время либо занималась рукодельем, либо развлекалась со своей подругой, доньей Эльвирой.
Осмину стало ясно, как трудно ему будет осуществить свое предприятие, тем паче что на него уже стали обращать внимание, как это обычно бывает с чужеземцами в любом краю: у всех они на примете, всем любопытно узнать, кто они и откуда, зачем приехали, на какие средства живут, а особливо велико любопытство, ежели чужеземец часто прогуливается по одной и той же улице, с озабоченным видом всматриваясь в окна и двери. Тут недолго и зависти разгореться, за ней пойдут сплетни, а там прорвется наружу и ненависть, хотя никому как будто до этого чужеземца нет дела.
Нечто подобное стал уже испытывать и Осмин, отчего пришлось ему во избежание толков на несколько дней прекратить свои прогулки. Вместо юноши эту обязанность взялся выполнять его слуга, как человек незаметный. Однако все пути к Дарахе были закрыты, и Осмину оставалось лишь одно утешение – глубокой ночью он приходил на пустынную улицу и с нежностью касался стен, целовал двери и пороги заветного дома.
Так в глубоком унынии прожил он некоторое время, пока наконец судьба не сжалилась над ним. Слуга юноши не забывал по нескольку раз в день пройтись перед домом Дарахи и однажды увидел, что по приказу дона Луиса начали перекладывать одну из стен, разбирая ее до основания. Мавр сразу ухватил фортуну за подол и посоветовал хозяину обзавестись платьем бедняка, дабы проникнуть в дом под видом рабочего-каменщика. Осмину этот замысел пришелся по душе; немедля осуществив его, юноша поручил слуге присматривать за конем и оставленным в гостинице имуществом, чтобы при надобности можно было им воспользоваться, а сам отправился на постройку и спросил, не найдется ли там работы для чужестранца; ему ответили, что найдется. Излишне говорить, что об условиях юноша думал меньше всего.
Начал он работать каменщиком, всячески стараясь отличиться, и хоть из-за пережитых страданий силы его не вполне еще восстановились, он, как говорится, черпал силы в самой немощи, ибо дух повелевает плотью. Осмин первым являлся на постройку и последним уходил домой. Когда все отдыхали, он искал, чем бы еще заняться. Дошло до того, что товарищи стали его попрекать, – ведь зависть преследует даже несчастных; Осмин отвечал им, что не умеет пребывать в праздности. Заметив усердие юноши, дон Луис порешил взять его в дом и поручить уход за садом. На вопрос, знаком ли он с этим делом, Осмин отвечал, что немного знаком и надеется, что желание угодить хозяину поможет ему вскоре изучить это ремесло досконально. Дону Луису полюбились и речи юноши, и его приятная наружность, ибо Осмин, за что ни брался, во всем выказывал способности и старание.
Работа каменщиков пришла к концу, и Осмин остался в доме на должности садовника. До сего времени ему еще ни разу не удалось увидеть Дараху. Ныне судьба смилостивилась, взошло и для него ясное солнышко, очистились, посветлели небеса, рассеялись мрачные тучи горестей и блеснул луч надежды, представивший его взору радостную гавань, освобождение от всех бедствий. В первый же вечер, когда Осмин принялся за новую свою службу, он увидел нареченную; она прогуливалась одна по широкой аллее, густо обсаженной миртом, розами, жасмином и другими цветами, которые девица срывала, украшая ими волосы.
Нелегко было Осмину признать Дараху в непривычном наряде, но живой оригинал в точности соответствовал копии, запечатленной в сердце юноши. К тому же он не сомневался, что такой красавицей может быть лишь одна Дараха. При виде любимой Осмин так взволновался, что не мог слова вымолвить, и, когда она проходила мимо, опустил голову, словно от стыда или смущения, и принялся рыхлить землю мотыгой. Желая разглядеть нового садовника, Дараха обернулась; что-то в его лице, хоть оно не видно было ей полностью, напомнило ее воображению нежно любимого жениха. От внезапно нахлынувшей скорби у Дарахи подкосились ноги, она присела на землю и, прислонившись к садовой решетке, горестно вздохнула, а из глаз ее ручьем хлынули слезы. Подперев рукой румяную щечку, она предалась воспоминаниям, и каждое из них, завладей оно всецело ее мыслями, способно было лишить ее жизни.
С трудом отогнав горькие думы, Дараха почувствовала желание вновь усладить душу лицезрением милых черт, которые чудились ей в Осминовом лице. Она поднялась на ноги и, дрожа всем телом, полная душевного смятения, снова принялась созерцать образ, который боготворила; и чем пристальней глядела она на садовника, тем живей проступали в его лице черты ее милого. Девице казалось, что это сон, но нет, она, несомненно, бодрствовала и потому сперва даже испугалась, полагая, что видит призрак. Убедившись же, что это живой человек, Дараха готова была все отдать, лишь бы он оказался ее возлюбленным. Так пребывала она в тревоге и сомнении, не решаясь поверить, что перед ней стоит ее любимый, ибо из-за недуга Осмин исхудал и лицо его утратило обычные свои краски. Однако весь облик, юноши, изящество его движений и само потрясение, испытанное Дарахой, убеждали ее, что это Осмин, меж тем как занятие юноши, его одежда и место, где они встретились, опровергали и разрушали ее предположение. Тяжко было Дарахе отказаться от своей мечты, странная сила невольно влекла ее к незнакомцу, столь схожему с Осмином. Терзаясь сомнениями и желанием узнать, кто он, девица спросила: «Откуда ты, братец?»
Подняв голову, Осмин увидел свою ненаглядную, нежную подругу; тут язык словно прилип у него к гортани, юноша стоял не в силах слова молвить, но ответили его глаза, оросив землю бурным потоком слез, словно в двух плотинах открыли створы; пылкие влюбленные узнали друг друга.
Дараха ответила юноше на том же наречии: слезы, точно нити скатного жемчуга, заструились по ее ланитам. Влюбленные хотели было обняться или по крайности обменяться несколькими нежными словами и любовными признаниями, как вдруг в сад вошел дон Родриго, старший сын дона Луиса; он был влюблен в Дараху и повсюду следовал за ней, ловя всякий удобный случай полюбоваться ею. Опасаясь, как бы он чего-нибудь не заподозрил, Осмин снова принялся за работу, а Дараха прошла вперед.
Но по грустному лицу и горящим глазам девицы дон Родриго понял, что тут что-то произошло. Предположив, что садовник чем-то огорчил Дараху, он спросил об этом Осмина, который, еще не вполне оправившись от недавнего волнения, постарался овладеть собой, понуждаемый к тому необходимостью, и ответил: «Сеньор мой, какой увидели ее вы, такой видел ее и я, когда она сюда пришла; со мной она и слова не проронила, а потому не могла поведать мне свою печаль; откуда же мне знать? Кроме того, я здесь первый день, и не пристало мне расспрашивать ее, а ей – поверять мне свои горести».
Дон Родриго отошел ни с чем, намереваясь узнать обо всем от самой Дарахи, но едва он завел об этом речь, как девица ускорила шаги, взбежала по винтовой лестнице в свои покои и захлопнула за собой дверь.
Не один вечер, не одно утро провели влюбленные вместе, срывая украдкой с древа любви невинный цветочек или плод, чем унимали тоску, питая целомудренную свою, любовь и мечтая о той счастливой поре, когда смогут наслаждаться друг другом без помех и тревог. Однако и эта радость оказалась недолгой и непрочной; странная их привязанность и частые встречи, во время которых они беседовали по-арабски, были замечены, а также и то, что Дараха начала избегать общества своей подруги, доньи Эльвиры. Все в доме были этим огорчены, а дон Родриго, пылая ревностью, прямо бесился от досады. Не то чтобы он думал, будто садовник ведет с Дарахой непристойные или любовные речи; его возмущало, что с этим счастливчиком она беседует столь доверительно и непринужденно, как ни с кем другим.
У клеветы, родной дочери злопыхательства и зависти, одна забота – как бы очернить и опорочить поступки и добродетели ближнего. А посему охотнее всего вершит она свой суд среди людей низкого и подлого звания; для них клевета – лучшая приправа, без коей любое кушанье кажется им безвкусным и пресным. Она быстролетней хищной птицы, стремительней в нападении и вредоносней. Нашлись и на сей раз охотники позлословить о непонятной дружбе Дарахи с садовником, и пошла молва из уст в уста, обрастая домыслами и вымыслами, пока шар не докатился до поля, а сплетня до ушей дона Луиса, ибо слуги надеялись доносами войти к нему в милость и доверие. В мире так уж повелось и установилось: всякому лестно угодить господам за чужой счет, пуская в ход выдумки и враки, коль из правды ничего не удается для себя выкроить. Достойное занятие для тех, кто лишен добродетелей и чьи дела и личность ничего не стоят.
Дон Луис со вниманием выслушал искусно состряпанные и приправленные наветы. Был он человек осторожный и благоразумный, а посему не допустил, чтобы слова эти остались там, куда их закинули, как шар; перебросив этот шар в область воображения, он оставил там место и для защитных слов обвиняемого. Уши его были открыты для возможных оправданий, хотя он был немного рассержен. Разные догадки приходили ему на ум, по все были далеки от истины; более же всего тревожило его подозрение, что новый садовник – это мавр, хитростью проникший в его дом, дабы похитить Дараху. Лишь только дон Луис допустил такую мысль, как гнев ослепил его; опрометчивые решения весьма часто приводят к неудачным действиям – не успеешь выйти в дверь, а уж раскаяние лезет в окно. Поддавшись этому подозрению, дон Луис велел схватить садовника.
Осмин не сопротивлялся, не выказал ни испуга, ни огорчения и покорно дал запереть себя в одной из комнат. Оставив пленника под замком, дон Луис направился в покои Дарахи, которая уже обо всем догадалась по переполоху среди домочадцев и слуг, тем паче что еще за несколько дней до этого прослышала о намерении дона Луиса.
Она встретила своего господина с весьма оскорбленным видом, жалуясь на то, что могли усомниться в ее скромности и чистоте помыслов и запятнать ее честь подобными сплетнями, после чего всякий волен думать о ней все, что ему в голову взбредет, раз проложена дорога для любых предположений.
Эти и другие доводы, изложенные умно и высказанные со страстным убеждением, быстро вынудили дона Луиса раскаяться в своем поступке. Выслушав Дараху, он от души пожалел о содеянном и вознегодовал на самого себя и на тех, кто подстрекал его. Однако, не желая прослыть человеком легкомысленным, поступающим сгоряча в столь важном деле, он постарался скрыть раскаяние и сказал так: «Верю тебе, дочь моя, признаю твою правоту и ущерб, нанесенный тебе подобным обращением, когда не удосужились сперва заглянуть в душу тех, кто доносами своими чернит тебя. Признаю и твою добродетель, унаследованную от родителей и предков. Признаю также, что лишь своими достоинствами ты снискала такую любовь государя и государыни, какой не всегда удостаивается родное, единственное дитя у заботливых и нежных родителей, чему подтверждением служат неисчислимые милости и щедроты. Но и ты должна признать, что поселили тебя в моем доме, дабы мы тебе служили, заботливо и предупредительно исполняя все твои желания, и что на меня возложена обязанность опекать тебя и оправдать оказанное мне доверие. По сей причине, а также и потому, что мое стремление угодить тебе заслуживает награды, ты, как девица благородная, должна отплатить мне чистосердечием, на каковое я вправе рассчитывать за свою преданность тебе и все прочее, о чем говорил.
Не могу и не хочу думать, что в тебе таятся чувства недостойные и неблагородные. Но все мы озабочены твоей чрезмерной близостью с Амбросио (этим именем назвался Осмин, нанимаясь на работу) и тем, что ты беседуешь с ним по-арабски, а потому желали бы услышать, что сие означает и как сия дружба возникла, если прежде ты с ним не встречалась и не была знакома. Удовлетвори же наше желание, избавь многих из нас от подозрений, а меня – от мучительной и неотвязной тревоги. Заклинаю жизнью твоей, рассей наши сомнения, и тогда, верь, я сделаю все, что в моих силах, дабы защитить тебя в любой беде».
Дараха выслушала речь дона Луиса с глубоким вниманием, чтобы получше ему ответить, хотя, обладая умом незаурядным, заранее вооружилась доводами в свое оправдание, на случай, если бы что-нибудь открылось. Но тут ей пришлось недолго думая отбросить все, что она приготовилась сказать, и найти другие резоны, более уместные после вопроса дона Луиса, да такие, чтобы он остался доволен и перестал ее подозревать, а она могла бы и впредь наслаждаться обществом своего нареченного.
«Господин мой и отец! – сказала Дараха. – Думаю, что вправе так тебя называть: ты господин мой, ибо я в твоей власти, и отец мой, судя по отеческим заботам обо мне. Чувствую, сколь многим я тебе обязана и как должна быть благодарна за непрестанные милости, кои получаю от наших государей из твоих рук умноженными благодаря твоему заступничеству. Я презрела бы свой долг, ежели бы отказалась доверить заветнейшие свои тайны сокровищнице твоего разума, не пожелав отдать их под твою защиту и взять себе в руководители твое благоразумие, а также ежели бы не ответила на твой вопрос чистейшей правдой. И пусть воспоминания, которые я ныне вынуждена воскресить, причиняют мне великую скорбь и горькие мучения, – я хочу ими с лихвой отплатить за твою любовь, дабы отныне ты стал моим должником, а также поручителем за мое послушание.
Разумеется, сеньор, ты знаешь, кто я, и тебе известно, как привел меня в твой дом злой или, напротив, счастливый жребий, – пока урожай не сложен в закрома, пока не ясен исход моих горестей, я не вправе ни сетовать на судьбу, ни благодарить ее. Но еще до этого меня помолвили с одним из знатнейших кабальеро в Гранаде, близким родственником и потомком гранадских королей. Мой супруг, если могу его так назвать, лет с шести-семи воспитывался вместе со своим сверстником, пленным христианином, которого купили ему родители для услужения и забавы. Они всегда были неразлучны – вместе играли, вместе ели и спали, даря один другому самую нежную любовь. Судите сами, насколько такое поведение свидетельствует о крепкой дружбе. Мои супруг любил товарища так, словно тот был ему равным и даже родным. Он смело мог доверить другу свою жизнь, ибо этот христианин отличался большой храбростью; то был его ближайший наперсник, товарищ его игр, поверенный тайн, словом, его второе «я». Оба они во всем походили друг на друга, и лишь вера у них была разная; но, будучи людьми рассудительными, они никогда не заводили о ней речи, дабы не нарушить своего побратимства.
Пленник, – вернее сказать, брат, как и должно его называть, – вполне заслужил эту любовь своей преданностью, скромностью и почти дворянской учтивостью. Если бы мы не знали, что родители его простые земледельцы, – а был он захвачен в плен с ними вместе на их бедном хуторе, – мы, конечно, подумали бы, что он благородного происхождения и даже из знатной семьи. Когда велись переговоры о моей свадьбе, этот христианин был у нас посыльным и, служа нам от всей души, лишь этим был занят. Он приносил мне письма и подарки и уносил ответные дары, подобающие в таких случаях. Когда же Баса была сдана, он, оказавшись в это время там, получил свободу, как и большинство находившихся в городе пленных. Не могу сказать, был ли он в такой же мере рад своему освобождению, как опечален разлукой с нами. Об этом ты без труда можешь узнать у него самого, ибо он и есть тот Амбросио, который живет у тебя в услужении. Богу угодно было привести его сюда, дабы облегчить мои страдания. Я потеряла его внезапно и обрела вновь случайно; с ним я повторяю курс науки моих горестей, в коих уже заслужила ученое звание; с ним делюсь я надеждами на перемену враждебной судьбы, поддерживая тем унылое свое существование и коротая медлительное время. Но если эта моя утеха чем-либо тебя оскорбляет, поступай как тебе угодно, твоя воля будет и моей, что бы ты ни повелел».
Дон Луис был поражен и растроган сей необычайной и жалостной повестью, тем более что Дараха, рассказывая ее, ни разу не запнулась, не смутилась и не покраснела, из чего можно было бы предположить, что повесть эта вымышлена. К тому же ее правдивость была подкреплена несколькими слезинками, блеснувшими в очах девушки, а сила этих слез была такова, что они смягчили бы твердый камень и отшлифовали крепкий алмаз.
После этого Амбросио освободили, ни о чем его не спрашивая, дабы не показалось, что Дараху подозревают в неискренности. Дон Луис обнял его и с радостным видом сказал: «Теперь, Амбросио, мне ясно, что в жилах твоих предков текла благородная кровь, а если это и не так, ты сам можешь положить начало новому дворянскому роду, ибо ты доблестен и благороден. Судя по тому, что мне говорили, я пред тобой в долгу и отныне буду обращаться с тобой так, как ты заслуживаешь».
«Твое намерение, сеньор, достойно такого человека, как ты, – ответил Осмин, – и я всегда буду гордиться милостями столь великодушного и знатного вельможи».
Осмину разрешили вернуться в сад и по-прежнему встречаться с Дарахой, словно они были близкими друзьями, и даже еще более свободно, чем раньше. Они могли беседовать, когда им вздумается, и теперь это уже никому не казалось непристойным.
Тем временем король и королева часто осведомлялись о здоровье Дарахи и о том, как ей живется в доме дона Луиса. И когда этот кабальеро подробно известил их о случившемся, они были весьма рады и в письмах своих наказывали ему и впредь заботиться о девице.
Дон Родриго и знатнейшие кабальеро этого города, видя, что Дараха в такой чести, и надеясь через нее заслужить благоволение королевской четы, задумали свататься к Дарахе и убедить ее принять крещение. По общему мнению, среди всех искателей ее руки больше других мог надеяться дон Родриго, ибо Дараха жила у него в доме. С виду все казалось яснее ясного и это предположение – самым вероятным; нрав, поведение и разум Дарахи были тому залогом, а подобные достоинства весьма ценятся, и кто сумел обнаружить перед людьми свою добродетель и благородство, заслуживает известности и почета. Но наши влюбленные уже давно обменялись сердцами, и ни один из них не был властен над собственным; поэтому они были столь же неколебимы в любви, сколь иные бывают в ненависти. Дараха вела себя так сдержанно и скромно, что никто из вздыхателей не имел повода отважиться на признание, хотя все ее боготворили. Каждый ухищрялся, как мог, расставляя сети, ища обходных путей к ее сердцу, но ни один не мог похвалиться успехом.
Когда дон Родриго убедился, что от всех его стараний мало проку, что усилия его напрасны и один он ничего не достигнет, ибо после многих дней, проведенных в беседах с Дарахой, он не продвинулся ни на шаг, ему пришло в голову прибегнуть к помощи Осмина в надежде, что тот своим посредничеством сумеет снискать ему благоволение мавританки. Решив, что сей путь самый верный, дон Родриго однажды утром пришел в сад и сказал Осмину:
«Тебе, Амбросио, конечно, ведомы обязанности, налагаемые на тебя твоей верой, королем, происхождением, а также благодарностью к моим родителям, чей хлеб ты ешь, ибо они желают тебе только добра. Уверен, что ты, будучи истинным христианином, – о чем говорят твои дела, – поступишь, как должно. Ныне я обращаюсь к тебе с просьбой помочь мне в деле, от коего зависит приумножение моей чести и счастье всей моей жизни. Тебе нетрудно, беседуя с Дарахой о всякой всячине, склонить ее к тому, чтобы она отвратила свой взор от ложного светоча и, обратившись к истинному, приняла христианство. Каковы будут последствия этого шага, ты сам понимаешь: ей он принесет спасение души, господу – верную рабу, королям нашим – радость, твоей родине – славу, а мне – избавление от мук. Ибо тогда я смогу просить ее руки, а если я женюсь на ней, твоя услуга принесет тебе немалую выгоду, доставив не только почет, но и все другие блага, какие пожелаешь. Бог вознаградит тебя за новообращенную душу, а я искренне отблагодарю за возвращенную мне жизнь и за приобретенное при твоем посредничестве расположение Дарахи. Не откажи мне в этой милости, она в твоей власти, и к ней тебя должны побуждать многие веские причины, а не только мои настояния». И когда дон Родриго закончил свою речь, Осмин ответил ему следующими словами:
«Те самые доводы, с помощью которых, сеньор дон Родриго, ты намеревался убедить меня, должны и тебя убедить в том, как искренне защищаю я перед Дарахой свою веру и как горячо говорил с ней об этом в многократных и долгих наших беседах. Я желаю того же, что и ты, поэтому я буду действовать так, как если бы защищал собственное дело. Но Дараха всем сердцем любит своего нареченного, а моего господина, и я знаю, что пытаться обратить ее в христианство означало бы лишь увеличить ее страдания: ведь в сердце Дарахи еще теплится надежда на то, что судьба может перемениться и даровать ей исполнение заветных желаний. Это я слышал от нее самой; она всегда мне это повторяет, и, насколько могу, судить, решение ее неколебимо. Но, чтобы исполнить твой приказ, хоть я и не жду никакого успеха, я снова заведу с ней об этом разговор, а потом сообщу тебе ее ответ».
Во всем, что говорил мавр, не было ни словечка неправды, но дон Родриго, у которого и в мыслях не было заподозрить что-либо, не постиг истинного смысла его слов и понял из них не то, что Осмин хотел сказать, а то, что хотелось слышать ему, дону Родриго. Так обманутый молодой кабальеро исполнился доверия к мавру, ибо кто искренне любит, сам себя обманывает даже там, где нет обмана.
Осмин так опечалился, услышав признание в замысле, грозившем ему бедой, что от ревности едва не лишился рассудка. С этого дня подозрения неотвязно терзали его, улыбка исчезла с его лица, и невозможное стало казаться ему возможным. Он спорил сам с собой, воображая, что новый соперник, человек влиятельный в краю своем и в семье, увлеченный страстью, прибегнет к козням и хитростям и помешает ему, Осмину, достигнуть своей цели. Он боялся, как бы Дараху не окрестили, ибо огонь мощных батарей пробивает брешь в крепчайших стенах, а при помощи тайных подкопов их взрывают и повергают в прах. Трепеща от страха, он рисовал себе самые мрачные картины и роковые последствия. Не то чтобы он в это верил, однако ж опасался, ибо был совершенным влюбленным. Дараха же, видя, что дорогой ее жених день ото дня все более печален, загорелась желанием выведать у него причину, но Осмин ничего ей не говорил и ни словом не обмолвился о беседе с доном Родриго. Она не знала, что и делать, как развеселить любимого, и однажды с улыбкой на лице и мужеством в сердце молвила ему, подкрепляя свои слова нежным взглядом и слезами, орошавшими ее ланиты:
«Владыка моей судьбы, мое божество, супруг мой и повелитель! Какая кручина терзает тебя столь сильно, что даже я не способна отогнать ее? А ведь я жива, я с тобой. Быть может, я могла бы ценой своей жизни возвратить тебе веселье? О, как охотно я отдам ее, дабы вместе с жизнью и душа моя вышла из ада твоей скорби, где ее терзают жестокие муки! Да рассеет ясное небо твоего лица мрак моего сердца! Если я для тебя что-нибудь значу, если любовь моя достойна награды, если страдания мои способны пробудить в тебе жалость, если не хочешь, чтобы я тайно лишила себя жизни, умоляю, открой мне, какая скорбь тебя гнетет».
Тут Дараха умолкла, ибо рыдания душили ее, отняв дар речи и у Осмина, который не мог ей ответить иначе как горячими и страстными слезами; каждый стремился осушить слезы другого, но, сливаясь в один ручей, они текли и текли, заменяя слова.
Стараясь подавить вздохи, рвавшиеся из его груди, Осмин не выдержал и упал в глубоком обмороке, будто мертвый. Испуганная Дараха не знала, что делать, как привести его в чувство и утешить, не понимая, чем вызвана эта перемена в ее друге, который всегда с нею был весел. Она отирала ему лицо и осушала слезы, смахивая их своими прелестными пальчиками, так как ее дорогой узорный платок, расшитый золотом и серебром, драгоценным бисером и жемчугом, был уже совсем мокрый. Так прониклась она скорбью своего возлюбленного, так поглощены были все ее чувства желанием помочь ему, что, не оглянись она вовремя, дон Родриго застал бы их в тесном объятии: голова Осмина покоилась на коленях Дарахи, и его рука все крепче обнимала ее стан по мере того, как сознание возвращалось к нему. А когда ему уже стало лучше и он собрался уйти, в саду показался дон Родриго.
Дараха в смятении поспешно отошла в сторону, забыв на земле роскошный свой платок, который Осмин мигом подобрал и спрятал. Видя, что дон Родриго приближается, девушка удалилась из сада, оставив юношей вдвоем. Испанец спросил, есть ли надежда на успех. Осмин отвечал то же, что и прежде: «Она так неизменно любит своего нареченного, что не только отказывается принять христианство, как ты желаешь, но даже, будь она христианкой, отреклась бы ради любимого от веры и перешла бы в мусульманство. Нет предела ее безумию, ее преданности вере своей и ее жениха. Когда я завел речь о твоем деле, ее охватила неудержимая ненависть к тебе за то, чего ты домогаешься, а за мое посредничество – и ко мне, и она сказала, что ежели услышит от меня еще хоть слово об этом, то откажется знаться со мной; от тебя же, сам видишь, она убежала при одном лишь твоем приближении. Итак, не утруждай себя понапрасну и не теряй времени – все это ни к чему».
Крепко огорчился дон Родриго такой решительной и резкой отповедью. Он заподозрил, что Осмин действовал не столько ему на пользу, сколько во вред, и подумал, что, если ответ Дарахи и был так суров, Осмин все же мог бы не повторять все в точности и как бы от своего имени. Любовь и рассудительность – вещи несовместные: чем сильнее человек любит, тем больше беспорядка в его мыслях. Дону Родриго вспомнилось все, что говорили о нерушимой преданности Осмина первому хозяину. Он решил, что эта дружба, наверно, еще жива и что такое пламя не могло угаснуть под пеплом времени. Эти мысли только разожгли его страсть, и он вознамерился прогнать садовника из дому, убедив отца в том, сколь опасно пребывание близ Дарахи такого человека, который, беседуя с ней о прежней любви, поддерживает это чувство; тем более что король и королева намерены обратить Дараху в христианство, а пока Амбросио живет у них в доме, добиться сего будет трудно.
«Сделаем опыт, сеньор, – сказал он отцу, – разлучим их на несколько дней и посмотрим, что из этого выйдет».
Совет сына понравился дону Луису, и он тотчас же, придравшись к садовнику за мнимые провинности, изгнал его из своего дома; чья власть, того и правда: любой капитан докажет своим солдатам, что в двух восьмерках пятнадцать очков[97]97
…пятнадцать очков. – «Пятнадцать» – старинная карточная игра типа современной игры в «двадцать одно».
[Закрыть]. Итак, Осмина нежданно-негаданно выставили за дверь, запретив показываться вблизи дома. Бедняга не успел даже проститься. Повинуясь хозяину, он постарался скрыть, как велико его горе, и ушел, вернее, ушло лишь его тело, единственное, что ему принадлежало, а душа осталась у своей владычицы.
При этом внезапном повороте судьбы Дараха решила, что скорбь Осмина была вызвана опасением угрожавшей ему немилости и что он заранее об этом знал. Одно горе соединилось с другим, одна печаль с другой печалью, одна мука с другой мукой, – как ни старалась несчастная затаить свою скорбь, невозможность видеть любимого была для нее сущей пыткой. В горе надобно вздыхать, стенать, плакать, говорить и кричать; хотя бремя скорби этим не сбросить, а все же оно станет легче и меньше будет угнетать. Девушка так грустила, так тосковала, что по ее лицу нетрудно было разгадать томившее ее чувство.
Влюбленный мавр не пожелал покинуть свое простое звание; он по-прежнему остался поденщиком и в одежде труженика шел трудной своей судьбе навстречу; в этом платье ему однажды уже повезло, и он надеялся, что будущее принесет ему еще более крупный выигрыш. Как простой поденщик, не гнушаясь никакой работой, он переходил с места на место в ожидании, что ему посчастливится услышать или узнать что-либо для него важное; иной цели у него не было, ибо денег и драгоценностей, взятых из дому, с избытком хватило бы на то, чтобы жить без нужды долгое время. Но Осмин не менял своего платья как по упомянутой причине, так и потому, что в городе его уже знали как простого работника и в этом виде он мог ходить повсюду, не опасаясь, что его изобличат и воспрепятствуют его замыслам.









