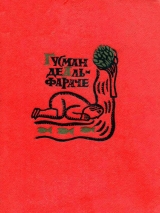
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Гусман де Альфараче. Часть первая
«ГУСМАН ДЕ АЛЬФАРАЧЕ» И ИСПАНСКИЙ ПЛУТОВСКОЙ РОМАН
I. Два знаменитых героя
Ни одна книга в истории испанской литературы не имела такого успеха у современников, как «Гусман де Альфараче» Алемана. Вслед за первым мадридским изданием 1599 года потребовались в том же году еще три, а всего за пять лет – двадцать три издания, помимо многочисленных «пиратских» перепечаток, которых, по свидетельству автора похвального слова ко второй части «Гусмана», было к 1604 году не меньше двадцати шести[1]1
Вторая часть романа (1604) выдержала в первом же году пять изданий.
[Закрыть]. Даже «Дон-Кихот» публиковался за такой же срок только десять раз.
То был, как и при появлении «Дон-Кихота», триумф всенародный и всеевропейский. «Эту книгу читают и знать и простолюдины», – отмечает Бен Джонсон в похвальном стихотворении к английскому переводу Мебби (1623). Уже в 1600 году выходит первый французский перевод, за которым следуют португальский, итальянский, немецкий, голландский. В 1623 году в Данциге появляется тщательный перевод на латинский язык – дань высокого уважения к тексту, как бы возведенному в ранг классических. «Не только Испания, но и вся Европа признала «Гусмана» лучшим из всех произведений, какие когда-либо появлялись в этом роде, начиная с «Золотого осла» и кончая «Ласарильо с Тормеса», коих «Гусман» превосходит по искусству, богатству и разнообразию», – заявляет в предисловии к своему переводу (1619) знаменитый в свое время французский писатель Жан Шаплен.
Для читателей XVII века Дон-Кихот и Гусман де Альфараче – два наиболее знаменитых героя испанской литературы периода расцвета. Показательно различие их славы в ходе веков. Современникам Сервантеса еще не было ясно общечеловеческое – вечно типическое – в донкихотовскои ситуации; в романе они видели осмеяние модного увлечения рыцарскими романами, нечто временное и преходящее, а в герое – натуру исключительную, фантастически безумную. Напротив, «Гусман де Альфараче», с подзаголовком «Наблюдатель жизни человеческой», представлялся им самой натуральной и общезначимой комедией человеческого существования, изображенного в его всеобщности, обыденности и, как мы бы теперь сказали, документальной типичности. «Гусман – комедия человеческой жизни, последовательно представленная в образе балованного, испорченного ребенка, растленного, порочного мужа и сокрушенного, кающегося старца», – объявляет Жан Шаплен. Ему вторит Бен Джонсон: «Испанский Протей, хотя и написанный на одном языке, был создан гением всего человечества».
Потомство пересмотрело эти оценки. Исключительность и мнимая ограниченность «злобой дня» в герое Сервантеса оказались всего лишь исторической формой художественного открытия непреходящего значения, открытия типической жизненной ситуации, о которой вечно напоминает одно имя Дон-Кихота. Книга Сервантеса поэтому выходит по значению за пределы какого-либо рода и вида литературы, да и за пределы самого искусства. Напротив, книга Алемана прежде всего породила определенный литературный жанр. Плут Алемана стал в XVII и XVIII веках нормой и образцом для целой серии «плутовских» романов в Испании и за ее пределами. При этом само имя героя, в отличие от Дон-Кихота, было со временем почти забыто и заслонено его «типичной» для известной эпохи историей, его «плутовским» образом жизни. Под названием «Плут» («El Pícaro»), которым заменяется название «Гусман де Альфараче», роман неоднократно публикуется уже начиная с двух барселонских изданий 1599 года, а также в переводе на иностранные языки. Другие испанские и европейские плутовские романы расширяют, совершенствуют открытый Алеманом вид повествования и в некоторых отношениях даже превосходят первоначальный образец («Великий мошенник» Кеведо, «Симплициссимус» Гриммельсгаузена, «Жиль Блаз» Лесажа). Но ни в одном из них тип «пикаро», столь характерный для испанской и в известной мере для всей западноевропейской жизни XVI—XVII веков, не нашел такого выразительного воплощения, как в Гусмане де Альфараче.
II. Творец образа пикаро
Некоторыми обстоятельствами биография автора «Альфараче» сходна с превратной судьбой его героя. Однако за крайней скудостью известных нам фактов на сей раз не может быть и речи о полноте картины, подобной жизнеописанию Гусмана.
Матео Алеман-и-де-Энеро родился в 1547 году в Севилье. Этот город, – «испанский Вавилон» в аттестации поэта Луиса де Гонгора, «родина всесветная, открытый заповедник, запутанный клубок, широкое поле, надежный маяк, малое подобие вселенной, родная мать сиротам, прибежище грешников» по язвительной характеристике из второй главы романа, – Алеман выбрал родиной и своему герою. Улица Компас в Севилье и площадь Сокодовер в Толедо были в XVI веке средоточием бродяг и нищих со всей Испании. Сюда, в родную Севилью, вернется Гусман после всех похождений и странствий по городам Испании и Италии, чтобы через местную тюрьму попасть на галеры – венец жизненной школы плута. Отец Алемана был врачом при Королевской тюрьме, и надо полагать, будущий создатель пикарескного жанра с детства имел возможность наблюдать нравы уголовного мира и дна Севильи.
Алеман слушал лекции на медицинском факультете Саламанки и Алькала-де-Энарес (где учится и Гусман), но экзамена на звание лиценциата, вероятно, не сдал из-за смерти отца. Тяжелое материальное положение семьи заставляет его вернуться в 1568 году в Севилью, где он берет взаймы крупную сумму у одного капитана с обязательством жениться на некоей донье Каталине де Эспиноса (опекуном которой был его заимодавец) и вернуть долг в течение года. Деньги, однако, были вскоре растрачены, и, оказавшись перед выбором между долговой тюрьмой и женитьбой, юный Алеман предпочитает последнее.
Брак был несчастливым, что, по-видимому, отразилось в эпизоде первой женитьбы Гусмана и неоднократных в романе нападках на женщин. Алеман вскоре оставляет свою жену и отправляется в Мадрид, где с 1574 года служит в государственном казначействе, а также занимается маклерством при распродаже недвижимой собственности. По словам Алонсо де Баррос, сочинителя похвального слова к первой части «Гусмана», Алеман пробыл на этой должности двадцать лет, служа «исправно, хоть и без особой охоты», но эта служба не принесла ему обеспеченности: в 1580 году его заточают в тюрьму за долги.
К восьмидесятым годам относятся его, насколько нам известно, первые литературные опыты – не опубликованные в свое время переводы из Горация, в лирике которого Алемана привлекают пессимистические мотивы бренности и пустоты человеческой жизни, над чем редко задумывается молодость. Жалобы на тяжкие страдания, выпадающие на долю тех, кто пробует устроиться в столице, звучат и в предисловии к «Нравственным изречениям», сочинению его друга, уже упомянутого Алонсо де Баррос. То был литературный дебют Алемана в 1598 году.
К этому времени первая часть «Гусмана де Альфараче» была закончена, судя по разрешению к печати, датированному 1597 годом. Алеману уже исполнилось пятьдесят лет. На свою «дозорную вышку» он, как и его герой, восходит в пожилом возрасте[2]2
«Наблюдатель жизни человеческой» (подзаголовок второй части), исп. atalaya, буквально: «дозорный на вышке».
[Закрыть]. Жизненный итог этой книги, опыт пережитого, отмечен теми же, что и в переводах из Горация, мотивами безнадежности и глубокого разочарования.
Исключительный успех романа не вывел автора из нужды, тяготевшей над ним всю жизнь. Немалую роль здесь сыграли и воровские, в ущерб его интересам, издания. Но и без того литературный труд по тем временам – и не только в Испании – был ненадежным источником дохода (вспомним судьбу более плодовитого, чем Алеман, Сервантеса). Через два года мы во второй раз находим Алемана в долговой тюрьме Севильи, куда он прибыл из столицы нищим. Лишь благодаря заступничеству одного родственника, отнюдь не бескорыстному (тот получил пятьсот экземпляров «Гусмана»), он выходит на волю.
Между тем популярность алемановского героя соблазнила другого автора на затею более смелую, чем тайная перепечатка. В 1602 году появляется «Вторая часть Гусмана де Альфараче» Матео Лухана де Сайяведра – псевдоним, под которым, как полагал Алеман, скрывался валенсийский адвокат Хуан Марти[3]3
Предположение Алемана разделяется не всеми исследователями.
[Закрыть]. Вероятно, Матео Лухан успел ознакомиться с рукописью почти готовой второй части романа Алемана, который признается, что «беспечно разбрасывал свои бумаги и замыслы, и в конце концов их выхватили на лету». Вряд ли, однако, плагиат в «подложной» второй части, помимо самого замысла продолжить историю плута, зашел дальше заимствования некоторых эпизодов. Матео Лухан к тому же обработал эти эпизоды в другом духе, скорее нравоописательно-бытовом, чем нравоучительно-сатирическом, с меньшим искусством стиля, но не без таланта и знания жизни, что должен был признать и сам Алеман.
Через двенадцать лет та же судьба постигнет Сервантеса, которого «опередил» Авельянеда (тоже псевдоним), опубликовав свою вторую часть «Дон-Кихота». Знаменательно различие между Алеманом и его великим современником в методах расправы с ловкими соперниками. Сервантес строит свое обвинение преимущественно на художественно-литературных соображениях, доказывая, что Авельянеда по существу не понял замысла «Дон-Кихота», обеднил и исказил образы героя и оруженосца, неузнаваемо огрубленных в «подложном» продолжении. Напротив, Алеман в предисловии ко второй части хвалит талант и познания своего соперника, заявляя (не без иронии), что «готов ему позавидовать». После упрека в том, что Матео Лухан воспользовался чужим замыслом, Алеман ограничивается в предисловии мелкими, и не всегда справедливыми, критическими замечаниями по его адресу. Зато в самом тексте своей второй части автор дает волю чисто личным нападкам на Хуана Марти, бродягу, скрывшегося для безопасности под вымышленным именем Матео Лухана Сайяведры, чтобы «занять кафедру вороведческих наук». В качестве одного из персонажей второй части Алеман выводит его брата, Сайяведру-младшего, жалкого воришку, который обкрадывает Гусмана де Альфараче, присвоив его имя, а затем, получив прощение с советом в придачу «не таскать чужие сочинения», поступает к Гусману на службу и помогает ему во всякого рода махинациях. Этот плут в конце концов сходит с ума на корабле во время бури и в припадке безумия кричит, что он «тень Гусмана де Альфараче», «его призрак», перевирая при этом историю жизни Гусмана по сочинению своего братца Матео Лухана, и т. п.
Вторая часть «Гусмана» с подзаголовком «написанная Матео Алеманом, истинным ее автором» появилась в 1604 году в Лиссабоне. Алеману пришлось сильно изменить первоначальный текст, «удаляясь от того, что было написано раньше» опередившим его соперником. Мы не можем судить о том, что при этом было опущено, но по эпизодам, связанным с именем Сайяведры, играющего такую большую роль в повествовании первых двух книг второй части, можно убедиться, как много было Алеманом добавлено. Третья часть романа, если она вообще существовала (автор утверждает, что в 1604 году она уже была готова), никогда не выходила в свет. В том же году в Лиссабоне появляется его «Житие святого Антония Падуанского». Оба новых сочинения, видимо, не поправили материального положения автора. Как многие испанцы того времени, Алеман пытает счастья за океаном и шестидесятилетним стариком отправляется в Мексику (1608). В изданной там через год «Кастильской орфографии» он жалуется на слабое зрение, нужду, на непрекращающиеся преследования врагов, которые, вероятно, успокоятся лишь после его смерти.
В Мексику Алеман прибыл в свите архиепископа Гарсиа Герры, впоследствии вице-короля Новой Испании, и на службе у этого прелата находился последние годы. Своего покровителя он прославил в «Жизнеописании дона Гарсиа Герры», великолепном образце ораторского искусства, которое он с таким блеском демонстрирует и на многих страницах «Гусмана де Альфараче» и которое вознаградило автора не лучше, чем его дар романиста. То было последнее его произведение (1613). Дальнейшая судьба Алемана и год его смерти неизвестны (предположительная дата – 1614).
Читателю, знакомому с биографией Сервантеса, не могли не напомнить о ней многие черты и факты в жизни Алемана. Они были однолетками и скончались примерно в одно время. По происхождению оба принадлежали к идальгии, к тому низовому дворянству, которое доставило Испании столько дарований во всех сферах культуры золотого века. Отец Сервантеса был также бедным врачом. Автор «Гусмана» получил медицинское образование в Алькала-де-Энарес, где родился автор «Дон-Кихота». В 1602 году, когда Алеман был заключен в долговую тюрьму Севильи, здесь, тоже во второй раз и в силу тех же обстоятельств, находился Сервантес. К литературной деятельности оба они обращаются после долгих мытарств и жизненных неудач; главное создание одного и другого – плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» на склоне жизни. Наконец, оба были втянуты в необычный «поединок», на который их «бесчестно вызвал» (по выражению Алемана) похититель творческого замысла; самый псевдоним де Сайяведра (по случайному совпадению?) вызывает в памяти образ гения испанской литературы.
Знаменательно, однако, что в одиссее жизни Алемана мы не найдем героических эпизодов, подобных участию в битве при Лепанто или алжирскому плену из биографии Сервантеса. Алеман с иронией относится к воинскому делу, где все обман и суета, как сама жизнь человеческая (I—I, 7)[4]4
Здесь и далее римские цифры обозначают часть и книгу, а арабские – главу «Гусмана де Альфараче».
[Закрыть], – и не только в романе, где эта ирония звучит в устах плута, но и в «Кастильской орфографии». По всему видно, что Алемана мало трогает громкая слава века, уходящего в прошлое, и внимание его всецело приковано к настоящему, к безрадостной изнанке этой славы, к разверзающейся бездне национального позора и нищеты. В этой атмосфере прошли все годы писателя, и она сквозит в его романе. Горизонт Наблюдателя жизни не такой всеобъемлющий, как Дон-Кихота, за которого спорят два века национального развития – восходящий и нисходящий.
Да и метод претворения лично пережитого в художественный образ у Алемана иной, чем у Сервантеса, – более эмпирический, опирающийся на непосредственный опыт, более «биографический». Разумеется, было бы грубой ошибкой далеко заходить в сближении автора «Гусмана» с его героем. Это более допустимо применительно к поздним плутовским романам, начиная с «Маркоса де Обрегон» (1618), и особенно к «Эстебанильо Гонсалесу» (1646) и к «Жизни Торреса Вильяруэля» (1743) – реальным автобиографиям. В «Гусмане» мы подозреваем личные воспоминания в эпизодах студенческих лет героя, его неудачной женитьбы, пребывания в тюрьме. И даже не столько в самом повествовании, сколько в рассуждениях, в патетических разоблачениях царящего произвола, когда голос автора сливается с голосом плута, – во избежание «несообразности» автор с самого начала предупреждает читателя, что его галерник был в свое время «причастен к наукам». Личная обида обойденного по службе Алемана звучит в нападках на выскочек без ума и знаний, занимающих государственные должности, «кои по плечу лишь разумному и достойному идальго» (I—II, 3), и в обличении нечестивых вельмож, которые «подбирают не человека для места, а место для человека» (I—II, 3), «возвышают подлецов, а честных выгоняют и в грязь втаптывают вместе с их честностью» (I—II, 4), – даже в ущерб художественной правде образа Гусмана, который никогда не был на казенной службе!
Роман Сервантеса – не в меньшей мере плод пережитого и выстраданного – чужд подобного использования узкобиографических мотивов. Конгениальность в судьбе ламанчского идальго с судьбой его творца, более внутренняя и художественно преобразованная, – метафора, а не факт. Читателю не придет в голову искать за каким-либо приключением странствующего рыцаря прямой биографический казус, как в приключениях странствующего пикаро. Любопытно, что точность описаний разных городов Италии, где подвизается Гусман во второй части романа, заставляет исследователей предполагать, что Алеман в молодые годы посетил Италию, возможно, в свите кардинала Аквавивы (при котором, к слову, находился и Сервантес). Своего героя и земляка автор не забыл привести и в Алькала-де-Энарес, родной город Сервантеса, потому что там учился Алеман. Колоритная география похождений пикаро часто восходит к авантюрной биографии его творца, тогда как Сервантесу не потребовалось выйти за пределы скупого и сурового пейзажа Ла-Манчи и ближайших областей, чтобы создать незабываемую панораму для ситуации своего романа.
Личная жизнь писателя и историческая судьба Испании слились в синтетическом образе Дон-Кихота, в сложной философско-психологической концепции, которую, не поняв и огрубив, свел на нет Авельянеда своим продолжением. Напротив, тип повествования, созданный Алеманом, его концепция реалистического романа как сатирической картины общества, изображенного через автобиографическую историю плута, нашли многочисленных и талантливых подражателей, даже более последовательных, чем основоположник жанра, – среди них не последнее место занимает и Матео Лухан. Отсюда уже отмеченное выше различие между Сервантесом и Алеманом в том, как каждый из них откликнулся на узурпацию их героя «продолжателем».
III. Социальная почва и литературные прототипы пикаро
Кто такой пикаро?
Происхождение слова до сих пор остается спорным. Его выводят из названия Пикардия (историческая французская провинция с главным городом Амьеном; оттуда приходили в Испанию бродяги наниматься на случайные работы) – наиболее вероятная гипотеза; либо от испанского bigardo – бездельник, негодяй; либо от испанского picar – клевать, щипать, отведать и др. (отсюда пикаро: «тот, кто питается отбросами») – мало убедительное предположение, и т. д. Каждое объяснение, впрочем, опирается на черты, свойственные этому характерному явлению испанского общества XVI—XVII веков.
Пикаро – босяк, бродяга, «сын праздности» (Алеман), рыцарь социального дна, «искатель житейской удачи и легкой жизни» (Кеведо), ради которой он не брезгает никакими средствами. То он нанимается слугой, но, ни к кому не привязываясь, легко меняет хозяев, то ходит с «корзиной», подносит покупки с рынка, то помогает на кухне (так называемый pícaro de cocina – «кухонный пикаро»), ибо любит быть поближе к котлу. Временами он ворует, побирается, но это не профессиональный вор, не нищий – и тот и другой со средних веков имели свои корпорации и уставы, тогда как пикаро – вольная птица и не любит клетки. Продукт разложения корпоративного строя, он своего рода робинзоном проходит через мир, где все против него и он один против всех. Но это робинзон беспечный, живущий сегодняшним днем, не накопитель, а мот, картежник, шулер и порой, если улыбнется фортуна, франт, хотя чаще щеголяет в лохмотьях и питается чем попало. Вместе с тем он предприимчив, остроумен в проделках, нередко образован и по-своему воплощает модный идеал века – «инхениосо» (человека «с идеями»). У него своя честь, которая не дозволяет ему заниматься каким-либо ремеслом. При этом ему, по словам плута Эстебанильо Гонсалеса, «плевать и на султана, и на персидского шаха, не говоря уже о чести дворянской». «Настоящая жизнь – это жизнь пикаро», полная превратностей и лишений, но зато праздная и независимая, – пуще всего пикаро презирает труд и постоянные обязанности.
Бродяжничество, разумеется, было известно Европе с давних лет, а в Испании против него издаются законы с XIV столетия, на массовым явлением, сущим национальным бедствием оно становится здесь лишь с XVI века. В это время возникает само слово «пикаро» (в литературных памятниках – впервые в сороковых годах). К концу столетия в известных кругах праздный пикаро становится даже неким нравственным и эстетическим идеалом, воспеваемым наряду с рыцарским и пасторальным (поэма в терцинах «Жизнь Пикаро» 1601 года, написанная независимо от Алемана). «В наши дни сословие пикаро – самое многочисленное, – замечает Алеман, – все в него попадают и даже гордятся этим» (I—II, 7). Через девять лет после выхода «Гусмана» Сервантес в новелле «Высокородная судомойка» (1613) выведет юнца, который покидает богатых и знатных родителей, поддавшись модному соблазну, и отправляется гулять по белу свету, причем он «так глубоко постиг всю суть бродяжничества, что мог бы прочитать лекцию с кафедры знаменитому Альфараче».
Ростом армии деклассированных, возвещавшей резервную армию труда для будущего, сопровождается во всей Европе великое социальное брожение, вызванное ломкой средневековых устоев и возникновением капиталистического способа производства. Но в колоритном образе испанского пикаро – в его авантюрности, претензиях, паразитизме, возведенном в культ, – есть свои особые черты, порожденные национальными условиями возникновения буржуазного общества в Испании, парадоксами развития в «цветущий период» ее культуры.
Испания была во многих отношениях ведущей страной при переходе к Новому времени. Завершив свое национальное объединение к концу XV века, она пролагает путь к Новому Свету и первой участвует в его освоении. Мировая держава в ближайшем периоде, Испания играет первенствующую роль в политике и официальной культуре Западной Европы: испанский язык изучают в это время во всех странах, испанское искусство соперничает с итальянским, испанский этикет принят при многих европейских дворах, а в модах пышный испанский костюм вытесняет к концу XVI века изящный костюм Ренессанса. При этом Испания оставалась, по сравнению с соседями, страной социально отсталой; ее военно-бюрократический абсолютизм, напоминавший, по словам Маркса, скорее восточные деспотии, не поощрял, как в других странах, а скорее тормозил развитие нации. Авантюрной внешней политике, фантастической мечте о мировом господстве и чудовищным расходам на содержание армии и двора соответствовала и бездарная внутренняя политика в отношении национальной экономики, глушившая хозяйственную инициативу и унижавшая труд. Основой этой политики были утрированные принципы так называемой системы меркантилизма, популярной в эту эпоху во всей Европе: считалось, что национальное богатство главным образом определяется количеством драгоценных металлов в стране. Но потоков золота, которые текли из Америки, не хватало даже на покрытие государственных расходов. Пресловутая революция цен в XVI веке гибельно отразилась в первую очередь на производительных классах Испании, на крестьянах и ремесленниках, не участвовавших в грабеже колоний, в авантюрной охоте за золотом, которое легко доставалось и быстро уплывало. Хищническая эксплуатация колоний поэтому развращала нравы, иссушала национальную энергию и разоряла страну.
Политика испанских Габсбургов приводит к упадку сельского хозяйства, к массовому переселению в города и бродяжничеству: к концу XVI века четверть населения Испании составляют люди без определенных занятий и источников дохода, в том числе сто пятьдесят тысяч бродяг. Между тем государство поощряет перевод пахотной земли в луга в интересах развития животноводства и активного баланса внешней торговли. За счет сельского хозяйства оно стремится развивать мануфактуру и металлургию, необходимую для армии. Податями при этом облагается лишь физический труд – земледелие и ремесла, – хотя и без того он хуже всего вознаграждал себя, и принадлежность к налогоплатящим кругам становится для испанца позорной: ремесла предоставляются презираемым морискам, а торговля находится в руках иностранцев, особенно генуэзцев. Помимо военной и духовной карьеры, занятиями, подобающими испанцу, общественное мнение признает (а налоговая политика поощряет) лишь службу королю и знатным господам. Во времена Алемана в одном только финансовом ведомстве Кастилии, где служил сам писатель, числилось шестьдесят тысяч чиновников. В 1560 году кортесы жаловались королю, что из-за роста числа слуг в свитах знатных лиц сельскому хозяйству не хватает рабочих рук. По свидетельству иностранцев, земли в Испании часто остаются невозделанными, ибо испанцы предпочитают умирать с голоду, но не унижать себя физическим трудом. Тщеславие и праздность в верхах и низах становятся отличительными чертами испанца этой эпохи.
Тип пикаро – знаменье времени для Испании. Он вызван переходом к новому общественному строю в сравнительно отсталой стране, которую к тому же завела в тупик военная и хозяйственная политика правящих кругов, близорукая и кастово своекорыстная.
Алеман впервые – и никто из последующих испанских писателей не сравнился с ним в этом смысле – представил своего пикаро как горестно-комическое порождение испанской жизни и одновременно как прокурора и судью этого общества. В историческом и национальном масштабе образа отличие алемановского плута от его литературных предшественников.
В испанской средневековой поэзии часто прославляются изворотливость и хитрость героя, который не останавливается и перед обманом для достижения жизненной удачи. Здесь сказываются и традиционные связи Испании с арабо-мавританским миром и его литературой, герой которой обычно наделен практическим умом. Еще в эпосе и романсах хитрость и жадность характерны для народного героя не менее, чем верность и храбрость; пространные, наивно восторженные перечисления добычи, «радующей сердце Сида», следуют за реляциями о его победах, В «Хронике рыцаря Сифара», первом рыцарском романе Испании (начало XIV века), народный образ оруженосца Рибальдо часто напоминает героя плутовского романа. Более прямыми литературными источниками жанра можно признать два замечательных создания староиспанской поэзии – «Книгу благой любви» Хуана Руиса (середина XIV века) и «Селестину» Фернандо Рохаса (конец XV века). Первая из них – стихотворная автобиография распутного архидьякона, который, исповедуясь перед читателем, повествует о своей жизни будто бы с целью предостеречь от чувственной любви, и в лукаво-наивном тоне пересыпает, подобно Алеману, свой рассказ притчами, шутками и едкими разоблачениями. В «Трагикомедии о Калисто и Мелибее», или «Селестине», за основным планом рассказа об идеальном чувстве влюбленных героев выступает яркая картина городского дна, представленного в образах ловких слуг и проституток во главе с пронырливой сводней. Этот сатирический «низкий» план «Селестины» развивается уже после Алемана в «женской» разновидности плутовской повести с героиней плутовкой («Плутовка Хустина» Л. Убеды, «Дочь Селестины» С. Барбадильи, «Мадридские гарпии» К. Солорсано).
Мотивы ловких проделок и плутней хитрого или циничного героя в фольклоре, эпосе и письменности разных народов восходят к незапамятным временам поэтического творчества. Тип плута в этом смысле гораздо шире образа, созданного Алеманом, и как родовое начало не раскрывает его своеобразие, жизненный колорит его характера. В произведениях Х. Руиса и Ф. Рохаса, несомненно, отражен процесс брожения в низах позднесредневекового общества, но ни в поэтической исповеди деклассированного клирика Руиса (которая родственна средневековой поэзии школяров-«вагантов»), ни в мире Селестины, своего рода корпорации социально отверженных, этот процесс еще не имеет универсального характера и не стоит в фокусе национальной жизни.
Непосредственным предшественником, а но мнению многих исследователей – первым образцом плутовского жанра является анонимная повесть «Ласарильо с Тормеса» (1554), давно переведенная на все европейские языки, в том числе – и многократно – на русский. В этой маленькой книжке, пользующейся на протяжении четырех веков неизменным успехом у читателя, написанной с непревзойденным искусством и чувством меры, выступают почти все черты плутовского романа: 1) мемуарная, как бы документальная форма для вящей убедительности рассказа; 2) безыскусная хронологическая последовательность событий, начиная с рождения рассказчика; 3) герой, меняющий занятия, но чаще всего слуга у разных господ; 4) иронический и сатирический тон, разоблачение общества через восприятие слуги, знакомого с изнанкой жизни своих хозяев; 5) комизм порочного, низменного, часто «физиологического»; 6) превратная, подчиненная случаю судьба героя, беспомощно плывущего по «реке жизни» (символичное для Ласарильо рождение на реке Тормес).
Ласарильо попеременно служит поводырем у слепого нищего, слугой у скупого церковника, у тщеславного эскудеро, у продавца индульгенций. Его хозяева – законченные сатирические типы, перешедшие в пикарескный роман XVII века; не хватает здесь одного – самого пикаро (в повести нет еще и этого слова). Ласарильо простодушен, внутренне неиспорчен, старателен, чужд праздности. Голодная жизнь у хозяев толкает его на обман и перемену мест, но по натуре Ласарильо не бродяга – начиная с детских лет, когда мать отдает его на службу к нищему, стимулы его странствий и злосчастий всецело в среде, а не в авантюрном характере. По своей натуре герой повести скорее противостоит миру обмана, в котором живет: концепция человека в «Ласарильо» еще лишена строгого «плутовского» единообразия. Ласарильо, по сути, так и не усваивает первого урока, преподнесенного ему нищим слепцом, что с людьми надо «быть хитрее самого черта» – этой несложной философии пикаро, в характере Ласарильо нет ничего «демонического». В конце повести мы видим его женатым, но в памяти читателя он остается маленьким Ласаро, невинным ребенком, взывающим к нашей жалости. Короче, «Ласарильо с Тормеса» – еще плутовская повесть без плута; это, если угодно, «детство» пикарескного жанра.
Зрелость наступает через полвека, под самый конец правления Филиппа II, когда вполне обнаруживается национальный кризис. В эти годы и складывается концепция «Гусмана де Альфараче», пикаро как национального образа.











