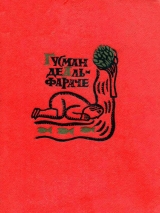
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
о том, как Гусман де Альфараче, прибыв в Альмагро, зачислился в военный отряд. А также о том, откуда пошла поговорка: «В Малагоне по вору в каждом подворье, а у алькальда их двое – отец да сын»
Не разумея того, что любовь – это стремление к бессмертью, возникающее в праздной душе, чуждое рассудку и неподвластное закону, что предаемся мы ей добровольно, но расстаться с ней не вольны, что легко проникает она в сердце, но с трудом его покидает, я поклялся не знаться с ней никогда.
Конечно, спросонок я сам не знал, что говорю. Дремота так одолевала меня, что даже боль от удара не прогнала ее. Встать рано я, понятное дело, не смог: провалялся в постели до девяти часов. Когда я проснулся, в комнату вошла эта распроклятая девчонка и стала оправдываться: дескать, хозяева заперли ее на ключ. Отлично понимая, что плутовка врет, я сказал:
– От вашей любви, сестрица Лусия, «мне великая досада»:[160]160
«…мне великая досада». – Вероятно, Алеман перефразирует здесь стихи из романса об «Инфантах Лары» (см. комментарий 138): «От сынов тех доньи Санчи мне великая угроза».
[Закрыть] началась она со стула, кончилась ударом в скулы. Больше не удастся вам провести меня, подавайте-ка лучше завтрак, я тороплюсь ехать.
Тотчас зажарили двух куропаток и кусок окорока; это послужило и завтраком и обедом, так как время было позднее и путь предстоял недолгий. Я вышел во двор, оба мула стояли уже оседланные; моего мула – а это была самка – природа наградила сварливым нравом и дурными повадками. Я хотел было встать на скамью, чтобы оттуда взобраться на спину упрямой скотине, но когда обходил ее сзади, она, верно, пожелала сказать мне, что мое намерение ей не по нутру или чтобы я убирался прочь; не умея это выразить на человеческом языке, она лягнула меня разик-другой задними ногами так, что я отлетел в сторону. Больно мне, впрочем, не было; ударила она не копытами, а бабками.
– Этого еще не хватало! – громко сказал я. – Видно, тут на постоялом дворе дурные манеры у всех дам, даже у четвероногих.
Я кое-как уселся в седло и по дороге рассказал своим слугам о ночном приключении с ослицей. Они долго смеялись над ним и надо мной, над моей ребяческой простотой – что поверил девчонке озорной, у которой в голове ветер.
Проехали мы добрых две лиги, и тут погонщику, который шел пешком, захотелось пить. «Подай мех!» – «Где мех?» Ан меха-то и нет. Забыли на постоялом дворе.
– Знать, хозяйка решила подшутить, – заметил погонщик, – и припрятала мех, чтобы мы не увезли чего-нибудь бесплатно.
Мой паж сказал:
– А мне думается, мех у нас стащили, чтобы подтвердить славу этого селения.
Я не знал, откуда пошла обидная для Малагона поговорка. А так как людям, которые ездят по всяким местам, доводится слышать немало разных историй, я подумал, что об этом можно спросить у погонщика, и обратился к нему:
– Братец Андрес, вот ты был и студентом и возницей, а ныне стал погонщиком мулов. Может, расскажешь нам, если знаешь, с чего укрепилась за этим селением дурная слава и почему говорят: «В Малагоне по вору в каждом подворье, а у алькальда их двое – отец да сын»?
Погонщик ответил:
– Ваша милость спрашивает меня о том, что я много раз слышал, но всякий раз другое; всего не пересказать – путь наш короткий, история длинная, а от жажды язык еле ворочается. Но так и быть расскажу, как умею, опуская то, в чем не вижу ни крупицы истины, и полагаясь на мнение разумных людей. В делах глубокой старины, истинные причины коих нам неведомы и в летописях не записаны, здравый смысл – единственный закон, с коим надо сообразовываться. А поговорка эта весьма давнего происхождения и возникла следующим образом.
В году от рождества Христова тысяча двести тридцать шестом, когда в Кастилии и Леоне правил Фердинанд Святой[161]161
Фердинанд Святой – Фердинанд III, король Кастилии (правил в 1217—1252 гг.), одержал много побед над маврами, завоевал Кордову, Севилью, Херес и Кадис, объединил в 1230 г. Леон и Кастилию.
[Закрыть], завоевавший Севилью на второй год после кончины Альфонса Леонского[162]162
Альфонс Леонский – Альфонс IX, король Кастилии (правил в 1158—1214 гг.), заключивший в 1197 г. мир с Леоном. С помощью рыцарских орденов нанес поражение альмохадам в знаменитой битве при Лас-Навас-де-Толоса (1212).
[Закрыть], отца своего, однажды во время обеда в Бенавенте[163]163
Бенавенте – город в провинции Самора, в бывшем королевстве Леон.
[Закрыть] доставили королю известие о том, что христиане ворвались в город Кордову, где овладели башнями и укреплениями предместья, называемого Ахаркиа, но что мавров много, а христиан мало и они весьма нуждаются в подмоге.
С такими же посланиями обратились к знатнейшим кастильским вельможам – к дону Альвару Пересу де Кастро, находившемуся в Мартосе[164]164
Мартос – город в провинции Хаэн.
[Закрыть], к дону Ордоньо Альваресу, людям весьма влиятельным и могущественным, а также ко многим другим дворянам, дабы они оказали помощь и поддержку. Все, кто был извещен об этом, поспешили к Кордове, и король также немедля выступил в поход, хотя известие было получено двадцать восьмого января и стояла тогда ненастная погода со снегами и морозами.
Но ничто не могло удержать короля; он отправился на помощь, наказав своим вассалам ехать за ним следом, ибо в его отряде едва ли насчитывалась сотня рыцарей. Такой же приказ разослал он по всем городам и весям, повелевая выслать побольше людей к той границе, куда сам направлялся.
Началось половодье, реки и ручьи разлились так сильно, что переправа была невозможна; в Малагоне скопилось множество воинов из разных местностей. И хотя селение это в те времена было весьма многолюдно и слыло одним из богатейших во всей провинции, на каждый двор пришлось по одному постойщику, а на иные по два и по три.
Алькальд поместил у себя капитана одного из отрядов и его сына, служившего там же знаменосцем. Довольствия не хватало, из-за распутицы приостановилась торговля, все терпели нужду, и всяк добывал себе пропитание, воруя где придется.
Один тамошний крестьянин, известный шутник, по дороге из Малагона в Толедо встретил в Оргасе отряд всадников, которые спросили, откуда он. Крестьянин сказал, что из Малагона. Они тогда спрашивают: «А какие там у вас новости?» – «А такие у нас новости, сеньоры, – ответил он, – что в Малагоне по вору в каждом подворье, а у алькальда их двое – отец да сын».
Таково подлинное происхождение обидной поговорки о Малагоне, люди же болтают, не зная истинного ее смысла. А в наше время оно особливо обидно – вряд ли найдется по этой дороге другое селение, где бы так хорошо принимали проезжих и обходились с каждым по его званию. Но, конечно, и в Малагоне случаются кражи, и даже весьма крупные.
За такой беседой мы незаметно подъехали к Альмагро, и от одного встречного я узнал, что там стоит воинский отряд. Известие было верное и весьма меня обрадовало – наконец я нашел то, чего искал как избавления от всех бед. При въезде в город, почти у самых ворот, я увидел на Королевской улице вывешенное из окна знамя. Я проехал мимо. Остановившись на одном из постоялых дворов, я рано поужинал и сразу улегся спать, чтобы подкрепить силы после стольких бессонных ночей. Видя, что я хорошо одет и еду в сопровождении слуг, хозяин и постояльцы стали их расспрашивать, кто я, на что слуги, зная обо мне лишь с моих же слов, отвечали, что я сын знатного кабальеро из дома Тораль и зовут меня дон Хуан де Гусман.
Рано утром паж принес мой костюм и нарядил меня. Прослушав мессу, я отправился к капитану, которому сказал, что прибыл с намерением вступить в его отряд. Капитан принял меня весьма любезно и радушно, так как был я недурен собой, хорошо одет, а главное, при деньгах. Хоть немало монет пустил я по ветру, как Ной своего ворона[165]165
…как Ной своего ворона… – Согласно библейскому, рассказу, к концу потопа, после сорокадневного пребывания на горах Араратских, Ной выпустил из ковчега ворона, чтобы узнать, убыла ли вода. Но ворон все время «отлетал и прилетал». Тогда Ной выпустил из ковчега одного за другим трех голубей, и когда третий голубь не вернулся, стало ясно, что на земле уже иссякла вода (Бытие, гл. VIII).
[Закрыть], но после всех трат на наряды, ухаживанье за дамами и путешествия у меня еще оставалось больше тысячи реалов.
Капитан зачислил меня в свой отряд и приписал к офицерскому столу, обращаясь со мной чрезвычайно учтиво. Дабы не остаться в долгу, я всячески ублажал его и одаривал, соря деньгами по-княжески, хоть говорят, что «на все вторники ушей не напасешься»[166]166
«…на все вторники ушей не напасешься»… – поговорка, связанная с тем, что наказание воров производилось по вторникам (см. комментарий 147).
[Закрыть], и не в каждом городе ждали меня бакалейщик, река и роща, где можно укрыться от кого угодно. Я транжирил деньги вовсю, швырял их, не считая, часто присаживался к карточному столу, причем обычно проигрывал, и кошелек мой все тощал.
Так я развлекался до выступления в поход, когда для раздачи жалованья весь отряд собрали в церкви, откуда нас выкликали по одному. Вызвали и меня, но казначей, взглянув на мое лицо, сказал, что я слишком молод и, согласно распоряжению, он не может занести меня в список. Я возмутился и в гневе едва не наговорил ему таких дерзостей, о которых сам бы пожалел, ибо они завели бы меня слишком далеко.
Чего только не сделает богатая одежда! Давно ли меня били смертным боем, шею сворачивало набок от оплеух и подзатыльников, но тогда я молчал и терпел, а теперь соломинка показалась мне с оглоблю и распалила во мне неистовую ярость. В тот миг я испытал на себе, что и от вина не хмелеет человек так, как от первой вспышки гнева, который помрачает наш разум, не оставляя ни единого луча здравого смысла. К счастью, подобная горячка быстро проходит, не то ни один зверь не сравнился бы с человеком по свирепости.
Внезапный пожар так же быстро и погас. Немного успокоившись, я сказал:
– Сеньор казначей, лета мои малые, зато велико мое мужество; сердце повелевает, рука сумеет действовать шпагой, и крови в жилах станет на доблестные дела.
Казначей с большой мягкостью ответил:
– Все так, сеньор солдат, я искрение верю вашим словам, но приказ есть приказ, и, коли его нарушу, мне придется платить из собственного кармана.
На столь благоразумный довод я не нашелся что возразить, хотя с лица моего еще не сошла краска гнева.
Капитан был так огорчен учиненным мне афронтом, словно оскорбили его самого. Когда мое имя вычеркнули из списка, он испугался, что я оставлю отряд, и стал бранить казначея; не будь тот человеком ко всему привычным, могла бы вспыхнуть крупная ссора.
Наконец шум улегся, жалованье роздали, и капитан пришел в гостиницу навестить меня; в самых изысканных выражениях он высказал глубокое сочувствие моему горю и, не скупясь на лестные слова и обещания, сумел меня вполне успокоить.
Велика власть красноречия! Как наездник, умело действуя уздечкой, укрощает строптивого коня, так учтивыми речами можно подчинить своей воле рассерженного человека, уговорить его сменить гнев на милость и отказаться от прежнего намерения. Даже если бы я твердо решил уехать, капитан убедил бы меня остаться.
Мы беседовали довольно долго. И правду сказать, немало толковали о том, что храбрым людям нынче не дают ходу и армия пришла в упадок, что за воинские подвиги награждают скупо, что придворные ради своей выгоды докладывают о них ложно, что все идет вкривь и вкось, ибо всяк помышляет не об успехе дела, а о собственном преуспеянии. Если одному из этих сановников дана власть и он распоряжается и повелевает – пусть с наилучшими помыслами, – то другой непременно будет мешать и вредить в его делах, чтобы самому оказаться у власти; ради этого завистник изыщет тысячи окольных путей и способов, стакнется с его врагами, ополчится на его друзей – лишь бы умножить свои доходы и повернуть воду на свою мельницу.
Такому хотелось бы сравняться с самим королем и вознести свое кресло к облакам, чтобы никто до него не дотянулся. На словах эти люди служат королю, а на деле думают только о себе; так земледелец воздевает руки к небесам лишь затем, чтобы ударить мотыгой по земле. Они затевают войны, нарушают мирные договоры, изменяют своим обещаниям, разоряя государство, грабя жителей и обрекая душу свою на адские муки.
Сколько начинаний кончилось неудачей, сколько крепостей утрачено, сколько армий разбито! А к ответу требуют люден неповинных, потому что так угодно правителям. Ибо зло для них благо, а благой исход был бы для них злом. Да, куда ни глянь, дело дрянь.
– Вы только вообразите, ваша милость, – сказал капитан, – до чего уже дошло! Ведь нарядный мундир, перья, яркие цвета – все это окрыляет воина и помогает ему идти без страха на любые твердыми и свершать доблестные дела; а здесь, в Испании, нас корят за пышные наряды. Им, видимо, хотелось бы, чтобы мы одевались точно стряпчие или бедные студенты – траурный плащ да берет, одни обноски и черное тряпье! Мы и так унижены паче меры, ибо те, кто должен нас чтить, отнюдь не благоволят к нашему брату. Одно слово «испанец» некогда покоряло страны и повергало в трепет весь мир, а ныне, за грехи наши, слава его почти совсем утрачена. Мы обанкрутились вконец, и никакие крепости тут не помогут. Но мы были, есть и будем испанцами.
Да просветит господь и наставит тех, кто повинен в наших бедствиях и чинит зло своему королю, вере, родине и самим себе. Время, сеньор дон Хуан, подтвердит истинность моих слов и раскроет перед всеми огромный урон, наносимый алчностью царедворцев. От нее рождается ненависть, от ненависти – зависть, от зависти – распри, от распрей – беспорядки. Судите сами, чем все это может кончиться. Но не горюйте, ваша милость, мы выступаем в поход. Италия – это другой мир, и там, даю слово, я выхлопочу вам чин батальонного командира. И хотя ваша милость достойны большего, это послужит началом для вашего возвышения.
Я его горячо поблагодарил; мы попрощались. Капитан хотел идти один, я настаивал, что провожу его до гостиницы. Он мне не позволил. На следующий день отряд выступил и двигался без остановки, пока мы не добрались до берега моря, а сеньор капитан – до дна моего кошелька: деньги летели без счету. Нам пришлось долго ждать прибытия галер – около трех месяцев; доходов никаких не было, и мой кошелек становился все легче.
Немало помогла этому и страсть к игре; не в один день, но постепенно я потерял все. Как незадачливый боец, я, не сломав копья, вернулся на свое место и стал посмешищем для всех.
О, как жалел я тогда о своем неразумии! Как горько упрекал себя! Как горячо обещал себе исправиться, когда уже ни бланки в кармане не осталось! Сколько спасительных мыслей пришло мне в голову, когда лишился я последней опоры! Зачем было так глупо влюбляться? Зачем было так пышно наряжаться? Кто заставлял меня сорить деньгами? Что толку было в том, что я просаживал их в карты, не скупился на гостиницы, осыпал подарками капитана? В передние рвался, а последним остался! Не гонись за удовольствиями, глупец!
Уразумев свою дурость, я прямо с ума сходил оттого, что лишился былого почета. Теперь уже никто меня не обхаживал и не угождал ребяческому моему тщеславию. Друзья, которыми я обзавелся в дни благополучия, обильный офицерский стол, отряд, куда меня собирались зачислить, – все будто унесло и выжгло суховеем, все исчезло в мгновение ока, как пролетевшая стрела, как сверкнувшая молния. Прежде я не знал, куда деньги девать, а теперь пришлось последнее с себя снимать – вещь за вещью сдирали с меня, разоблачая, как мальчика, которого в день святого Николая нарядили епископом и чтили, пока не кончился праздник, а затем раздели донага[167]167
…раздели донага. – В некоторых областях Испании долго соблюдался этот старинный обряд, установленный в память избрания епископом святого Николая Барийского, христианского мученика времен Диоклетиана.
[Закрыть].
Те, кто гордился дружбою со мной, те, кто навещал и развлекал меня, угощался на моих ужинах и пирушках, нынче, когда кошелек мой опустел, махнули на меня рукой, перестали узнавать и разговаривать. Больше того, мне даже не разрешили ехать с отрядом. Добрые стали злыми, любезные – надменными, приятели – недругами, и все из-за моей бедности, словно она была преступлением, за которое меня надо наказать. Теперь я имел право дружить и знаться только с носильщиками отряда. Вот до чего я дошел, и поистине справедливо говорится: «По делам и награда».
ГЛАВА Xо том, как Гусман де Альфараче служил у капитана до прибытия в Италию
Как горько мне было начинать все сначала, какой тяжкой казалась жизнь, как сетовал я на новую неудачу! Но ремесло носильщика было мне знакомо – мулу барабанщика пальба не страшна[168]168
…пальба не страшна. – Большие военные барабаны перевозились на мулах.
[Закрыть]. Я быстро приноровился к делу, – благо тому, кто знает разную работу и не полагается на блага преходящие, что появляются и исчезают столь же быстро, как черпаки вертящейся нории.
Утешало меня то, что за дни благополучия я приобрел некоторое уважение, сгодившееся мне в черные дни. Став бедняком, я почитал за немалое богатство то, что люди помнили о моем благородстве, которое я подтвердил своими делами. Капитан был со мной по-прежнему учтив, памятуя об оказанных ему услугах; он даже готов был помочь моей беде, но не мог, ибо сам был в такой же. Он обращался со мной не менее уважительно, чем в первое время нашего знакомства, видимо, из почтения к моим высокопоставленным, как он полагал, родителям.
Нужда раздела меня донага и сбила спесь. Я снова надел одежды смирения, от которого было отучили меня наряды и деньги, ибо понял, что сочетать тщеславие с нуждой невозможно. Пусть богатей раздувается от спеси – ему есть на что набить себе брюхо, есть и чем набить; но нищий, задирающий нос, – это хамелеон, который питается одним воздухом. Равно несносны и мерзки тщеславный богач и надменный бедняк.
Я понял, что форсить мне уже не удастся. Делать нечего, пришлось пойти в услужение к капитану, с кем я прежде был запанибрата. Теперь я угождал ему не менее усердно, чем некогда повару. А он, помня о том, кто я, отдавал мне приказания не без стеснения, полагая, что лишь юношеская беспечность, неопытность и простодушие довели меня до необходимости стать его слугой. Капитан, был убежден, что я ни в коем случае не совершу поступка, неподобающего дворянину, и считал меня человеком преданным, умеющим молчать и терпеть. Он даже поверил мне свою тайну, за что я был ему благодарен.
А именно: капитан признался, что беден, что истратил последнее, добиваясь чина, и получил его лишь после долгих и утомительных хлопот; пришлось просить, подмазывать, льстить, угождать, прислуживать, низко кланяться, держа шляпу на отлете, обивать пороги, не зная покоя ни днем ни ночью. Он рассказал, как однажды, выйдя из королевского дворца с неким влиятельным вельможей, он покрыл голову шляпой, когда тот садился в карету, за что вельможа разгневался на него и едва не погубил, положив его прошение под сукно и вынудив без конца давать взятки и жить впроголодь.
Упаси нас бог, когда власть сочетается с недоброжелательством! Сколь прискорбно, что иной сановник мнит себя кумиром и требует поклонения, забывая о том, что он всего только лицедей, выходящий на подмостки в роли и облике вельможи, и что недалек час, когда его позовут в костюмерную, и там, в могиле, сын праха обратится в прах.
Гляди, брат, комедии скоро конец, а ты такой же человек, как я и все прочие. Иной так надут чванством, словно готов море вобрать в свою утробу, иной тешится беспечно, словно он вечен, иной заносится высоко, словно смерть не свергнет его вниз. Благословен бог, что есть бог. Благословенно его милосердие, что назначило день суда равно для всех.
Мне было жаль капитана, который не умел бороться с бедностью. Благородный человек острей чувствует нужду, и бедняк посочувствует ему скорей, нежели богач. У капитана еще оставалось несколько драгоценностей, которые он мог бы продать, но они были его гордостью, и, собираясь отплыть в край, где эти вещи могли пригодиться, он не желал лишаться столь многого лишь ради того, чтобы есть досыта.
В ту пору, когда мы ждали галер, нам приходилось не раз менять постой. Услышав признание своего господина, я мигом смекнул, что у него на уме. Итак, я сказал:
– Сеньор, мне уже довелось на собственном опыте изведать, что такое удача и неудача, благоденствие и невзгоды. Хоть лет мне немного, зато перевидал я много. Буду служить вам верой и правдой, памятуя о своем долге перед вами, моим господином, и перед самим собой. Знайте, ваша милость, я жизни не пожалею, чтобы угодить вам, и сумею извернуться так, чтобы в ожидании лучшего будущего мы не слишком страдали от бед настоящего.
Так я взял на себя задачу, которая, казалось, была не по моим силам и уму. Отныне, неся свою службу, я прямо чудеса творил. Как надо было становиться на постой, набирал с дюжину билетов и за каждый выручал не меньше двенадцати реалов, а иной раз и с полсотни[169]169
…и с полсотни. – Жители обычно старались откупиться от солдатского постоя, давая взятки квартирмейстеру, являвшемуся к ним со специальными билетами – требованиями предоставить жилье.
[Закрыть]. Без стеснения обходил я все постоялые дворы и в каждом находил чем поживиться, хотя бы глотком колодезной воды. Мой господин никогда не оставался без курицы, цыпленка, каплуна или голубя на обед и на ужин, а по воскресным дням у нас всегда подавался целый свиной окорок под винным соусом.
Из того, что мне удавалось раздобыть, я не присваивал себе ни крохи – все честно отдавал капитану. Если же при каком-нибудь налете меня настигал хозяин постоялого двора, то мелкие кражи обычно сходили мне с рук, а за кражу покрупней меня вроде как наказывали – в присутствии жалобщика капитан хватал меня за шиворот и, велев связать руки, принимался отбивать на мне чечетку сапогом с тонкой подошвой. Шуму было много, а совсем не больно. Порой находились поручители, и меня отпускали, но если их и не оказывалось, побои были легкие и даже синяков не оставляли. Я знал, что бьют меня для виду, а не по злобе, и едва капитан ко мне притрагивался, как я уже начинал вопить во все горло, будто меня режут. Таким образом, он исполнял свой долг, а я пополнял наши запасы, – оба были сыты, и честь не страдала.
Иногда я выходил на дорогу и останавливал проезжих, требуя повозку и лошадей для нужд отряда; от меня откупались, причем я всегда напоминал хозяевам, какие терплю убытки, и дорого продавал свою милость. А тех лошадей, которых нам давали в деревнях, я тайком продавал, а потом заявлял, что они оказались больно резвыми и убежали. При перекличках и раздаче жалованья я приводил из деревни с полдесятка парней посговорчивей, чтобы и на них выдали деньги. Был случай, что одного и того же парня я пять раз тайком провел в церковь через окошко в склепе, и он пять раз получил жалованье; только напоследок наклеил ему на нос пластырь и всякий раз заставлял переодеваться, чтобы его не узнали и о моих плутнях не пронюхали.
Благодаря подобным проделкам я приносил капитану больше дохода, чем десяток капитанских грамот с полномочиями. Он души во мне не чаял, но это был мот первостатейный, и от моих трудов он не разжился.
Когда мы прибыли в Барселону, чтобы там погрузиться на галеры, капитан мой закручинился: казенные деньги кончились, новых получить неоткуда было, а мои выдумки здесь не годились. Заметив, что он стал мрачен, неразговорчив, ест без аппетита, я сразу определил, чем он болен, как врач, которому уже не раз приходилось его лечить от этого недуга.
У капитана среди прочих безделушек был драгоценный «агнец божий»[170]170
Агнец божий – украшение, сделанное по образцу восковых пластинок с рельефным изображением агнца, которые изготовлялись и торжественно освящались папой в первый год его правления, а затем через каждые семь лет на пасху раздавались знатным лицам.
[Закрыть] из чистого золота. Ему не хотелось расставаться с этой вещицей, но я сказал:
– Сеньор, если вы доверяете мне, дайте сюда этого агнца; обещаю вам, что через два дня возвращу его с приплодом.
Услышав это, капитан обрадовался и со смехом сказал:
– Что еще за штуку ты удумал, Гусманильо? Чего доброго, снова пустишь в ход свои фокусы?
Но, зная, что я ловкий малый и сумею выполнить обещание, не замарав его чести, и сохранить вещицу, он без долгих разговоров дал мне агнца и сказал:
– Дай бог, чтобы ты его вернул и все получилось, как ты задумал.
Я положил агнца в кошелек, который крепко завязал и спрятал за пазуху, замотав тесемки за петлю кафтана.
Затем я прямехонько направился к одному местному ювелиру, крещеному еврею и известному ростовщику. Долго я ему расписывал, кто я, да как попал в отряд, и как много истратил за недолгий срок пребывания там, сохранив на черный день лишь одну весьма дорогую вещь. Я сказал, что готов продать ее, коли мне дадут настоящую цену, но сперва пусть он осведомится обо мне, что я за человек и какого звания, да никому не говорит, зачем это нужно. И если сведения окажутся благоприятными, пусть выйдет на берег, я буду его там ждать.
Загоревшись жадностью, ювелир расспросил обо мне у капитана, офицеров, солдат и услышал самые лестные отзывы. Все, как один, подтвердили, что я – сын важного кабальеро, человека знатного и состоятельного, что, желая попасть в Италию, я явился в отряд с двумя слугами, богато одетый и при деньгах, но, по юношескому безрассудству, вконец промотался и дошел до крайней нужды.
Тогда этот выкрест пришел в условленное место и рассказал мне все, что слышал; он был очень рад, что может без опасений купить у меня любую драгоценность. Попросив показать мою вещицу, он обещал хорошо заплатить за нее. Я сказал, что для этого лучше уединиться в укромном местечке.
Мы прошли немного дальше, и когда место показалось мне подходящим, я сунул руку за пазуху и вытащил золотого агнца, о цене которого предварительно узнал у капитана. Ювелиру он понравился. Жадность пуще разобрала его, когда он увидел, что вещица не только превосходно отделана, но и украшена драгоценными камнями. Я запросил двести эскудо – это было чуть поменьше цены, которую заплатил капитан, купив по случаю. Ювелир принялся сбавлять цену, находя сотню недостатков, и для начала предложил тысячу реалов. Я решил, что надо выручить полтораста эскудо, ни реала меньше, и от своей цены долго не отступал. Советую каждому, кто продает, ни в коем случае не сбавлять цены, которую назначил, а выжидать, чтобы покупатель набавил столько, сколько сможет.
Мы долго торговались. Наконец ювелир стал предлагать мне сто двадцать эскудо. Подумав, что больше он, видимо, не даст, а мне и этого хватит, я согласился. Теперь он не отходил от меня ни на шаг и звал пойти к нему, чтобы завершить сделку. Но я сказал:
– Почтенный сеньор, пошли вам бог счастья в жизни! Я вызвал вас сюда, в уединенное место, лишь из боязни, что у меня могут отобрать эти деньги, а мне надо их приберечь до приезда в Италию, чтобы там иметь, на что приодеться, и явиться к моим родственникам в пристойном виде. Если кто из солдат заметит меня с вашей милостью, то, конечно, поймет, что я не покупаю, а продаю; стоит им проведать, что у меня завелись деньги, они все отымут, и не мне, мальчишке, с ними справиться. Ступайте домой в добрый час, а я подожду; заплатите мне здесь, тогда вещица ваша, и да принесет она вам удачу, какой я вам желаю.
Мои доводы убедили ювелира. Он помчался, как добрый рысак, домой за деньгами.
Еще до того я подговорил одного солдата, человека надежного, засесть невдалеке и по знаку подойти ко мне. Солдат спрятался в засаде; вскоре появился ювелир и отсчитал мне золотые монеты из рук в руки. Агнец был у меня в кошельке; я притворился, будто хочу развязать тесемки, но не могу, так как они запутались. У моего покупателя висел на поясе футляр с набором ножиков. Я попросил один из них. Ничего не подозревая, ювелир исполнил мою просьбу. Я перерезал тесемки, оставив узел в петле кафтана, и вручил ювелиру агнца вместе с кошельком. Тот с удивлением спросил, зачем я это сделал. Я ответил, что у меня нет ни футляра, ни бумаги, чтобы завернуть его покупку, так пусть берет в кошельке, он все равно старый и мне не надобен, а полученные эскудо я зашью в пояс.
Ювелир взял кошелек с агнцем, спрятал его на груди и, попрощавшись со мной, ушел. Я сделал знак товарищу, тот подскочил ко мне, я отдал ему деньги, наказав во весь дух мчаться домой, отдать их капитану и сказать, что я скоро вернусь. Сам же отправился вслед за ювелиром; шаг у него был широкий, он успел далеко уйти, и мне пришлось долго бежать, пока я не увидел то, на что рассчитывал.
Мой ювелир поравнялся с кучкой солдат; тогда я вцепился в него обеими руками, громко крича:
– Вор! Держите вора! Клянусь богом, сеньоры, он меня ограбил! Держите его, не выпускайте, отнимите у него, золотого агнца, не то, если вернусь с пустыми руками, мой господин убьет меня! Этот мошенник обокрал меня, сеньоры!
Солдаты меня знали и, услышав такие речи, поверили, что я говорю правду. Они задержали ювелира, желая узнать, что случилось. Кто громче кричит, тот и прав, тот и победил; я вопил что есть мочи и не давал ему слова сказать, а когда он пытался заговорить, орал еще пуще, чтобы его не было слышно. Упав на колени и подняв руки, ювелир слезно умолял выслушать его.
– Сеньоры! – кричал я. – Капитан, мой господин, убьет меня! Сжальтесь надо мной!
Мое отчаяние тронуло солдат. Они стали спрашивать, как было дело.
Я опять не даю ювелиру вставить слово; во что бы то ни стало мне надо было опередить его, захватить своей ложью место, не пропуская его правды. Ибо слух наш обычно вступает в законный брак с той жалобой, которую ему подсунут первой, и потом уж развести его с ней нелегко. А прочие жалобы что полюбовницы: зайдут ненадолго и не присядут.
Я сказал солдатам:
– Нынче утром мой господин оставил золотого агнца божьего у изголовья своей постели и наказал мне его прибрать. А я положил вещицу в кошелек да засунул за пазуху, потом встретил этого доброго человека на берегу, вытащил агнца и показал ему. Он ведь ювелир, вот я и спросил, какая цена этой штучке. Он говорит, что это – позолоченная медь, а камешки – из стекла, да спрашивает, не продам ли. Я говорю, не продам, потому вещь не моя, а хозяйская. Он говорит: «А хозяин продаст ее?» Я говорю: «Не знаю, ваша милость, спросите у него самого». Он начал мне зубы заговаривать, спрашивать, кто я, откуда приехал да куда еду, пока мы не остались одни на берегу. Тут он выхватывает ножик из этого вот футляра, что у него на поясе, и кричит, чтобы я молчал, не то зарежет. Вытащил у меня из-за пазухи вещицу, да отвязать кошелек не сумел; тогда он перерезал тесемку и наутек. Обыщите его, сеньоры, богом вас заклинаю!
Убедившись, что кошелек в самом деле срезан, солдаты взялись за ювелира, который от страха был едва жив и не знал, что сказать. Они вытащили у него из-за пазухи агнца в том самом кошельке, который я дал. Ювелир клялся и божился, что эту вещь я ему продал и что я сам, собственной рукой, отрезал кошелек и вручил ему, а он выложил за это сто двадцать золотых эскудо. Но ему не поверили: по всему казалось, что он не стал бы покупать этой вещи, считая ее краденой; к тому же, когда меня обыскали, денег не нашли.
Доказательство было неоспоримое, солдаты накинулись на ювелира с бранью и побоями, не слушая никаких оправданий. Беднягу еле отняли у них. Он пошел жаловаться в суд; я тоже явился туда и слово в слово повторил прежний свой рассказ. Свидетели присягнули в том, что они видели; дело приняло такой оборот, что ювелира присудили к наказанию. С него взыскали штраф и прогнали прочь, а мне приказали отнести агнца хозяину. Я пошел в гостиницу и на глазах у всех вручил капитану его вещь.
Подлость мы иногда извиняем, но подлеца никогда не прощаем. Бесчестный слуга, творя зло, может и угодить своему повелителю, но у того в душе непременно останется память о злодеянии и зародится недоверие к злодею. На первых порах это происшествие не очень огорчило капитана, однако заставило его призадуматься. Мои плутни шли ему на пользу, но он уже опасался их, да и меня самого. В таком настроении капитан приехал в Геную, и когда мы сошли на берег, он, не нуждаясь больше в моих услугах, решил дать мне отставку.
С дурными людьми поступают как с гадюками или скорпионами – добудут из них яд, а самих вышвырнут на свалку; их держат, лишь пока в них есть надобность, а затем бросают на произвол судьбы. Через несколько дней после приезда в Геную капитан сказал мне:








