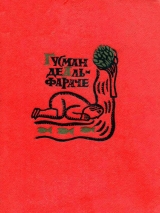
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА Iо том, как Гусман де Альфараче покинул Касалью и отправился в Мадрид, но по пути нанялся к трактирщику
Итак, в понедельник утром я очутился в Касалье, в двенадцати лигах от Севильи; кошелек мой истощился, а с ним заодно и терпение, остался я без всяких средств и – в ознаменование будущего – уже побывал в ворах. Худо мне пришлось в первый день, а во второй и того хуже: заботы меня одолели, от горя бежал, да в беду попал. Пока деньги были, была и еда, а с нею беда не беда. Хорошо, когда есть отец и мать, но первое дело – иметь что жрать.
Третий день чуть не стал моим последним днем, все сошлось одно к одному. Я походил на затравленного голодного пса – целая стая его окружила, а он знай лишь зубы скалит да на всех бросается, хотя никого не кусает. Так и на меня напали злыдни, обступили кольцом; а хуже всего, что не было ни денег, ни способа добыть пропитание. Тут-то я понял, как хорош грош и как мы им не дорожим, пока не надо его добывать, и цены ему не знаем, пока он в кошельке.
Нужда впервые показала мне свое гнусное обличье, и я сразу понял ее суть, – хотя все ее свойства открылись мне позже, – как она толкает нас на подлые дела, прельщает опасными мечтами, ввергает в позор, как подстрекает к безумствам и заставляет свершать невозможное. Я постиг, сколь мало надо человеку, и, однако ж, как ни щедра наша мать-природа, все недовольны: все мнят себя бедняками, все кричат о своей нужде. О безрассудный эпикуреец, чревоугодник и мот, ты хвалишься, что проедаешь доход в столько-то тысяч дукатов! Верю, столько ты имеешь, но разве способен ты все это проесть? А если и впрямь проедаешь, на что тогда жалуешься? Ведь ты такой же человек, как и я, а для меня гнилая чечевица, червивые бобы, жесткий горох и изгрызенный мышами сухарь – сытная еда. Может, тебе известно, как это так получается? Мне – нет.
Но терпишь ли ты нужду или, что вероятнее, прикидываешься, не моя то печаль, я о своей горюю. Недаром говорят, что нужда – великая наставница, хитроумная изобретательница – научила болтать даже дроздов, сорок, соек и попугаев[107]107
…соек и попугаев. – Имеются в виду стихи 8—11 из пролога к первой сатире римского поэта Персия (I в. н. э.).
[Закрыть].
Довелось и мне изведать, как враждебная фортуна вразумляет людей. Будто новый свет озарил меня, и я, как в зеркале, увидел свое прошлое, настоящее и будущее. До той поры был я птенцом желторотым, про каких говорят: «Вдовий сын к потачке приучен, уму-разуму не научен». С годами жизнь меня обстрогала, но первым ударом тесла была эта невзгода. Так солоно мне тогда пришлось, что и не рассказать. Я понял, что погибаю, тону в открытом море и не ведаю, как добраться до гавани, ибо, неразумный юнец, я пустился вплавь без опыта и знаний. Чуя погибель, я жаждал доброго совета, да не знал, к кому обратиться.
Принялся я приводить в порядок свои счета. Итог был неутешительный – расходов много, дохода никакого. Уходить из Касальи мне не хотелось, так как продолжать путь было не на что, а вернуться домой я тоже не мог. Мне было стыдно снова показаться на глаза матери, друзьям и родным. О господи, сколько довелось мне потом видеть бед из-за этого проклятого «мне было стыдно»! Сколько девиц потеряло себя, полагая, что стыдно не быть любезной со щеголем, если он дарит кулек сластей и сонет в придачу или заказывает серенаду, прельщая сердца песней, не им сочиненной и наемным певцом спетой! Сколько мошенников нашло себе поручителей, которые разорились, заплатив чужие долги, и пустили по миру родных детей! Сколько денег было дано взаймы из дружбы, а друг, глядишь, обанкрутился и не вернул долга – так что и заимодавцу нечего есть, и должнику мало проку, а попросить свои деньги обратно эти глупцы не решаются, им, видите ли, стыдно!
Так знай же, если еще не знаешь, что стыд подобен основе на ткацком станке: порвется одна нить, и вся ткань разлезется. Ежели случится тебе такое дело, от которого, кроме убытка и явного вреда, нечего ждать, распускай эту ткань, рви ее нити, и ручаюсь, ты не побранишь меня за совет. А огорчения, уготованные тебе, если бы ты уважил просьбу, пусть достанутся просителю, – ты же его не слушай и помни: лишь глупцы стыдятся людской молвы. Стыдись самого себя, бойся даже наедине совершить низкий и бесчестный поступок, а что до остального, какое тебе дело до цвета и покроя чужих мнений? Где надо, отпускай свой стыд на волю, не держи его на цепи, как собаку, у дверей своего недомыслия. Отвяжи его – пусть бегает, пусть резвится. Стыдись, как я уже сказал, одного – поступать бесстыдно, а то, что ты называешь стыдом, всего-навсего твоя глупость. Не будь мне тогда стыдно, не пришлось бы теперь изводить столько бумаги на этот том, а ведь к числу его страниц я мог бы добавить еще много нулей, Но надо спешить, чтобы поведать тебе хоть самое главное в моей жизни, ежели господь продлит ее для этого дела.
Вот я и говорю, что мне было обидно, уйдя в плаще, возвращаться без него, оставшись, как говорится, на бобах. Я покинул родной дом и полагал, что выкажу малодушие, если вернусь; это стало для меня вопросом чести. Смотри не вздумай и ты сказать: «Это для меня вопрос чести!» Ага, голубушка-честь, попалась мне в руки, теперь я сдеру чепец с твоей головы! Ужо потреплю твои космы, спуску не дам! Давно я на тебя зубы точу. Отомщу за все, наступлю тебе на глотку, сокрушу вконец.
О, если бы господу было угодно, чтобы я понял тогда же, а ты, тщеславный юнец, спесивый муж или безмозглый старик, хоть теперь уразумел, что такое честь, ради которой ты творишь безрассудства и покорствуешь бредням. Но еще не пришло время заняться гармонией к мелодии этих слов. А слово я свое сдержу, разоблачу эту ложную честь и раскрою тебе глаза. Дай срок, доберусь и до нее.
Итак, это стало для меня вопросом чести, и я сказал: «Поручаю себя господу, который хранит всех нас!» С тем я и пустился в дальнейший путь, решив направиться в Мадрид, где находился в ту пору королевский двор и собрался весь цвет страны: кавалеры Золотого руна[108]108
…кавалеры Золотого руна… – Орден Золотого руна – один из самых почетных орденов, которым награждали только представителей древних знатных родов. Был учрежден в 1429 г. Филиппом Добрым, герцогом Бургундским. Название ордена объясняется намерением герцога предпринять крестовый поход в край, куда плавали мифические аргонавты за «золотым руном» – в Колхиду.
[Закрыть], гранды, вельможи, прелаты, дворяне – короче, вся знать, а главное, молодой, недавно обвенчавшийся король[109]109
…недавно обвенчавшийся король. – По-видимому, речь идет о браке Филиппа II с Изабеллой Валуа в 1560 г.; королю тогда было тридцать два года.
[Закрыть]. Мне казалось, что мой ум и наружность сразу покорят всех и стоит только появиться, как господа эти из-за меня чуть ли не в драку полезут.
О, сколько мыслей приходит на ум, как вспомню о тогдашней своей глупости! Как далеко от мечты до дела! Быстро мы стряпаем, жарим и варим в мечтах, тут все дается легко, зато на деле трудно! Мечта рисуется мне в виде прелестного ребенка, который скачет по ровному полю верхом на палочке, с пестрой бумажной вертушкой в руке; а дело – в образе старца, седого, плешивого, немощного и хромого, который на костылях пытается вскарабкаться на неприступную стену.
Разве я преувеличиваю? Поверь, так оно и есть. Как славно все идет, когда ночью, в темноте, беседуешь со своей подушкой. Но лишь взойдет солнце – все исчезает, как легкий туман летом. Одному богу известно, как тщательно я обдумывал и рассчитывал все, забывая про сон. Увы, то были замки, построенные на песке, фантастические бредни. Наступало утро, и все рушилось. Замыслов было много, но ни один не удался; все выходило наоборот, не так, как думалось. Все оказалось суетой, ложью, призраком, подделкой и обманом воображения, все обратилось в золу и угли, точно бесовский клад.
Я немедля пустился в путь, подобрав палку, чтобы держать хоть что-нибудь в руках. Мне казалось, что с ней я словно в плаще; правда, красы и тепла было от нее немного, а все же, когда я опирался на нее рукой, ноги шагали веселей.
Проехали двое верхом на мулах, и я подумал, что, может быть, если к ним пристроюсь, они меня угостят. Но думкою дурни богатеют, а рыба в реке – не в руке. Слуг при этих людях не было, ехали они не спеша и, как я вскоре убедился, выказать великодушие тоже не спешили. Я пустился вслед за ними и лиги через три увидел, что они устраивают привал. Боясь не поспеть, я так бежал, что едва переводил дух, – для слабых моих силенок их медленная езда оказалась довольно быстрой. Но путники не сказали мне ни слова, видно, от скупости; бывают же такие, что и плевка им жалко, ежели другому он на пользу. Эти скареды упорно молчали, не желая подбодрить меня. Хоть бы истории рассказывали, как тот каноник, – тогда я меньше бы чувствовал усталость, ибо разумная беседа в любых обстоятельствах питает душу, веселит сердце, поднимает дух, отвлекает от горестей, облегчает путь, утешает в скорби, продлевает жизнь – с нею пешеходу кажется, будто он едет верхом.
До постоялого двора мы добрались одновременно. Вид у меня, верно, был такой, что краше в гроб кладут. Но ради куска хлеба и бегом побежишь, и о гордости забудешь. Я из кожи лез: кланялся им, угождал, порывался завести мулов в конюшню и внести вещи в дом.
Но они сторонились меня, как зачумленного. Когда я заикнулся, что готов услужить им, один из этих сквалыг бросил:
– Убирайтесь прочь, сеньор щеголь, нечего путаться под ногами!
«О негодяи, богом проклятые, – сказал я себе. – Вишь, как обласкали!» Можно ли после этого ожидать, что они покормят меня? А если свалишься в пути, разве такие посадят тебя на мула?
Они расположились закусить. Я отошел в сторону и примостился против них на скамье, все еще надеясь, что и мне перепадет кусочек. Не тут-то было! Пока они ели, во двор зашел монах-францисканец, весь в поту от долгого пути. Присев отдохнуть, он вытащил из дорожного мешка небольшой хлебец и кусок сала.
От голода я совсем ослаб – хоть ложись да помирай; но стыд, а может, трусость, мешали мне просить вслух, и я молча, одними глазами умолял дать мне Христа ради хоть крошечку. Добрый монах внял моей мольбе и, словно речь шла о его жизни, с жаром воскликнул:
– Жив господь! Пусть останусь я без куска хлеба и нищ, как ты, но я накормлю тебя. Бери, сын мой!
О, неизреченная благость господня, вечная мудрость, божественное провидение, беспредельное милосердие! В недрах дикого утеса питаешь ты червя, и небесная щедрость твоя никого не оставляет в беде. Богатые, сытые по скупости не помогли мне, а помог нищий, убогий монашек.
Кто сам нужды не знает, тот чужой не замечает. Эти люди не пожалели меня, хотя видели, как я голоден, как молод и как, поспешая за ними, умаялся. А добрый монах разделил со мной трапезу и насытил меня. Кабы мой благодетель направлялся туда же, куда и я, он повел бы меня по пути истинному, но его путь лежал в Севилью.
Собираясь уходить, монах протянул мне оставшуюся половину хлебца и сказал:
– Ступай с богом! Будь у меня еще что-нибудь, я бы все тебе отдал.
Засунув хлеб за подкладку кафтана, я поплелся дальше. Ночь застала меня в трех лигах оттуда, у придорожного трактира. Там я поужинал этим хлебом всухомятку – некому уже было меня угощать. Вскоре к трактиру подошли и погонщики, здесь они обычно останавливались на ночлег. Хозяин велел мне идти спать на сеновал. Я повиновался и, еле живой от усталости, тотчас заснул.
Думаю, мне и без клятв поверят, что после такого легкого ужина я встал поутру с отнюдь не обремененным желудком. А когда захотел уйти, хозяин потребовал с меня один куарто за ночлег. Но денег у меня не было, заплатить я не мог. Подлый трактирщик вздумал стащить с меня кафтан добротного сукна. От такой напасти я света невзвидел и чуть не залился слезами. Один из бывших при этом погонщиков сжалился надо мной – знать, не все они богохульники и изверги – и сказал:
– Эй, хозяин, не трогай мальчишку, я заплачу.
Его товарищи спросили меня:
– Откуда ты, паренек, и куда идешь?
Мой заступник ответил им:
– Что вы его спрашиваете, дурни, разве и так не видно? Дело худо – либо от хозяина сбежал, либо из родительского дома.
Тогда трактирщик сказал мне:
– Послушай, малыш, не хочешь ли наняться ко мне на службу?
Предложение это показалось мне в такую минуту заманчивым, хоть я и понимал, что мне, сызмала привыкшему приказывать, нелегко будет повиноваться, да еще трактирщику. Я сказал, что согласен.
– Стало быть, договорились? Работы будет немного – выдавать солому и ячмень да помнить, что выдаешь, и не просчитаться.
– Ладно, – ответил я.
Так я остался у трактирщика на некоторое время. Ел много, работал мало, вроде как для забавы: до вечера, пока не являлись погонщики, с остальными проезжими хлопот почти не было.
Там научился я запаривать ячмень кипятком, чтобы зерно разбухло на треть, насыпать неполную меру, подбирать остатки в кормушках, подскабливать лошадям и мулам стрелки в копытах, чтобы образовались ссадины; если же кто поручал мне задать корм его скотине, я непременно взимал треть в свою пользу. Часто заезжали к нам усатые щеголи в подвязках, хоть без слуг, зато с гонором, как настоящие кабальеро. С ними было одно раздолье; проворно выбежав навстречу и схватив коня под уздцы, мы вели его в стойло, где выдавали половину пайка, да и то неполную, в виде задатка, а на другую половину вручали вексель для предъявления в других трактирах, но, разумеется, счет оплачивался полностью. Цену же мы назначали по своему усмотрению, не заглядывая в указы и тарифы; их ведь никто не соблюдает, и вывешиваются они лишь для того, чтобы трактирщики каждый месяц платили за них налог алькальду и писцу, а при проверке, если таковой грамотки не окажется, был предлог для штрафа.
Что до платы за лошадей и мулов, то здесь наперед известно, сколько они съедают и что стоят солома, ячмень и стойло. Зато при расчете за стол начиналась потеха. Мигом подлетали мы к посетителю и единым духом выпаливали: «Столько-то реалов и столь-то мараведи, на доброе здоровье вашей милости». И всегда скажешь на реал больше и ни бланкой меньше. Кто поумней, платил сразу, а иные новички или задиры начинали ерепениться – за что, мол, столько платить, – но лишь себе во вред: с таких мы брали втридорога, приписывали к счету каждый пустяк, не только олью, но и ее приготовление, и, взимая пеню за просрочку, оставляли их без гроша. Слово трактирщика – окончательный приговор, защиты искать не у кого, кроме как у своего кошелька. Угрозы тут бесполезны, ибо большинство трактирщиков – члены Эрмандады, и ежели на кого обозлятся, потихоньку проследуют за ним до селения, а там докажут, что этот человек собирался поджечь трактир, избил хозяина дубинкой, обесчестил хозяйскую жену или дочь, и тем выместят злобу.
Для посетителей победней были у нас в запасе лакомства вроде тех, какими угостили меня, а потому всякий, кто приходил к нам пеший, уходил конный.
А если что забудешь или плохо положишь – пиши пропало! Сколько краж, вымогательств, бесчинств, преступлений творится в трактирах и на постоялых дворах!. Не боятся здесь ни бога, ни его служителей, ни судей. На плутов-трактирщиков нет управы, судьи всегда на их стороне и, возможно, подкуплены, хотя в это трудно поверить. Как бы то ни было, тут необходимо навести порядок, ибо нарушаются законы, а дороговизна передвижения мешает торговле. Люди боятся иметь дело с содержателями трактиров и постоялых дворов, где грабят средь бела дня, взимая непомерную плату за ничтожные услуги. Столько наглых проделок я здесь видел, что ввек не перескажешь. Доведись нам услышать о подобных беззакониях в чужих краях, мы называли бы тамошних жителей дикарями, а когда это творится у нас на глазах, нам и горя мало. Посему улучшение дорог, мостов и трактиров, дабы оживить торговлю и передвижение, требует не меньше заботы, чем важнейшие государственные дела. Правда, мне-то, когда отсюда выберусь, уж недолго придется бродить по свету.
ГЛАВА IIо том, как Гусман де Альфараче ушел от трактирщика и направился в Мадрид, куда прибыл заправским пикаро
Жилось у трактирщика привольно, но по моим большим замыслам мне все было мало. К тому же дорога была людная, а я сгорел бы со стыда, ежели бы кто из знакомых увидел меня здесь, да еще в такой должности. Мимо нас проходили мальчишки-бродяги примерно моих лет и роста – у одних водились деньжата, другие просили милостыню. Я сказал себе: «Что же я, черт возьми, хуже и трусливей всех? И я не робкого десятка, авось не пропаду». Готовый стойко и бодро снести любые невзгоды, я распрощался с трактирщиком и пошел дальше, наведываясь к его собратьям по мадридской дороге. Теперь в моем кошельке уже бренчали медные монеты, добытые честным трудом и разными плутнями.
Денег было не много, они быстро растаяли. Тогда я стал побираться. Порой мне совали полкуарто, а чаще говорили: «Бог подаст, сынок». Как выклянчу два-три полкуарто, наемся «за здравие» добрых людей, а вот с «бог подаст» приходилось туго – хоть пропадай. Подавали скудно: год выдался неурожайный по всей стране: и если в Андалусии было плохо, то в Толедском королевстве[110]110
…в Толедском королевстве… – Толедская область, как и другие области Испании, долго сохраняла в обиходе название «королевства», оставшееся от времен мавританского владычества, когда эти области были самостоятельными королевствами.
[Закрыть] и того хуже; чем дальше от моря, тем сильнее голод. Тогда-то и услышал я поговорку: «Храни тебя бог от болезни, что спускается из Кастилии, и от голода, что подымается из Андалусии».
Попрошайничество приносило так мало доходу, а давалось мне так трудно, что я совсем приуныл. Начал я продавать с себя одежонку, решив не просить подаяния, хоть и был в крайности. Одну за другой спускал я свои вещи то за деньги, то в обмен на еду, то в заклад. И в Мадрид пришел, как настоящий галерник, в одних штанах и сорочке, старых, грязных и рваных, – все лучшее я проел. Тщетно обращался я ко многим с учтивыми просьбами и предлагал свои услуги; взглянув на мои лохмотья, никто не верил моим словам и не ждал от меня хороших дел; люди не решались впустить в дом и взять в слуги такого грязного оборванца. Меня принимали за воришку-пикаро, у которого лишь одно на уме – обобрать хозяев и дать тягу.
Чтобы не умереть с голоду, я и впрямь заделался пикаро. Прежде мне было стыдно даже домой вернуться, но, побродив по белу свету, я на дорогах растерял свой стыд; видно, слишком тяжел этот груз для пешехода, а может, он исчез вместе с моим плащом и капюшоном. Вот это, пожалуй, вернее, ибо с той самой поры появились у меня первые приступы ломоты и озноба – предвестники грядущего недуга. К черту былой стыд, не знать бы его никогда! Я сразу повеселел и уже без стеснения позволял себе то, что прежде почитал зазорным; голод и стыд в ладу не живут. Как глупый юнец, я рассудил, что в прошлых бедах повинна моя трусость, а трусом быть – добра не нажить; и я стряхнул с себя стыд, словно то была гадюка, укусившая меня за палец.
Я прибился к стае соколят мне под стать, на лету хватавших добычу. Стараясь сравняться с ними, но не зная, с чего начать, я покамест помогал им в работе, шел по их стопам, перенимал их ухватки и тем добывал свои гроши. Так мало-помалу я обследовал берега и прощупывал дно. Отведал я и монастырского супа[111]111
…отведал я и монастырского супа. – В католических монастырях того времени производилась в порядке благотворительности бесплатная раздача супа нищим.
[Закрыть]; это было дело верное, да уж слишком точно приходилось заводить часы – чуть опоздал, уходи не солоно хлебавши. Зато я научился быть учтивым гостем: терпеливо дожидаться и не заставлять хозяев ждать себя.
Однако вечная забота о еде и праздность удручали меня. В то время я уже овладел игрой в табу, пальмо и ойуэло[112]112
…в табу, пальмо и ойуэло… – Таба – детская игра типа бабок. Пальмо («ладонь») – игра, состоящая в том, что бросают об стену монеты, причем выигрывает тот, чья монета упадет на расстоянии ладони или ближе к монетам других игроков. Ойуэло – детская игра шариками, которые закатывают в ямку («ойуэло»).
[Закрыть], а затем от начального курса перешел к среднему и постиг игру в пятнадцать, в тридцать одно, кинолу и примеру. Усвоив и эти науки, я приступил к высшему курсу и вскоре наловчился класть противника на обе лопатки клычком и накладкой[113]113
…клычком и накладкой. – Клычок – скользкий крап, наполированный куском кости. Накладка – тайком подложенные в игру карты.
[Закрыть]. Свое привольное житье я не променял бы на достаток моих предков и быстро входил во вкус столичной жизни. С каждым часом оттачивался мой разум и росла сноровка; я видел, как другие парнишки, моложе меня, начинают с грошей и наживают состояния, едят вволю, не попрошайничая и не дожидаясь подачек, а чужой хлеб рот дерет, в горло нейдет, хоть и подаст его родной отец. Чтобы наслаждаться этим раздольем и не бояться наказания за бродяжничество, я приспособился носить посильную для моих плеч поклажу.
Братство ослов весьма многочисленно, ибо туда допущены и люди; ослы по простоте своей стараются для них и, облегчая труд хозяину, покорно перетаскивают на себе нечистоты. Но есть среди людей столь низкие души, что отбирают у осла его корзину и нагружают ее на себя, лишь бы на асумбру[114]114
Асумбра – старинная испанская мера жидкости, около двух литров.
[Закрыть] вина заработать. Вот какова власть спиртного.
Но не будем отклоняться в сторону. Признаюсь, на первых порах работал я вяло, неохотно, а главное, трусил – дело было новое, давалось мне туго, и привыкал я к нему с трудом, ибо первые шаги всегда тяжелы. Но, вкусив сладкого житья пикаро, я без оглядки пустился по этой дорожке. Славное это ремесло, да какое прибыльное! Не надо тебе ни наперстка, ни катушки, ни иглы, ни клещей, ни молотка, ни сверла – ничего, кроме лукошка, как у братьев из монастыря Антона Мартина[115]115
…из монастыря Антона Мартина… – Монахи ордена Иоанна Божьего (см. комментарий к стр. 102), обитавшие в этом монастыре, ходили собирать подаяние с лукошками, отчего и получили прозвание «лукошники».
[Закрыть], и хоть далеко тебе до их святости и благочестия, будешь и при деле, и при деньгах. Сытная еда без тяжкого труда, приятное занятие, и никаких тебе забот и хлопот.
Часто думал я о превратности своей короткой жизни, о неразумии моих родителей, которые заботились о чести, платя за нее дорогой ценой. «О, как тяжко бремя чести! – говорил я себе. – Какой металл сравнится с нею весом? Сколько обязанностей гнетет несчастного, вынужденного ее блюсти! Как осмотрительно и осторожно он должен ступать! Сколько опасностей и угроз! Как высоко натянут и как непрочен канат, по которому он ходит! Сколько бурь ждет его в плаванье! В какую пучину ввергает себя, в какие тернистые дебри углубляется тот, кто полагает, будто его могут обесчестить язык грубияна и рука наглеца, ибо нет силы, нет власти человеческой, что смогла бы помешать их мерзким словам и делам».
Не иначе как сам сатана по злобе своей наслал на человека это безумие! Словно мы не знаем, что честь – дочь добродетели, что лишь добродетельный достоин почтения и никто не отнимет у меня чести, покуда не отнимет ее источника – добродетели. Только моя жена – так принято думать в Испании – может обесчестить меня, запятнав свою честь, ибо муж и жена – одно целое, одна плоть, и честь у них общая; а все прочее – бредни, вздор и химеры.
Блажен тот, кто обо всем этом знать не знает, ведать не ведает. Когда бы у человека, который ставит честь превыше всего, открылись глаза и он рассудил беспристрастно, сколько от нее вреда, то, думаю, он поспешил бы сбросить это бремя и ради чести пальцем бы не пошевелил. Как трудно ее приобрести и как хлопотно сохранить! Как опасно ею обладать и как легко утратить в глазах людских! А ежели тебе суждено жить среди черни, то для человека, желающего пройти свой путь спокойно, фортуна не может измыслить горшей муки в жизни сей. Но хотя все видят, что это так, мы готовы душу положить за честь, словно в ней спасение души нашей.
Честь свою ты видишь не в том, чтобы одеть нагого, накормить голодного, честно исполнить порученную тебе службу, а также многие другие дела, о коих умолчу; грехи свои ты сам знаешь, да не признаешься, надеясь, что авось сойдет и люди не догадаются, хотя всем они известны; я же не стану о них писать и указывать на тебя пальцем. А потому честь твоя – дым и даже того менее.
Нет, ты полагай свою честь в том, чтобы снабдить больницы и богадельни добром, которое гниет в твоих погребах и кладовых, ибо у тебя и мулы спят на простынях и под одеялами, а там сын человеческий дрожит от холода. У тебя лошади лопаются от сытости, а у твоего порога бедняки умирают с голоду. Вот честь, которой следует желать и искать, а то, что ты зовешь честью, вернее было бы именовать гордыней и чванством; они в сухотку и в чахотку вгоняют тех, кто, как голодные псы, гоняется за честью, – схватят ее и тут же потеряют, а вместе с нею и душу, что более всего прискорбно и слез достойно.










