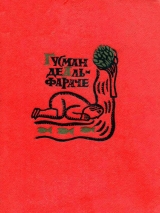
Текст книги "Гусман де Альфараче. Часть первая"
Автор книги: Матео Алеман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Будь жив один из двух моих отцов или даже оба, и те в лучшие свои времена не сделали бы для меня так много, не выказали бы столько любви и терпения, как монсеньер. Тот сносил мои бесчисленные и часто злые проказы, в которых я ничем не стеснялся, как если бы жил не в доме моего господина, а в своем собственном. Я держался с ним так неуважительно, будто он был мне ровня, но эта святая душа все мне прощала. Родной отец возненавидел бы меня и покинул бы на произвол судьбы за мои проделки. А монсеньер не возмущался, не гневался.
О, кротость небесная, наследие отца предвечного, велящего творить добро таким, как я! День, неделю, месяц, год, долгие годы он, беспредельно милосердный, терпеливо ждет, дабы не было у нас оправдания и мы, устыдившись, сами вынесли себе приговор по делам нашим.
Во всем я повиновался своим прихотям, к увещаниям был глух как пень. Потворствуя плоти, ко многим порокам склонной, я шел к погибели. Предавался я им неустанно, искал их неусыпно, упорствовал в них неизменно и сдружился с ними неразлучно. И стали они мне столь же сродны, сколь чужда добродетель. Но не могу я в этом винить природу, ибо она равно наделила меня наклонностью ко злу и стремлением к добру. Нет, вина тут моя, природа же всегда разумна: она учит истине и стыду, дает все необходимое. Но грехи портят нашу природу; погрязнув в них, я принял следствие за причину и сам себя загубил.
ГЛАВА Xо том, как Гусман де Альфараче, выгнанный кардиналом, поступил на службу к французскому послу, и о некоторых его проделках у нового хозяина. Он рассказывает историю, слышанную от одного неаполитанского дворянина, и на том кончает первую часть своего жизнеописания
Роптать на то, что монсеньер прогнал меня, я не вправе: как я уже упомянул, немало усилий он приложил, чтобы меня вернуть; но молодая кровь бурлила во мне, и блага своего я не понимал – вернее, благо почитал злом, а зло благом.
Беспечно шатался я по улицам Рима; мои дружки, с которыми я спознался в лучшие дни, такие же слуги, как я, угощали меня бесплатно, но я за это дорого заплатил: трапеза в дурном обществе, питая тело, губит дурными соками душу. Лакомые кусочки насыщали меня, а пагубные советы и примеры развращали, и осталось от всего этого одно раскаяние, ибо погибель свою уразумел я слишком поздно, когда вода к горлу подошла.
Пороки подбираются к нам исподволь, тихой сапой, и объявляются, когда ты уже человек пропащий. Заполучить их легко, отвязаться от них трудно. И дружки-приятели тут как мехи: они раздувают слабый огонек, и из искры занимается пожар.
Я мог получать пропитание, как и прежде; дворецкий кардинала предложил мне ежедневно приходить или посылать за едой; но из упрямства я отказался, предпочитая жить впроголодь среди дурных людей, нежели быть сытым по милости людей добрых. Вскоре те, кто подбивал меня отказаться от харчей и на кого я надеялся, отвернулись от меня. Им надоело кормить бездельника, и они не только перестали меня потчевать, но еще и возненавидели. Не так-то просто быть гостем. У хозяев на языке мед, а под языком лед. Они щедры на слова и скупы на дела, радушно приглашают и с неохотой угощают.
Хорош гость званый, богатый да такой, что не засиживается; заходить он должен, пореже, уходить пораньше и, главное, не являться к столу, а не то надокучит. Пусть встречают тебя любезно, не верь словам. Я так понимаю: у родственника гости неделю, у любящего брата – месяц, у лучшего друга – год, а у дурного отца – хоть всю жизнь.
Лишь отцу родному никогда не надоешь, а всем прочим скоро станешь в тягость; чем дольше загостишься, тем больше опротивеешь, и до того тебя невзлюбят, что готовы будут отравы подсыпать. А если, к примеру, пригласит тебя человек, у которого всем домом заправляет скаредная, сварливая жена, если у твоего приятеля есть мать или сестра, словом, женщина в семье, – а они почти все прижимисты, – то-то начнутся слезы да вопли, все на свете проклянут и самих себя не помилуют! Помни, что дома и солома съедома, а в гостях и павлинья грудка что подошва.
Я быстро наскучил своим приятелям, и они, не дожидаясь, пока мне станет стыдно, сами отвадили нахлебника – кормили все хуже, неохотней, а там и вовсе сняли с довольствия.
Пришлось тогда искать тенистое дерево, чтобы под его сенью укрыться и его плодами прокормиться. Нужда так прижала меня, что я, подобно блудному сыну, согласился бы вернуться в дом монсеньера хоть поденщиком. С голоду я еле ноги волочил. Смирившись и твердо положив исправиться, я готов был пойти с повинной, да поздно спохватился. Кто не хочет, когда может, уже не сможет, когда захочет; злая воля губит благие возможности.
Прошло всего два месяца – и от прежних милостей фортуны не осталось и следа. Я так и не вернулся к монсеньеру, у которого на самый худой конец имел бы, как последний из его слуг, пожизненное пропитание и мог бы надеяться на его милости. Но раз вышло иначе, хвала господу. Не могу сказать, что виною моих бед враждебная звезда; нет, я сам, бесстыжий, накликал их на свою голову. Звезды на нас влияют, но не понуждают.
Глупцы, пожалуй, скажут: «Ах, сеньор, видно, так оно должно было статься, а чему надлежит быть, тому и подобает быть». О брат мой, сколь превратно понимаешь ты истину – ей самой вовсе не надлежит и не подобает быть; это ты творишь ее такой, как ей подобает быть. Тебе дана свободная воля, дабы ты управлял собой. Никакая звезда, ниже весь небосвод со всеми звездами его не властны тебя понудить; сам ты понуждаешь себя отвращаться от блага и обращаться ко злу, повинуясь пагубным страстям и обрекая себя на горести.
Я поступил в услужение к французскому послу, который был с монсеньером, царство ему небесное, в большой дружбе и частенько потешался над моими проказами. Посол и раньше с охотою переманил бы меня, но не желал огорчить друга. Новый мой хозяин обходился со мной тоже хорошо, однако цель у него была иная: монсеньер делал все для моей пользы, а посол помышлял лишь о собственном удовольствии, которое я и доставлял ему, отпуская остроты, рассказывая истории и разнося цидулки его любезным.
Мне не назначили ни места, ни обязанностей, да и жалованья не определили. Иногда деньги давал мне хозяин, иногда я их сам брал при нем с шутками да прибаутками. Яснее сказать, я был у него вроде потешника, а люди называли меня бесстыжим фигляром.
Когда бывали у нас гости, а бывали они почти всегда, мы с большим усердием прислуживали тем, кто держался учтиво, и ловили на лету их желания. Зато глупцам, надоедам, нахалам, которые являлись незваные, мы чинили всевозможные каверзы. Одним вовсе не давали пить, словно то были дыни, которые растут и без поливки; другим подносили вина на самом донышке, в кувшинчиках с узким горлышком; кому подольем побольше воды, а кого угостим теплым вином. Если кушанье им нравилось, мы незаметно убирали его со стола, а затем снова ставили, круто посолив, наперчив и полив уксусом. Чего только мы не придумывали, чтобы напакостить этим нахлебникам и отвадить от дома!
Помню, некий англичанин, назвавшись родственником посла, зачастил в наш дом к превеликой досаде хозяина, ибо гость этот вовсе не приходился ему родней и к тому же был человеком безвестным, худородным, а главное – весьма развязным, докучным собеседником. Иные люди одним своим видом вселяют отвращение, другие пленяют с первого взгляда; ненависть эта и любовь равно возникают помимо их воли и желания. Этого англичанина ничем нельзя было пронять: он был туп как бревно.
Однажды вечером в начале ужина он понес такую ахинею, что посол, потеряв терпение и разгневавшись, сказал мне по-испански, дабы англичанин не понял:
– Этот дурень надоел мне ужасно.
Я-то не был ни глух, ни глуп и мигом взялся за дело. Стал я подносить гостю острые блюда, от которых во рту жгло. Вино было сладкое, бокал большой; гость усердно прикладывался. Глоток за глотком, напился он до чертиков. Видя, что англичанин уже вдрызг пьян, я снял с себя подвязку и накинул ему на щиколотку петлю, а другой конец замотал за ножку кресла. Начали убирать со стола, гость собрался восвояси, но едва он поднялся, как тут же грохнулся на пол и расшиб в кровь зубы и нос. Придя в себя на следующий день, он, видно, смекнул, что за штуку ему подстроили, и со стыда больше к нам ни ногой.
С ним мне повезло – все шло как по-писаному: но не всякая проделка удается. Бывает и так, что рыбка клюнет, сорвет наживку с крючка и оставит рыбака в дураках. Так случилось у меня с одним испанским солдатом, продувным малым. Эдакий пройдоха, разрази его гром! Ты только послушай, что у нас с ним вышло.
Явился он к нам в полдень к самому обеду и, подойдя прямо к хозяину, сказал, что он родом из Кордовы, весьма знатной семьи, но впал в нужду и просит оказать ему милость и поддержку. Посол вынул кошелек, где было несколько эскудо, и, не открывая его, протянул солдату, думая, что этого достаточно. Не тут-то было. Гость взял кошелек, но не ушел, а снова завел речь о своем знатном роде и о всяких своих приключениях. Хозяин сел за стол, гость, подвинув себе стул, расположился рядом. Я отправился за кушаньями. Вижу, идут по коридору в столовую двое таких же соколиков. Заметив испанца за столом, один из них сказал другому:
– Черт побери! Вечно он путается у нас под ногами! Куда ни пойдешь, этот мошенник везде нас опередит.
Слыша такие речи, я подошел поближе и спросил:
– Ваши милости знакомы с этим кабальеро?
Один мне ответил:
– Еще бы не знать этого ярыжку! У нас, в Кордове, его отец за честь почитал шить мне сапоги, и там же, под потолком собора, висит позорный колпак этого сапожника[205]205
…позорный колпак того сапожника. – Позорные колпаки лиц, подвергшихся публичному наказанию, вывешивались в церквах с указанием имени преступника.
[Закрыть].
– В том и беда наша, что на два десятка подлинных кабальеро, приехавших в Италию, приходится сотня вот эдаких проходимцев, которые лезут в дворяне и похваляются предками-готами. Никто о них не слыхал, и потому они надеются сойти за людей благородных и храбрых, закрутив повыше усы и взъерошив перья, как бойцовые петухи; а в деле они – мокрые курицы, ибо не перья и не усы приносят победу над врагом, но отважное сердце. Уйдем отсюда, но этого щенка я проучу, чтобы не совался в наши владения и промышлял в другом месте!
Они ушли, а я задумался над тем, что за птицы эти двое и почему они так честят земляка. Меня возмутило их чванство и злобные речи о человеке, который, никому не вредя и не мешая, выдает себя за дворянина; но и на гостя я рассердился за его дерзость – получил кошелек и убирайся, так нет, еще вздумал за стол садиться, когда не просят!
Захотелось мне подшутить над ним, да не удалось; за шерстью пошел, а сам остриженный пришел. Гость попросил вина; я притворился, будто не слышу. Он показал мне знаками, что хочет пить; я подошел. Он в третий раз попросил; я отвернулся в сторону, с трудом сдерживая смех. Догадавшись, что я либо дурак, либо плут, он обратился уже не ко мне, а к послу.
– Да не сочтет ваша милость меня невежей, – сказал он, – за то, что я без приглашения сел за стол, ибо я имею на то немало оснований. Во-первых, мое благородное происхождение и доблесть дают мне право на учтивый прием и почет. Во-вторых, я, как солдат, достоин сидеть за столом любого государя, ибо заслужил это своими делами и ремеслом. Наконец, ко всему вышесказанному добавлю, что я в крайней нужде, а перед нею все равны. Стол у вашей милости накрывается для людей достойных, а стало быть, доблестным воинам, каков я есть, не надобно ждать приглашений. Почтительно прошу вашу милость распорядиться, чтобы мне дали вина, ибо меня, испанца, здесь не поняли, когда я попросил пить.
Хозяин велел поднести ему вина, пришлось повиноваться, но в душе я поклялся, что наглец мне за это заплатит. Вино я подал в очень маленьком и узком бокале, да хорошенько разбавил водой, так что гость нисколько не утолил жажды. Но испанцы привыкли довольствоваться малым и терпеть лишения – солдат обошелся тем, что поднесли, и продолжал есть. Мы, пажи, сговорились не смотреть ему в лицо, чтобы он снова не попросил у нас вина знаками и не заставил слушаться. Но гость был парень не промах. Когда он насытился кушаньями и на стол подали десерт, он сказал:
– С позволенья вашей милости, теперь я выпью.
Встав из-за стола он подошел к поставцу, взял большой бокал, налил туда вина и воды по своему вкусу. Затем, утолив жажду, снял шляпу, низко поклонился и вышел из столовой, не сказав более ни слова.
Мои каверзы посмешили хозяина, но находчивость гостя привела его в восхищение, и он сказал мне:
– А ведь этот солдат, Гусманильо, похож на тебя и на твою Испанию, которая все берет силой и дерзостью.
За десертом мы еще толковали о бесчинствах испанцев, как вдруг в комнату вошел один дворянин из Неаполя со словами:
– Спешу поведать вашей милости о происшествии, случившемся в Риме сегодня, – самом ужасном и удивительном из всех, о коих мы слышали в наше время.
Посол попросил рассказать. Желая тоже послушать, я перестал есть и подал неаполитанцу стул; тот уселся и начал свой рассказ.
– Проживал здесь, в Риме, кабальеро примерно двадцати одного года, из знатной, хотя и небогатой семьи, юноша приятной наружности, отважный, пылкий и обладающий многими другими достоинствами. Он влюбился в одну девицу, также римлянку, на редкость красивую и скромную особу лет семнадцати; они были равны по знатности и по любви, пылавшей в их сердцах. Его звали Доридо, ее – Клориния.
Родители девицы держали дочь в большой строгости и, охраняя ее честь, не разрешали видаться или беседовать с чужими, запрещали ей даже смотреть в окно, разве что изредка и украдкой, ибо удивительная красота их дочери пленила сердца всех благородных юношей Рима. Родители и единственный брат Клоринии ревниво оберегали ее, а потому влюбленным не удавалось видаться так свободно, как им хотелось бы. Но всякий раз, когда Доридо проходил мимо дома Клоринии, она как истинно влюбленная находила способ показаться своему милому. Помогала ей в этом подруга, проживавшая в доме напротив, которой, как женщине замужней, разрешалось сидеть у окна. Зная от Клоринии о ее любви, подруга подавала условный знак, когда на их улице появлялся Доридо; тогда Клориния выглядывала в окошко и смотрела на своего возлюбленного, утешаясь хоть такой малостью.
Так продолжалось некоторое время. Обоим влюбленным приходилось довольствоваться мимолетными взглядами. Но нетерпеливый Доридо, желая удостоиться бо́льших милостей, стал искать иного способа наслаждаться лицезрением нежной Клоринии, раз ни на что иное не мог надеяться. Для этого он подружился с ее братом по имени Валерио и сумел так сильно привязать к себе юношу, что тот души в нем не чаял и как гостеприимный хозяин часто приводил в дом, где молодой кабальеро мог беспрепятственно любоваться красотой своей избранницы. От взглядов пламя разгоралось еще жарче; глаза влюбленных все красноречивей говорили об их страсти.
Клориния, как существо менее сильное и, возможно, более любящее, открылась своей служанке Шинтиле, и та, желая угодить госпоже, отправилась к Доридо. «Напрасно стали бы вы, Доридо, – сказала она ему, – таиться от меня: я знаю о любви, овладевшей вами к моей сеньорой. А в подтверждение моих слов скажу, что она сама призналась мне во всем и попросила моей помощи, поручив сообщить вам, как любит вас и тоскует. Клориния велела передать вам эту зеленую ленту цвета надежды, дабы вы повязали ее на руку. Полагаю, вы не усомнитесь, что эта лента от Клориния, – вы часто видели ее в волосах у моей госпожи. Итак, отныне вы можете смело довериться мне, ибо единственное мое желание – угодить вам обоим».
Услышав такие слова, юноша был встревожен и раздосадован; он не очень доверял этой служанке и не хотел посвящать ее в свои сердечные дела, опасаясь разглашения тайны. Но так велела Клориния, и надо было повиноваться. Постаравшись скрыть неудовольствие, он учтиво поблагодарил служанку за ее доброе расположение и труды.
Прошло несколько дней. Доридо не терпелось побеседовать наедине со своей дамой, хотя это казалось ему недостижимым. Но всесильная любовь, для которой нет ничего невозможного, указала юноше выход и подсказала способ осуществить его мечту. К одной из стен дома, где жила Клориния, примыкала со стороны улицы полуразрушенная древняя стена, и в этой стене, против окна Клоринии, было отверстие, заложенное камнем, который легко вынимался.
Девушка нередко глядела через это отверстие, словно в потайное окошко, на прохожих, оставаясь для них невидимой. Доридо также знал о нем, ибо не раз видел там даму своего сердца. Юноша решил, что лучшего способа поговорить с возлюбленной ему не найти. Он призвал Шинтилу и, прося ее помощи, сказал: «Раз судьба послала в вашем лице пособницу моей любви, я не колеблясь отдаю себя в ваши руки и верю, что преданность побудит вас сделать все возможное, дабы услужить госпоже и доставить счастье мне, ее возлюбленному. Знайте же, что с тех пор, как я отдал сердце Клоринии, владычице моих помыслов и самой жизни, единственной наградой мне были несколько благосклонных взоров, в коих она выразила свои чувства. До сих пор случай не благоприятствовал нам, но чем больше преград, тем жарче разгорается страсть; запреты лишь подстегивают наши желания. Нынче у меня появилась мысль, как при вашем содействии осуществить один невинный замысел.
Вы знаете об отверстии в стене против окна Клоринии. Оно станет местом, а вы – орудием моего блаженства. Передайте Клоринии, что я заклинаю ее внять моей мольбе, а если она из робости будет отказываться, постарайтесь все же убедить ее, чтобы нынешней ночью, когда на землю спустится мрак и в доме все уснут, она согласилась поговорить со мной через это отверстие; большего я не прошу и не желаю».
Шинтила сочла это делом нетрудным и вполне безопасным. Она обнадежила Доридо, пообещав ему свою помощь. Слово она сдержала и вскоре сообщила юноше, в котором часу он должен явиться и какой знак ему подадут из окна.
Настала ночь. Не желая быть узнанным, Доридо переоделся и, придя на условное место, стал ждать. Когда все в доме затихло, Шинтила открыла окно, как бы для того, чтобы выплеснуть воду. Доридо уже взобрался на разрушенную стену и, узнав Шинтилу, сказал: «Я здесь». Служанка велела ему подождать еще, закрыла окно и ушла.
Сердце юноши прыгало в груди так сильно, словно хотело выскочить на волю; сгорая от пылких желаний, страшась помех своему блаженству, он в тревоге думал над тем, что скажет возлюбленной. Поглощенный этими мыслями, Доридо, однако, не сводил глаз с отверстия, полуприкрытого камнем. Он видел, как Клориния беседовала с родителями, потом с Шинтилой, как перешла в другую комнату, и, наконец, когда родители удалились на покой, как направилась она к условному месту и, застыдясь, чуть не убежала прочь, но, уступив настояниям Шинтилы, подошла к отверстию.
Когда влюбленные очутились рядом, Доридо в смятении забыл все, что намеревался сказать, и как бы потерял дар речи; Клориния тоже дрожала от волнения; долго ни один из них не решался ободрить другого хотя бы словом. Но мало-помалу лед, сковавший их язык, растаял, и влюбленные произнесли несколько приветственных фраз.
Доридо попросил Клоринию дать ему руку, она с радостью исполнила просьбу. Он всего только и мог, что осыпать эту ручку поцелуями и прижать ее к своему лицу, не отрывая от нее уст. Затем, протянув свою руку, он дотронулся до лица Клоринии – узкое отверстие не позволяло иных ласк. Так простояли они довольно долго. Когда беседовали руки, уста безмолвствовали, ибо одно мешало другому.
Служанка торопила влюбленных, чтобы их не застигли. Наконец Доридо в нежных выражениях попросил Клоринию выйти и на следующую ночь в тот же час, дабы он снова мог насладиться таким блаженством. Девушка обещала, и они расстались, оба чрезвычайно довольные, особливо Доридо, который был на седьмом небе от счастья. Он пошел домой, желая, чтобы поскорей миновала эта ночь и следующий день. Дома он не находил себе покоя: когда сидел, ему хотелось встать, когда вставал, тянуло прилечь, но лежать он тоже не мог, а все прохаживался взад и вперед, полный нетерпеливой страсти.
Так промаялся он до вечера и назначенного часа, считая минуты и кляня время за медлительность. Явившись на прежнее место, он стал дожидаться условного знака в нише бывших ворот древней стены, поблизости от окна Клоринии. Он уже готовился подняться по стене к отверстию, как вдруг заметил двух кавалеров, чьи дамы жили на этой же улице; они прогуливались в надежде, что Доридо уйдет и они смогут встретиться со своими возлюбленными.
Оба кавалера были друзьями Доридо, и его чувство к Клоринии было им известно. Они сразу его узнали, как и он их, но, заботясь о чести дамы, он не пожелал открыть друзьям свое лицо, дабы они не заподозрили то, чего не было. Итак, пока те двое прохаживались по улице, Доридо не решался взобраться на стену, опасаясь, что они это увидят. Хотя ночь была темная и для других прохожих он был почти не заметен, приятели легко могли его узнать по фигуре. Доридо отошел подальше, полагая, что его друзья либо уйдут, либо остановятся у балконов своих дам. Но кавалеры не уходили, а назначенный час все близился. Доридо подумал, что, придя на условное место и не застав его, Клориния сочтет это признаком небрежения и легкомыслия, так как не будет знать истинной причины. При этой мысли он едва не обезумел от отчаяния и решил напасть на тех двоих с оружием в руках, чтобы прогнать их, а коли станут защищаться – убить обоих.
Еще немного, и Доридо сделал бы то, что задумал, так как был весьма силен и хорошо вооружен. Гнев, как обычно бывает, удесятерил его силы, к тому же напал бы он врасплох. Но его остановила мысль не об опасности, а о его любви. Дабы не сгубить свои надежды, он сдержал себя, кусая губы, ломая руки, возводя глаза к небу и топая ногами как безумный.
Назначенный час прошел, Доридо удалился, столь же удрученный на сей раз, сколь был счастлив прошлой ночью. Назавтра оба кавалера явились к Доридо. «Сеньор, мы – ваши друзья, – сказал ему один из них, – а посему полагаем, что не должны таиться от вас. Ежели и вы наш друг, то, по справедливости, должны воздать нам тем же и быть с нами откровенным, насколько дозволяет честь. Вчера вечером, часа через четыре после захода солнца, мы прогуливались по нашей улице, а мы вправе называть ее нашей, ибо душа каждого из нас обитает там; и вот, предвкушая час блаженства, мы заметили, что за нами наблюдает какой-то неизвестный, не выпуская нас из виду ни на одно мгновенье.
Нам захотелось узнать, кто он, но мы этого не сделали, чтобы не подымать шума. Теряясь в догадках, мы под конец убедились, что то были вы. Дело в том, что мы случайно остановились подле окна вашей дамы; вдруг окно открылось и показалась Шинтила, которая, заметив, но не узнав нас, сказала: «Доридо, почему же вы не подымаетесь?» Тогда, охваченный любопытством, я, как ваш близкий друг, позволил себе подшутить, спросив: «Куда?»
Не отвечая ни слова, Шинтила захлопнула окно и скрылась. Отсюда мы заключили, что вам назначено свидание, и, не желая мешать, тотчас ушли оттуда с намерением позвать вас, но вы уже исчезли. Поэтому мы не смогли рассказать вам тогда же обо всем, что произошло. Но теперь, стремясь услужить вам и не нарушить нашу дружбу, мы предлагаем для успеха наших сердечных дел поделить ночное время – тогда мы не будем мешать друг другу. Мы возьмем часы от полуночи до рассвета, а вам предоставим первую половину ночи; если желаете, мы можем поменяться; выбирайте, что вам удобнее, для нас это безразлично».
Доридо хотел было все отрицать, но друзья приперли его к стенке, и он, приняв их любезное предложение, выбрал первую половину ночи. На третий вечер он снова отправился на свидание, хотя после случившегося уже не надеялся, что оно состоится и что возлюбленная выйдет к нему.
Но Клориния любила и страстно желала встречи; она весь день думала о том, придет ли снова ее возлюбленный, и мечтала о радостном свидании, надеясь узнать, что помешало Доридо явиться в прошлую ночь. Пока родители ужинали, девушка встала из-за стола и подошла к окну. Сделать это она могла без опасений: камин, у которого ужинали, и тот угол, где были окно и отверстие, находились в противоположных концах просторной залы и были разделены мебелью, которая заслоняла Клоринию от взоров родителей.
Девушка смогла не только незаметно подойти к отверстию, но и шепотом поговорить с Доридо. Разумеется, ей приходилось все время быть настороже, чтобы при малейшей тревоге быстро отойти в сторону. К счастью, когда Клориния подошла к отверстию, возлюбленный уже ее ждал, так как с улицы услышал чьи-то шаги в зале и догадался, что это она. Доридо быстро поднялся по стене, и в это второе свидание влюбленные держались уже не так робко, как в первое.
Теперь они беседовали немного смелее, но крадучись и недолго, ибо времени было мало. Нежно попрощавшись, они условились, пока луна на ущербе и ночи темны, видеться каждый вечер в ожидании лучшего.
В ту пору влюбился в Клоринию близкий друг Доридо, юноша по имени Орасио. Зная, что Клориния – возлюбленная его друга, он все же домогался ее благосклонности, ибо ему было известно, что Доридо, в отличие от него, не думает о женитьбе. Полагая, что друг уступит ему в столь справедливой просьбе, подсказанной благородным намерением, Орасио стал горячо убеждать Доридо отказаться от Клоринии, дабы он, Орасио, мог искать ее руки.
Глубоко тронутый страстной речью и учтивой просьбой друга, Доридо признал правоту Орасио и обещал, ежели Клориния согласится, уступить место без спора, добавив, что Орасио может не опасаться его соперничества. Для этого, сказал Доридо, он готов, во-первых, открыть Клоринии, что из-за некоего обета не может жениться на ней, и, во-вторых, чтобы забыть ее, постарается полюбить другую; однако прекратить посещения ее дома он не может из-за близкой дружбы с Валерио, но для Орасио это никак не опасно и только выгодно, ибо он, Доридо, намерен при всяком удобном случае споспешествовать счастью друга.
Орасио был чрезвычайно обрадован; он принялся от души благодарить Доридо, не подумав о том, что выбор предоставлен Клоринии и, пока ее воля неизвестна, торжествовать ему рано. Он полагал, что Клориния, узнав об обете, постарается вырвать Доридо из своего сердца.
Полный надежд, Орасио попросил друга предстательствовать за него, и тот, повинуясь долгу дружбы и охраняя свою любовь от наветов и пересудов, согласился. Придя на свидание, Доридо, верный данному слову, в пространной речи изложил своей даме все обстоятельства и сказал, что, ежели ей угодно полюбить Орасио, он ничем не станет мешать его благородным стремлениям; а ежели Орасио ей не мил, то она по крайней мере должна быть признательна за добрые чувства, не быть суровой к Орасио и, когда увидит его на улице, не отворачиваться, но встречать с приветливостью, пусть и притворной.
На это Клориния в гневе молвила, что не желает слушать подобных речей; если же Доридо готов ради приятеля покинуть ее, она предпочтет быть нелюбимой и отвергнутой, нежели нанести оскорбление ему и самой себе, отдав свое сердце другому. Доридо, сказала она, первая и последняя любовь в ее жизни, которая впредь принадлежит ему одному; она во всем готова ему повиноваться, но только не в том, чтобы забыть его.
Доридо было приятно слышать такие слова, ибо испытание это подтвердило стойкость и силу ее любви. Он более не заговаривал об этом предмете, но по-прежнему видался с Клоринией и днем и вечером, чистосердечно передав другу ее ответ.
Орасио сперва не хотел этому поверить. Весьма опечаленный, он все же продолжал служить своей даме, но усилия его оказались тщетны: Клориния была с ним холодна и сурова. Наконец, убедившись, что он отвергнут, а Доридо предпочтен, Орасио пришел в бешенство и, обуреваемый адскою злобой, возненавидел Клоринию столь же страстно, сколь прежде любил. И если раньше он не знал покоя от желания угодить ей, то отныне проводил дни и ночи, измышляя способы отомстить. Выследив Доридо, он узнал, в какое время и каким образом тот беседует с Клоринией, и однажды ночью, опередив соперника, взобрался на стену и принялся слегка стучать по камню, которым было заложено отверстие, как это обычно делал Доридо.
Заслышав условный стук, Клориния не подумала о том, что до назначенного часа еще далеко, и прибежала на зов. Она поспешно отодвинула камень, ласково приветствуя мнимого возлюбленного. Орасио молчал, но ее нежные слова пуще распалили его ярость; засунув руку в отверстие, он схватил ручку Клоринии и притянул к себе, будто желая поцеловать. Крепко сжав кисть девушки левой рукой, он правой вытащил из-за пояса отточенный кинжал, молниеносно и безжалостно отсек кисть и унес с собой. Несчастная упала наземь в обмороке: слабое женское естество не выдержало ужасной муки, ибо Клориния не смела облегчить ее стонами и криками, и боль, сосредоточившись в сердце, подавила жизненные токи.
Без сомнения, девушка тут бы и скончалась, если бы не подоспели родители. Заметив ее отсутствие, они стали звать дочь, не дозвались и в тревоге бросились ее искать и нашли лежащей на полу в луже крови у открытого отверстия. По крови на камнях стены они догадались о причине смерти Клоринии, ибо, не видя в ней признака жизни, сочли ее мертвой.
Когда взорам потрясенных родителей открылось это страшное, горестное зрелище и обрубок руки, лишенной кисти, они, охваченные безмерной скорбью, упали замертво подле несчастной своей дочери, но вскоре очнулись и в громких воплях начали изливать свое горе, ужасаясь неслыханному злодеянию. Как ни велика была их скорбь, оттого что потеряли дочь, они решили скрыть происшедшее, чтобы не потерять вместе с ней и честь.
Итак, сдержав вздохи и стоны и успокоив домочадцев, они унесли Клоринию. С немалым трудом девушку привели в чувство, но, увидев у своего ложа плачущих отца и мать и заметив свое увечье, она с горя и стыда снова лишилась сознания.
Бедные родители, у которых сердце разрывалось от скорби, утешали дочь в самых нежных выражениях, уверяя, что любят ее по-прежнему и всеми силами постараются исцелить рану ее души, более мучительную для нее, чем рана телесная.
Немного приободрившись, Клориния стала оплакивать свою судьбу, на что прежде у нее не было сил; слезы ее могли бы разжалобить и камень. Было решено лечить ее втайне. Валерио, брат девушки, поспешно отправился за знакомым хирургом, на которого можно было положиться.
Стояла темная ночь. Валерио шел с фонарем и при его свете, переходя улицу, увидел Доридо, который беспечно направлялся на свидание, не подозревая о беде. Жалобным голосом Валерио окликнул его и, когда Доридо обернулся, с плачем сказал: «Увы, верный мой друг! Куда вы идете? Не в наш ли дом, чтобы вместе с нами оплакать горе, великое несчастье, сразившее нас? Слыхано ли когда-либо о бедствии, равном тому, что постигло злополучную Клоринию и семью нашу? Пред вами, моим истинным другом, я могу не скрывать то, с чем надобно таиться ото всех; знаю, что в вас мы найдем сочувствие и вы поможете нам узнать имя жестокого убийцы моей сестры и отомстить ему».








