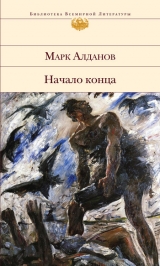
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
Он прошелся по перрону, все с тем же напряженным любопытством читая надписи. «Электрический рельс на пути заряжен…» «Да, ведь дорога электрическая. Если стать ногой на эту штуку, а другой на тот рельс, то конец. Легкий? Тот же электрический стул… На долю ни в чем не виновных людей очень часто выпадает худшая насильственная смерть, чем на долю так называемых преступников…» Он задумался, что хуже: электрический стул или гильотина? «В Синг-Синге, говорят, это длится несколько минут. Но когда падает, например, аэроплан, летчики тоже горят минуты две-три. А от какого-нибудь рака языка люди в мучениях умирают годами…» Ему вспомнилось что-то неприятное: «Да, да, le kératite interstitiel, l’hépatite diffuse, les convulsions épileptiformes, le retrécissement mitral…» [67]67
«…Воспаление роговой оболочки глаза, диффузный гепатит, эпилептические конвульсии, митральный стеноз…» (фр.)
[Закрыть]«Верно, и этот выродок с тиком, без моей помощи, умер бы от какой-либо гнусной мучительной болезни… Если будет погоня, можно будет вскочить на этот рельс. И тогда любезно протянуть им руку, пусть одним мерзавцем будет на свете меньше».
Нервно зевая, он прошел до конца перрона, повернул назад, остановился перед огромным градусником, наверху которого красный и белый человечки с необыкновенно веселым видом несли какую-то бутылку. «Сен-Рафаэль Кэнкина». «Кажется, никогда не пил или, по крайней мере, не помню вкуса… Вообще мало пил: «Jeunesse saine, joyeuse…» – какое было третье слово?» Но третьего слова, к своему беспокойству, вспомнить не мог.
Вдали пропел петух. Альвера чрезвычайно удивился. Ему казалось, что петухи поют только на рассвете. Лишь теперь он заметил, что все это селение, Лувесьен, утопало в зелени. По обе стороны сквозного вокзала видны были высокие деревья, гряды цветов, цветы. «Да, красивое место… После дела можно было бы, пожалуй, тут купить виллу и поселиться… Можно было бы даже купить эту самую виллу, она, верно, будет продаваться с аукциона. Было бы забавно, и окончательно рассеяло бы подозрения: какой же убийца купит дом, где «его будет посещать кровавый призрак»? Надо будет подать эту мысль адвокату. А Вермандуа, если он навестит меня в тюрьме, я скажу, что убил назло Достоевскому. Он будет в восторге и вставит в свой роман обо мне, какой блестящий парадокс: романы великого славянского моралиста только способствуют развитию преступности среди этих несчастных детей!»
Проходивший по перрону пассажир с любопытством посмотрел на невысокого, худого, безобразного юношу, на лице у которого повисло напряженное выражение страдания и ужаса, точно с ним только что случилось большое несчастье. «Он так может и назвать роман: «Преступление в Лувесьене»… Нет, для него это слишком бульварное заглавие, роман будет психологический, с блестящими парадоксами и с авансом в тридцать тысяч франков. Вот бы ему сказать: «Défense de faire des ordures…» [68]68
«Запрещается сваливать мусор» (фр.).
[Закрыть]Он засмеялся. Вдали показался небольшой, странно медленно шедший зеленый поезд. Альвера удивился, что нет ни дыма, ни локомотива, опять вспомнил, что дорога электрическая – «ведь только что об этом думал», – тяжело вздохнул и занял место в вагоне второго класса. «Так они это называют в насмешку над нами, на самом деле это четвертый класс. Они нарочно сделали здесь все как можно более неудобным и неприятным: нужно ведь наказать человека за то, что у него нет денег на более дорогой билет…»
X
Когда поезд пришел в Париж, было уже почти совсем темно. Альвера рассеянно направился к выходу. На этот раз билет спросили. «Нет, вероятно, обмануть этих бандитов трудно. Вся их жизнь построена на рутине – если б и рутина была негодной, они не могли бы существовать». На улицах горели фонари. Последние лавки закрывались. Он ускорил шаги: дома никакой еды нет, кроме масла и оставшихся со вчерашнего дня трех – нет, двух – яиц. В его квартале съестные припасы стоили несколько дешевле, но ехать было далеко, надо все купить тотчас. Сосчитал мысленно свои деньги, когда выходил из дому, было пятьдесят пять франков, восемьдесят четыре получено за работу, на билет в оба конца истрачено восемь, и куплены билетики в автобус: шесть. Итого, должно быть сто двадцать пять. Опустив руку в карман – опять упало самопишущее перо, – не нашел сразу стофранковой ассигнации и похолодел от ужаса. «Ах, нет, вот она! слава богу!..» Мелочь тоже оказалась в целости, счет был верен. «Послезавтра получу у Вермандуа двести. Хватит…»
Свернув в боковую улицу, он остановился у лавки мясника. У дверей висела огромная окровавленная туша. Можно было купить за три франка бифштекс и дома зажарить. Но вид крови показался ему необыкновенно противным. Из двери вышел с палкой, напоминающей вилы, мясник, почти столь же окровавленный, как туша, и у него на глазах закрыл лавку с видом несколько демонстративным, точно знал, что этот покупатель спросит именно один бифштекс: обойдусь и без твоих трех франков. Альвера купил в соседней лавке ветчины. «На три франка, нарезанной. И колбасы, на два франка, без чесноку». Продавщица нарезала колбасу, как будто с демонстративным нетерпением, может быть, тоже для того, чтобы показать пренебрежение. Он следил за движением огромного ножа и думал, что у палача, вероятно, движения столь же ровны, ловки, привычны. «А эта ветчинная гильотина напоминает ту, настоящую…» Купил еще сыру и два яблока с приятным сознанием, что не отпустит дерзкую продавщицу, пока всего не получит: теперь ихзакон действовал за него и против продавщицы. Расплачиваясь, тоже с приятным чувством подумал, что не вышел из бюджета ни на грош.
У лавки находилась стоянка автобуса, того самого, который был ему нужен. В автобусе оказалось свободным его излюбленное место: у окна, на скамейке отделения для двух пассажиров. Это было еще приятнее. Он положил на колени кульки, уперся в стену и устало откинулся на спинку. Соседка сзади, шляпу которой он задел, что-то пробормотала. Рядом с ним села какая-то дама, он не обратил на нее внимания, не почувствовал прикосновения ее тела, и только, когда она встала у моста, заметил, что она была молода и недурна собой, – сам удивился своей нечувствительности. «Однако, Жаклин…»
Автобус прошел мимо здания суда. Альвера лениво-приятно представил себе, как его будут судить: «В каком зале? куда выходят окна? не эти ли?» Представил себе судей, прокурора. Присяжные удалятся в совещательную комнату, он останется с жандармом, который будет с состраданием отводить глаза,как полагается человеку из народа у гуманных писателей. «A Dieu dans ses pauvres …» [69]69
«Господь со своими бедными…» (фр.)
[Закрыть]«Бедные называются Егобедными, это, очевидно, насмешка: вот бы Емусделать их богатыми…» Автобус свернул на бульвар Араго. «Гильотину ставят тут между этими двумя деревьями…» «Du courage, Alvera, 1’heure de l’expiation est venue…» [70]70
«Мужайтесь, Альвера, час искупленья настал…» ( фр.)
[Закрыть]Надо будет выдавить улыбку, выйдет натянутой, но если очень постараться, можно улыбнуться вполне прилично. «Я давно готов… Ну, а если не готов, тогда что: мы отложим?» От взволнованных объятий защитника можно отказаться. Папиросу, рюмку рома принять и сказать: «Merci, monsieur, bien aimable…» [71]71
«Благодарю, месье, вы очень любезны…» (фр.)
[Закрыть]Потом вид машины и полагающийся «судорожный, нервный шок…». Нет, не страшно. Во всяком случае, можно себя приучить, думая об этом постоянно. В смерти тоже, как это ни глупо, привычка играет некоторую роль. Застрелиться, повеситься особенно трудно потому, что револьвер, веревка нам непривычны. Отравиться же, наверное, легче: глотать порошки дело обыкновенное… Собственно, убийство может рассматриваться как наиболее редкая форма самоубийства…»
Он сошел на своем углу, поглощенный этой заинтересовавшей его мыслью. Поднялся на седьмой этаж: снимал комнату для прислуги, без права пользоваться подъемной машиной – «тоже в наказание за то, что нет денег». Комната была без проточной воды, но недурная, прилично обставленная; мебель приобреталась им постепенно на толкучем рынке. Письменный стол под красное дерево был и совсем хорош. Все находилось в образцовом порядке. На столе были очень аккуратно расставлены чернильница, лампа, лодочка для перьев и карандашей. Каждая книга имела точно определенное место на полках – у него по тщательно, с номерами, составленному каталогу было двести семьдесят две книги. Томик Достоевского значился под номером 196.
Альвера поставил книгу на место, еще раз пожалев о вырванной странице, и рассеянно спрятал простреленную бумажку в средний ящик письменного стола – в этом ящике лежало все важное: тетрадь, лицейский диплом, рекомендации, оплаченные счета. Затем он снял воротничок, повесил галстук на ленту, протянутую изнутри на доске шкафа, надел мягкие туфли и с досадой заметил, что правый носок продрался на большом пальце. Разложил на белом некрашеном столике съестные припасы, сходил в коридор за водой, заварил на спиртовке чай, зажег вторую лампу на письменном столе и увидел на столе счет электрического общества: забыл, совершенно забыл вчера послать деньги по счету! Квитанция доставлялась в первый раз, прервать ток никак не могли, все же это очень его взволновало. Он платил по счетам немедленно: и прачке, и булочнику, и газетчице. Записал в карманной тетради: непременно, первым делом завтра с утра послать. «Денег все-таки хватит».
Он зарабатывал секретарским трудом и перепиской не менее восьмисот франков в месяц, а случалось, и всю тысячу. Острой нужды почти никогда не испытывал. Зимой появились было даже небольшие сбережения, но ушли на белье, на костюм, на обувь: для исполнения секретарских обязанностей при Вермандуа надо было одеваться прилично. «Этот прохвост одевается у лучшего портного. Один красный халат стоит, верно, больше, чем я зарабатываю в месяц… К Новому году можно было бы опять скопить тысячу…» Сам удивился: какой же Новый год, какая тысяча, если состоится дело! На голод и нищету защитнику будет ссылаться трудно, так что тем более ces étrangers qui viennent chez nous… [72]72
Эти иностранцы, которые приезжают к нам (фр.).
[Закрыть]Иностранцем Альвера, собственно, мог считаться лишь по паспорту: отец, бежавший из Южной Америки после какого-то переворота, привез его во Францию, когда ему не было трех лет. Он говорил только по-французски, ничего испанского не знал и не любил, своего длинного имени немного стыдился: Рамон Грегорио Гонзало, это Гонзало, казавшееся ему и глупым, и смешным, особенно его раздражало. В лицее он был Рэймон Альверб с ударением на последнем слоге, «но там,конечно, выплывет и Гонзало».
В шкафу, приобретенном за пятьдесят франков и стоившем по меньшей мере двести (воспоминание об этой покупке было особенно приятно), справа от заканчивавших отдел белья аккуратно, столбиком, сложенных полотенец стояла банка – с вишневым вареньем. В этом варенье было – он чувствовал – нечто одновременно и постыдное, и особенно уютное. Альвера поужинал с аппетитом, выпил стакан чаю, поставил на письменный стол другой, чуть не на треть наполненный вареньем, убрал остатки провизии, сполоснул посуду. Затем достал из ящика толстую тетрадь в красивом коленкоровом переплете. В ней был большой труд: «Энергетическое миропонимание».
Он задумал работу еще в лицее, когда узнал, что энергия может быть представлена как произведение множителей напряженности и количества и что физические процессы идут с убыванием множителя напряженности. Мысль эта его заняла еще тогда, и он часто к ней возвращался. Позднее ему пришло в голову, что можно создать социально-философскую систему, в основе которой лежала бы математическая формула: он представлял себе большую, красиво изданную книгу, где из такой формулы исходило бы все. Купил тетрадь и на первой странице неровной, справа чуть загибавшейся кверху строкой написал: A=U+T dA/dT. Теперь он уже не вполне твердо помнил, что в физике означают все эти буквы. Основой же его системы было то, что социальные и психологические процессы должны идти с возрастанием множителя напряженности. Для математической части труда было оставлено двадцать белых страниц – это можно заполнить позднее, после лучшего ознакомления с физикой и математикой. С 21-й страницы шла чистая социология – ее пока было тридцать семь страниц. На двухсотой странице, с закладкой, начинались стихи, переписанные в тетрадь набело, – концы строк все немного забегали вверх. Альвера окунул перо в чернильницу и почувствовал, что сегодня работа не пойдет. Лениво нарисовал на полях непристойный рисунок, тотчас об этом пожалел – зачем пачкать рукопись? – и с досадой спрятал тетрадь в ящик.
В комнате было холодно, много холоднее, чем на улице. «Уж не озноб ли?» Его манило теплое одеяло постели. Однако совестно было ложиться совсемв десятом часу вечера. Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы лечь временно,накрывшись пальто; правда, если так проспать часа два, то уж потом не заснешь до утра. Он все же пошел на компромисс, взял с полки первую попавшуюся книгу – вышел № 64 – и лег, устроившись на постель так, чтобы не попасть в провал тюфяка. Провал, впрочем, тоже был, как все здесь, свойи уютный. Снизу доносилась музыка. Это в квартире шестого этажа играла на пианино дочь хозяйки. «Если в десять игра не прекратится, я пожалуюсь: она не имеет права…» Он прислушался и не узнал, что играют. «Но что-то очень знакомое и банальное. Теперь надо было бы совершенно переделать музыку, так больше нельзя. Публика ничего не понимает: если пианист бьет по клавишам, как боксер, и изо всей силы нажимает на педаль, ей нравится мощьего игры; а если он играет пианиссимо, ей нравится задушевность…»
Пианистка перестала играть. Он читал, почти не думая над тем, что читает: знал, что, когда понадобится, подумает и составит своемнение. Теперь удовольствие было автоматическое, почти такое, как от прогулки или отдыха. Потом мысли его отвлеклись опять к философской работе. «Быть может, я злоупотребляю идеей привычки, множителем количества?» Ему пришла в голову новая мысль, следовало бы тотчас ее записать, но садиться опять за стол не хотелось. Вздрагивая от холода и волнения – «кажется, в самом деле лихорадка: не может быть, чтобы летом в комнате было так холодно», – он перелистал страницы. «Le cæur débordant de passion, la tête forte d’un enthousiasme raisonné (Альвера засмеялся), les yeux perdus dans la contemplation des splendeurs qu’elle entrevoit, l’humanité se dirige, irrésistible, vers la Terre promise où chacun pourra vivre dans la paix de son cæur et de sa conscience, aimant et aimvers la Terre promisé, sans contrainte et sans haine, sans envie, sans entrave, dans le rayonnement bienfaisant des passions satisfaites, dans l’affinement vigoureux des facultés décuplées dans l’épanouissement fécond des originalités et des caprices (он засмеялся опять), dans la suave caresse des rêves et des aspirations vers le sublime et l’idéal, les sens apaisés par des fêtes de la chair réhabilitée, le cerveau élargi par la science fortifiée, l’oreille bercée par l’harmonique vibration des choses, le cæur gonflé de l’amour d’autrui…» [73]73
«С переполненным страстью сердцем и окрыленное идущим от ума энтузиазмом (…), устремив взгляд в сияющие дали, человечество неудержимо стремится к земле обетованной, туда, где каждый сможет жить в мире со своим сердцем и совестью, любить и быть любимым, без принуждения и ненависти, не завидуя, свободно, согреваясь благодатными лучами удовлетворенной любви, совершенствуя свои способности, возросшие в десятки раз благодаря плодотворному развитию индивидуальных особенностей (…), упиваясь сладкими грезами и стремясь к возвышенному и идеальному, с чувствами, успокоенными торжеством восстановленной в своих правах плоти, с умом, просветленным окрепшей наукой, убаюканное гармоничным колебанием окружающего мира, с сердцем, переполненным любовью к ближнему…» (фр.)
[Закрыть]
Ему стало очень весело. Нет, право, анархисты еще глупее коммунистов. Этот отлично понимает, что убивать и воровать можно, но убивать и воровать он явно боится и потому придумывает всевозможные увертки: «отдельные акты воровства и убийства развращают и унижают человека». Ну а меня не развращает и не унижает то, что я должен, как милости, искать работы у всевозможных негодяев, что я должен лебезить перед людьми, которых я презираю и ненавижу? Да, этот господин так же, как они все, делает карьеру на красивых фразах: у социалистов все вакансии были заняты, поэтому он объявил себя анархистом, вот тоже очень красивое слово. «Погоди, погоди, я тебе покажу l’harmonique vibration des choses, – с внезапной злобой подумал он. – Точно люди живут без идеала, или для чего-нибудь, или почему-нибудь! Живут потому, что живут, умерли, ну и мертвы».
Свет лампочки чуть утомлял глаза; они у него всегда были красные, немного опухшие: «хронический конъюнктивит, с этим не шутят», – сказал студент-медик, бывший товарищ по лицею. Альвера высунул руку из-под пальто и повернул выключатель. В комнату проник бледный свет фонаря. Стало еще уютнее. «Так, быть может, крыса дорожит норою и находит ее уютной… Да, пока я не преступил их законов, сюда никто не ворвется, никто меня не потревожит, завтра я пойду в кофейню пить горячий кофе с круассанами, мне обеспечен завтрак, обед (Разве только Вермандуа выгонит? Нет, не решится.), здесь все мое– что ж, видимостьли это или настоящая человеческая независимость? Анархисты орали на митинге, что во Франции тоже рабство, трехцветный фашизм, и в этомя был согласен с ними, но у входа на улице стоял отряд полиции, чтобы охранять их, если б на них напали коммунисты или правые. Видимость?И не глупость ли, не чудовищная ли глупость то, что я затеял?» Он точно повторял беспристрастно доводы противной стороны. «Что ж, я могу передумать, еще есть время».
Мысль об отсрочке была ему приятна. В эту минуту он был уверен, что передумает. «Да, уютная крысиная нора… Эта складчатая занавеска на стекле днем особенно уютна. Она похожа на спектр поглощения». Сравнение с запомнившимся рисунком в учебнике доставило ему удовольствие. «Во всяком случае, эта ночь моя,пусть всего пять или шесть часов. Человеческая жизнь состоит из кусков, из маленьких, совсем маленьких кусочков, и каждый кусочек надо принимать и расценивать отдельно: «за этоткусочек благодарю», хоть благодарить некого, и, быть может, ценнейшие куски жизни будут именно в тюрьме, моипять-шесть часов в камере перед эшафотом. Общий же счет у всех одинаковый: чистый ноль…» Он вспомнил, что по дороге из Лувесьена было еще что-то приятное, но другое, – теперь и свои, и чужие мысли он расценивал не по их существу, а по тому удовлетворению или раздражению, которое они у него вызывали. «Что же это было? Ах, да…» Приятны в дороге были мысли об изумлении, ужасе, растерянности Вермандуа, когда он прочтет в газете об аресте лувесьенского убийцы. Альвера засмеялся от радости – и через минуту заснул. В далекой древней стране пастушок поссорился с солнцем, и солнце решило ему отомстить и ввело закон, приятный закон, приятный для него и для потомства пастушка: jeunesse saine, forte et joyeuse… [74]74
«Здоровая, крепкая и веселая молодежь (фр.).
[Закрыть]Да, вот третье слово, слава Богу! Потом был кошмар – горничная, проснувшаяся в соседней комнате, выругалась и сердито подумала, что надо будет пожаловаться консьержке на этого молодого урода, который по ночам кричит, как идиот, и будит людей, встающих в шесть часов утра.
XI
«Уж не стал ли на старости лет сентиментален?» – подумал с досадой Вислиценус. Он не мог справиться с волнением. Да, это была та самая улица, и в ней не изменилось почти ничего. Только с правой стороны, прямо против дома, где жил Ильич, теперь тянулось длинное красное здание. Прежде тут был сад какого-то церковного или монастырского учреждения – они никогда в точности не знали, какого именно, да и не интересовались. Кроме появления оскорбительно-нового здания, на крошечной улице все было то же. Так же тянулась по левую сторону однообразная громада высоких узких домов. Сердце у него забилось – «только этого не хватало!..» В доме за четверть века не изменилось решительно ничего: те же балкончики на каждом этаже, те же непонятные хоботочки вокруг среднего балкона, та же стеклянная дверь в глубине темноватого входа – по вечерам они долго у нее стояли, повторяя, кто совсем робко, кто решительнее: «Cordon, s’il vous plaît…» [75]75
«Откройте, пожалуйста…» (фр.)
[Закрыть]Ильич смертельно боялся историй с консьержками; с другой квартиры пришлось съехать именно из-за этих «cordon, s’il vous plaît». To же низенькое окно погреба – отсюда он, когда начиналась весна, с радостным оживлением выводил свой велосипед. Вислиценус как живого увидел Ленина, у этого самого окна, без пиджака, с засученными рукавами по-провинциальному – на этой улице тогда можно было, – можно, верно, и теперь. «Ах, это вы, зд-г-авствуйте, зд-г-авствуйте. Отчего вы не ездите на велосипеде? Хотите, купим вам в г-азс-г-очку, полезно и для г-аботы, и для здо-г-овья, и такая г-адость…» «Мне тогда стало смешно, что он «радость» произносит почти так, как «гадость», и я подумал, что, верно, он стал картавить в обществе евреев и от них же, родившись в Симбирске, научился говорить «пара дней» и «пара франчков», и я тогда устыдился, что подумал это… А вот этих «Piqûres. Ventouses. Massages médicaux» [76]76
«Уколы. Банки. Лечебный массаж» (фр.).
[Закрыть]тогда, кажется, не было. Да. Не было».
Из отворенного окна третьего этажа кто-то с удивлением смотрел на странного долговязого человека, который, расставив ноги, в позе, напоминавшей Эйфелеву башню, неподвижно стоял против двери дома. «Да, конечно, глупо, и в самом этом паломничествеесть нечто глупое и странное…» Он хотел было подняться во второй этаж, позвонить и под каким-либо предлогом заглянуть в чужую квартиру: кто теперь там живет, не имея, конечно, понятия о своем предшественнике? что стоит в «кабинете» в правом углу вместо низкого, широкого, покрытого чехлом дивана с шахматной доской на валике? «…Глупое, странное и тревожно-сентиментальное…» Вислиценус отошел от двери и направился к Avenue d’Orléans.
Зажигались огни. Откуда-то издали доносилась музыка. Вся их жизнь когда-то проходила в этом квартале, между домом Ленина и типографией, в город (так и говорили: «в город») ездили редко. Он восстанавливал в памяти все, умилялся, читая знакомые названия улиц, и сам недоумевал, что умиляется: не могли же измениться улицы. «Здесь покупал табак – на готовые папиросы денег не хватало, и в процессе набивания папирос было нечто успокоительное (значит, и тогда пошаливали нервы, с облегчением подумал он: если пошаливали и тогда, то не так страшно нынешнее). Тут в шесть часов покупал «Temps». Вот он, все по-старому. Здесь брал в долг колбасу…» В нем вдруг поднялась злоба при воспоминании о том, как однажды, когда долг дошел до тридцати франков, хозяин запретил дальше отпускать товар в кредит, и продавщица сконфуженно положила назад уже завернутый в бумагу кусок колбасы с начинкой и с желе, «вот с этим самым желе…». Да, ничего отрадного не было, по крайней мере, в голоде, в погоне за грошовым заработком, даром расчувствовался… Изменились цены, он припоминал, сколько за все платил, было по-стариковски приятно и то, что все помнит, и то, что все стоило так дешево. «Но если появилась старческая размягченность, то надо закрывать лавочку!..» С жаровни издали потянуло чем-то ароматным, он не видел и не помнил, что это, но запах этот вдруг с необычайной силой напомнил ему молодость, прежний Париж.
Ничего не изменилось и в доме типографии. У того же старого магазина на улице были выставлены, разложены пестрые вещи, клеенка, щетки, платки, куски обоев, убогая роскошь для прельщения бедняков. Вислиценус ахнул: за кассой сидел тот же владелец, в черной ермолке, теперь глубокий старик. «Да, очень живучий народ и очень устойчивый быт…» Но делать тут, как и перед домом Ленина, было решительно нечего, и незачем было приходить: жизнь та же, но теперь чужая и чуждая еще гораздо больше, чем когда-то. Звуки музыки все усиливались, он увидел карусели, начинался народный праздник. «Почему-то здесь и тогда постоянно устраивались праздники. Жизнелюбивый народ…» Вид чужого веселья был ему неприятен.
Тягостное свидание было назначено на четверть восьмого, в ихкофейне: Вислиценус адреса другой кофейни в Париже не помнил и дал этот. Знал, что разговор по важному политическому делу будет весьма неприятным, и рассчитывал закончить его в полчаса. В восемь был назначен обед в ресторане с приехавшим в Париж Кангаровым-Московским.
С ним он расстался довольно давно. Отношения по службе оставались у них прежние: корректные и холодные. Старались разговаривать друг с другом поменьше. При встрече Кангаров улыбался еще издали, но глаза у него желтели. Случалось в беседах обмениваться и неприятностями, но обычно в форме дружеских советов, по самым лучшим партийным побуждениям, вроде как Гоголь, по самым любвеобильным побуждениям, советовал Виельгорской не танцевать, ибо она кривобока. Вскоре после представления королю Вислиценус получил спешную командировку в Испанию. Там он пробыл много дольше, чем предполагалось. Кангарова же встретил в Париже неожиданно, в полпредстве, и опять посол сладко улыбнулся еще шагов за десять, крепко пожал руку и пригласил Вислиценуса в ресторан на обед.
«Пожалуйста, со всеми онёрами, – сказал он и в объяснение приглашения добавил: – Хочет с вами встретиться Зигфрид Майер, немецкий эмигрант, знаете? Все ко мне пристает. Вот и приходите, чем назначать ему отдельное свидание… Если, разумеется, у вас не слишком важные секреты?» – сказал он с улыбкой в полувопросительной форме. Вислиценус ничего не ответил. У Кангарова пожелтели глаза. «Заодно увидите Надежду Ивановну. Она тожео вас спрашивала». – «Разве она здесь?» – вспыхнув, поспешно спросил Вислиценус, за минуту до того собиравшийся отказаться от приглашения. «Да, я взял ее с собой, мне нужна переводчица: тонкости французского языка от меня ускользают, а она у меня дока по части языков», – небрежно сказал посол. «Что ж, я, пожалуй, приду, спасибо, мне и в самом деле надо повидать этого Майера, – так же небрежно ответил Вислиценус, – а как она вообще живет?» – «Кто?» – «Надежда Ивановна». – «Наденька? Ничего, процветает. В Париже как рыба в воде. Так, пожалуйста, ровно в восемь. Запишите адрес». – «Слушаю-с». Обоим было неловко. «Экий дурак, покраснел! – проклиная себя, подумал Вислиценус и тотчас простился с послом. – Конечно, он заметил, не мог не заметить…»
В кофейне он поспешно опустился на диван: вдруг почувствовал себя совсем плохо. Закололо в груди, точно кто-то вонзил в нее кол. Боль распространилась на плечо, перешла в руку. «Странно, этого, кажется, никогда не было? Неужели и это от астмы? Нет, конечно, порок сердца, что ж от себя скрывать и бояться слова? «Невроз», «порок» – не все ли равно? Важно то, что нехорошо дело…» Лакей принес стакан молока. Юноша с соседнего столика со снисходительным пренебрежением взглянул на пившего молоко рантье. Сзади приятно-отчетливо, как тогда, щелкали бильярдные шары. На тех же местах по-прежнему играли в шахматы любители 14-го округа. Около досок лучших игроков, обмениваясь вполголоса замечаниями, так же толпились зрители… «Не хотите ли слона впе-г-ед? Вы, почтеннейший, иг-г-аете, как какой-нибудь па-г-шивый впе-г-едовец! Я вам не слона, а фе-г-зя могу дать». – «Не хвались, идучи на рать». – «Это вы г-ать? Хо-г-оша г-ать! Г-г-иго-г-ий, это он г-ать! Вам, уважаемый, в ду-г-ачки иг-г-ать, а не в шахматы!» Волнение Вислиценуса переходило в галлюцинацию – «это от того, что я что-то такое видел на сцене, в старых трагедиях, или читал, будто такие галлюцинации бывают. И мне теперь должнопоказаться, что Ильич займет вон то центральное место за столом, за егостолом…» И тотчас в самом деле Ленин занял это место, и вокруг него, как тогда, отвечая почтительным смехом на незатейливые шутки, разместились полуголодные, смешные, никому ненужные люди, однако чуть не перевернувшие весь мир. Теперь почти все они были в могиле или в тюрьме. Самые известные недавно были казнены. «Верно, и они перед смертью вспоминали эту кофейню, народные праздники на этой улице, квартиру из двух комнат, нашу типографию…» «C’était une erreur! Il ne fallait pas sacrifier le pion!» – «Vous n’y entendez rien, mon vieux». – «C’était une erreur, vous dis-je. La combinaison était fausse! – слышался сердитый голос сзади. – Да, да, la combinaison était fausse…» [77]77
«Это был ужас! Не надо было жертвовать пешку!» – «Вы ничего в этом не понимаете, старина». – «Это был ужас, говорю вам. Комбинация была ошибочной! (…) комбинация была ошибочной…» (фр.)
[Закрыть]
«Ошибка комбинации заключалась в том, что теория наша как-никак строилась на вере в человека, на вере в его достоинство, в возможность и необходимость его морального усовершенствования, – практика же всецело исходила из предпосылки, что человек глуп, что человек подл и что надо его – о, временно, разумеется, временно! – для успеха, ради идеи, сделать еще более глупым и подлым. Предпосылку эту выработал Ленин, но он скрывал ее от нас до поры до времени, пока не оказалось возможным начать применение выводов. Мы, когорта политического преступления, последовали за ним, как всегда за ним следовали, – он сумел воспитать в нас солдатские инстинкты и, как все полководцы, Божьей милостью, несложными способами добился нашей любви, страха и преданности.
Опыт произведен. Оказалось, что человеческая душа не выдерживает того предельного гнета, которому мы ее подвергли, – под столь безграничным давлением люди превращаются в слизь. Мы разлагали их во имя социалистического идеала, они разложились просто, без «во имя». Сами того не замечая, тоже понемногу, мы создали небывалое в мире общество. К исконному, первозданному человеческому хамству мы, первые из правителей, своего корректива не дали, убрав все другие, старые, испробованные. Случилось, однако, то, чего не предвидели и наши практики. Язва, которую они втирали в души управляемых, скоро переползла на правящих. Оказалось, что сила, всегда торжествовавшая в истории, для собственного существования, для того, чтобы не перестать быть силой, нуждается в каком-то сопротивлении окружающей среды. С уничтожением сопротивляемости подчиненных превратились в слизь и мы сами. Мы вогнали в них моральный сифилис, – они заразили им и нас, и все мы теперь развращенные, уничтоженные, искалеченные люди, потерявшие уважение и к другим, и к самим себе.
Если есть предмет, о котором, наверное, никогда не думал Ильич, то это именно счастье человечества и моральные качества людей. Это для него было пустое и скучное «само собой», как для шахматного игрока Божьей милостью пустое и скучное «само собой», – облагораживающее влияние шахмат и другая ерунда подобного рода. По существу же, все его мысли были сосредоточены на игре.Если б Ильич думал о людях часто, определенно, «художественно», он не сделал бы ровно ничего. Сила его заключалась отчасти в том, что он об этом никогда не думал. Он играли свою большую игру, игру мизантропического, бесчеловечного социализма, строил на вековой ненависти бедняков к богатым. Никто до Ленина не оценивал с такой проницательностью значение этой силы, давшей нам победу и власть. Этаненависть у нас получила удовлетворение, какого никогда нигде до того в истории не получала. Но радости от нее не хватило и для старшего поколения. Младшее, богачей не знавшее, ее понять не может. Нельзя жить ненавистью к тому, чего больше нет. Они богачей видят только в кинематографе и испытывают при этом не ненависть, а зависть. На Западе демократия губила и губит социализм, так как стала его суррогатом: она по столовой ложке дает народу то, что социализм обещает, не давая. По своей глупости эти ручные социалисты отстаивают демократию, не замечая, что она их медленно съедает и съест. Но, в отличие от нас, они имеют возможность, впрочем без всякого макиавеллизма, осторожно, не очень запальчиво, с выгодой для себя помахивать красной тряпкой. У нас ее больше нет. Красной тряпкой стали мы сами, хоть бык научился до поры до времени скрывать свои чувства. За нищету, за голод, за рабство, за унижения, за искалеченную душу, за собственную трусость, за собственную угодливость они нам теперь платят лютой, звериной злобой, и, смутно чувствуя их глухую, невидимую, непроявляющуюся ненависть, мы в наших методах ничего изменить не можем. Круг этот заколдовали мы сами. Мы создали Брынские леса, а в Брынских лесах ничто не возможно, кроме атаманства. Вся наша история в последние годы свелась к схватке кандидатов в атаманы, почти без примеси идеи или с примесью совершенно произвольной, зависевшей только от обстоятельств. Вот из-за чего пролиты, льются, будут литься потоки крови – этого не предвидел и Ленин. Жизнь оказалась еще мизантропичнее, чем он, и вела нас куда придется, неизвестно куда, неизвестно зачем – компаса нет, никакой Полярной звезды не видно. Атаманом оказался, как почти всегда бывает в берлоге, наиболее смелый, твердый из кандидатов. Но и для него не могло пройти бесследно подобное двадцатилетие. Умный, хитрый, решительный атаман так долго выдумывал преступления и подбрасывал народу преступников, пока сам почти во все не поверил. Теперь настало царство полицейской мифологии, и она лишь увеличивает в стране глухую ненависть ко всем нам: народ никак не может понять, чем одни из нас хуже других, если этого не понимаем мы сами. А кто будет прав в историческом счете, неизвестно: может быть, Троцкий, может быть, Гитлер…








