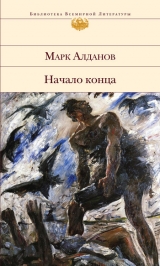
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
– Позвольте мне, так сказать, в качестве консьержки, с этим не согласиться, – раздраженно смеясь, сказал Серизье. – Или уж тогда напишите свой собственный курс мировой истории. Предлагаю вам заголовки некоторых глав: «Восстание 14 июля 1789 года подавлено властями. Комендант де Лонэ несколькими меткими выстрелами разогнал взбунтовавшуюся чернь…» Или так: «Немецкие войска 11 ноября 1918 года вступают в Париж. Вильгельм II в Версале объявляется повелителем мира…»
– Я предлагаю и заключительную главу, – сказала графиня. – «По приговору восстановленного инквизиционного трибунала книги Луи Этьенна Вермандуа сжигаются на костре. Затем сжигается и он сам, причем предварительно ему отрезывают язык».
– Сжечь его на костре не худо, – вставил с анатоль-франсовской улыбкой финансист, – но зачем же отрезать язык? Он говорит довольно занимательно.
– Лучше пусть его заставят отречься, как Галилея. Пусть он под пыткой признает, что история представляет собой подлинное торжество разума.
– Обещаю вам оглушительное eppur si muove… [113]113
И все-таки она вертится (итал.).
[Закрыть]Нельзя ли ананас препарировать по моей системе? – обратился Вермандуа к метрдотелю. – Две ложки кирша, затем сахар, мараскин и одна капля арманьяка, только одна капля.
– Вполне одобряю, это лучше, чем ваша философия истории, дорогой месье Вермандуа, – сказал Серизье, смягченный успехом своей шутки. – Вы, очевидно, поставили себе целью в жизни – лишить людей надежды.
– Я, например, только и живу надеждой на переход общества к социалистическому строю, а он хочет лишить меня и этой надежды! – заметил финансист. Все смеялись.
– Однако, господа, у нас и в самом деле жгут теперь книги на кострах, – выговорил с трудом доктор Зигфрид Майер. – Может быть, даже и ваши? – обратился он к Вермандуа.
– Неужели? Какая реклама для его издателя!
– Кажется, я еще не удостоился этой чести, – небрежно сказал Вермандуа, не совсем довольный фамильярным тоном беседы: теперь не только финансист, но и другие, мало с ним знакомые гости говорили о нем он. – Очень рад вашему замечанию, месье… – обратился он к немцу, фамилии которого не знал. – Ведь правда, вы были бы удивлены, если б вам десять лет тому назад сказали, что в Германии установится гитлеровский строй?
– Лично я не был бы удивлен, – встрепенувшись, ответил Майер. – Зная Германию, зная тех якобы республиканцев, которые у нас правили, я всегда говорил, что…
– Тогда вы человек исключительной проницательности. А я не мог себе представить, как в кинематографе не могу предвидеть, что маркиза себя нататуирует и бросится в море, дабы навести подозрения своего мужа на преступную красавицу.
– И все-таки с отступлениями назад, с уклонами в сторону история идет к социалистическому строю, как бы вы над этим ни насмехались, дорогой друг, – сказал Серизье. – Что прошло, то прошло. Заметьте, даже австрийский маляр, который, прочно засев на престоле Гогенцоллернов, видимо, не прочь присоединить к нему еще и престол Габсбургов, все же монархии не восстановил, капиталистов старается не баловать, по крайней мере, открыто и к идеям манчестерской школы не вернулся. Несправедливые социальные формы понемногу отживают везде.
– Они полежат в исторической могиле и затем, быть может, благополучно, хоть не без червей, воскреснут: дайте только отдохнуть одному поколению или подрасти другому. Исторические гробницы, в отличие от настоящих, строятся с расчетом на воскресение.
– «И возвратится ветер на круги своя»? Это несколько старо.
– И не вполне верно. Возвращающийся ветер не совсем таков, каким был прежний: он хуже или, по крайней мере, противнее, у него нет прежней свежести, нет наивности первого зефира… Быть может, эта милая барышня увидит восстановление капитализма у себя на родине. Но боюсь, новый капитализм будет без мягких гуманных заводчиков и без свободы стачек.
– Никогда у нас никакого капитализма не будет! – бойко сказала Надя, довольно свободно справляясь с французской фразой. «Ничего, отлично вышло».
– Слышите, неисправимый мизантроп, – с легкой тревогой вставил Кангаров, неопределенно бегая по столу глазами.
– Никто не может сказать с уверенностью, что именно соблазнит человеческую романтику после установления социалистического строя. Вполне допускаю, что душу людей потянет именно к восстановлению социального неравенства посредством ли переворота или неспешной эволюции. Появятся капиталисты-революционеры и капиталисты-революционеры; каждая из этих групп создаст свою теорию социального прогресса. Кто же им может помешать иметь о прогрессе свое мнение?.. Но во всяком случае, что бы с миром ни случилось, можно сказать с уверенностью: хуже, чем теперь, не будет. Еще никогда, кажется, в истории не было столь мерзкого, как в наши дни, противоречия между красивыми речами и скверными поступками. В былые времена – нисколько их не идеализирую – одни произносили хорошие слова и не делали сознательно нехороших дел; другие делали сознательно нехорошие дела, но не произносили хороших слов. Или, по крайней мере, прежде это противоречие было менее заметно. Если все будет идти по-нынешнему и если XXI столетие наступит, то наши политические, наши философские идеи окажутся до смешного бесполезными – вроде как в странах полярного климата были бы до смешного бесполезны красивые южные дворцы с террасами, со сквозными галереями. Диктаторы далеких веков ставили себе определенную цель, в большинстве случаев разумную, – у римлян даже в законе указывалась цель избрания диктатора: dictator rei gerundae causa [114]114
Диктатор для пользы дела (лат.).
[Закрыть]. Теперь в Европе негритянским нравам соответствуют негритянские царьки. Все это, как говорит один мой приятель, кончится как Марна: в Шарантоне. Разумеется, в мировом Шарантоне. И право, не надо бы кричать ни о 14 июля, ни об 11 ноября теперь, когда в Берлине сидит Гитлер, а… (он хотел добавить: «а в Москве Сталин», но опять вовремя спохватился). От идей обеих этих дат уже не сохранилось ничего; может быть, скоро ничего не сохранится, к несчастью, и от их материального содержания. Эльзас два раза переходил от немцев к французам и обратно и, верно, будет переходить еще двадцать два раза. В конце концов же им завладеют какие-нибудь монголы, так как от Европы останутся более или менее интересные, хоть смешные идеи, но не останется живых людей.
– Кассандра, не танцуйте над развалинами еще не развалившейся Трои. Что бы вы ни говорили, отжившее не вернется.
Вермандуа оглянулся на графиню и ласково ей улыбнулся.
– Знаю, что я всем надоел. Стоит ли нам огорчаться и огорчать других? Есть прекрасные женщины, прекрасные книги, прекрасные земли. Отжившее не вернется? Готов об этом пожалеть. Мне досадно, что я, по главной неосторожности своей жизни, явился на свет Божий в XIX веке. Надо было родиться лет триста тому назад. Я бы был любовником Нинон де Ланкло, знал бы рыцарей в латах, видел бы пап, носивших бороду. Вместо жуликов-издателей меня кормил бы Людовик XIV.
– Может быть, вблизи все это было и не так уж мило.
– Даже наверное. Но люди любят разнообразие. Гёте говорил: «Человечество, точно больной в постели, все мечется с одного бока на другой, как бы улечься покойнее». Еще ярче выразил эту мысль Лютер: «Мир, что пьяный мужик верхом на осле: поддержишь его слева, он падает направо; поддержишь его справа, он падает налево…»
– Дорогой друг, вы положительно злоупотребляете цитатами.
– Это худший из моих пороков… И я нисколько не удивлюсь, если в Германии на смену Гитлеру придет немецкий Сталин…
– Аминь! – воскликнул Кангаров. Но французы не поняли его восклицания, так как он произносил «amigne».
– …А в России на смену Сталину придет русский Гитлер, – закончил за Вермандуа банкир, не очень церемонившийся с хозяином: договор о сделке уже был подписан.
– Это высказали, неисправимый буржуа, – примирительно произнес Вермандуа.
– Как вы советуете, cher maître? Кирш, мараскин и арманьяк? – опять поспешно спросил Кангаров, с неприятным чувством оглянувшись на Вислиценуса.
XXI
К кофе гости за столом переместились. Кангаров покинул свое место и, перенося с собой стул, стал подсаживаться то к одному гостю, то к другому: поговорил с графиней, с Серизье, сел между Тамариным и Надей; это была конечная цель его маневра. Обед удался на славу, приглашенные получили все, на что могли рассчитывать, от мыслей Вермандуа до хереса и шампанского; теперь хозяин мог подумать и о своем удовольствии, тем более что общий разговор не умолкал ни на минуту. Не принимал в нем участия только Вислиценус. «Хоть бы из приличия слово сказал. Ну, да черт с ним!..» – подумал Кангаров, но не очень сердито: так был доволен своим вечером.
– Правда, обед был на ять, Командарм Иванович? – спросил он, садясь между Тамариным и Надеждой Ивановной. – Я думаю, можно теперь поболтать и по-русски, они не слышат.
– Отличный обед, тут кормят на славу, – ответил Тамарин и на всякий случай добавил: – По крайней мере, если судить по-нынешнему. – Не надо было думать, что он иногда и один заходит в столь дорогой ресторан. Тамарин в самом деле тут не был двадцать пять лет; в начале обеда он старался вспомнить, когда именно и с кем был в этом ресторане в последний раз. Воспоминание о потонувшем мире было теперь ему так странно. Здесь его больше всего смущала разнородность общества; вся его жизнь прошла в обществах весьма однородных: сначала среди гвардейского офицерства, позднее в советской бюрократии. И хотя Надежда Ивановна к его обществу отнюдь не принадлежала, он тут, естественно, держался ее – вроде как теснятся инстинктивно друг к другу, делая вид, что находят все очень интересным и хорошим, христиане, случайно попавшие в синагогу или мечеть.
– Вот куда уходят народные деньги! – сказала Надя. Вернее, чуть заплетавшийся язык ее сам выговорил почему-то эти слова, вероятно, по принципу наименьшего усилия: ей часто случалось их произносить. Если б не вино, она и в шутку не позволила бы себе здесь таких слов, несмотря на отеческое отношение к ней Кангарова. Посол, однако, не рассердился.
– А что, если я тебе ушки надеру за такие за слова? – ласково сказал он. – По существу, ты, конечно, права, но с волками жить – по-волчьи выть… Все-таки вкусно, – добавил он с легким вздохом, как бы показывавшим, что мысль о народных деньгах отравляет ему удовольствие от обеда. – В будущем все так будут есть каждый день. У меня в жизни – не скрываю, хоть немного и стыдно, – это большое удовольствие. Тебе как понравилась утка с апельсинами?
– Вкусно-то вкусно, но апельсины тут ни к чему, а утки у нас в Москве бывают и пожирнее.
– «Пожирнее», – передразнил Кангаров, чувствуя снова, что улыбка этой девочки, ее глаза – «сейчас пьяненькие, нагленькие», – для него дороже и важнее всего на свете. – «Пожирнее!..» – Кто-то тронул его сзади за плечо, он с неудовольствием оглянулся; за его стулом стоял с заговорщическим видом доктор Зигфрид Майер.
– Moment, – сказал он, – ein Moment. – Кангаров неохотно встал и отошел с ним к окну.
– В чем дело?
– Вы, надеюсь, не забыли? – таинственным тоном спросил немец, показывая взглядом в сторону Вислиценуса.
– Не забыл чего? Ах да, вы хотели с ним поговорить. Но ведь я нарочно посадил вас рядом, – солгал Кангаров.
– Я хотел бы поговорить с ним наедине… Двое составляют компанию, а трое нет, – любезно осклабясь, сказал Майер.
– Так выйдите в коридор, – с досадой предложил посол. Его раздражало это дело, которое упорно держали от него в секрете. – Он, кажется, говорит по-немецки, лакеи ваших тайн не поймут… А то еще проще, ступайте в этот кабинетик, вас там никто подслушивать не будет, – добавил он, показав на портьеру. Майер одобрительно кивнул головой. – Я ему сейчас скажу.
Когда Вислиценус мрачно вышел с Майером в комнатку за портьерой, Кангаров занял его место рядом с графиней, немного с ней поговорил, втравил ее в разговор мужчин об испанских делах и вернулся к Надежде Ивановне. «Теперь бы еще этого сплавить», – подумал он и обратился к Тамарину:
– Эти красавцы все жаждут узнать ваше мнение о падении Бадахоса, Командарм Иванович. Я-то его знаю. Может, вы им осветите?
– Не посрамите советской земли, Константин Александрович, – сказала Надя, сама удивляясь своей развязности.
– Да, в самом деле, постойте за нашу стратегическую школу. Ведь вы первый знаток. Блесните, блесните перед ними.
– Да какая же в этой войне стратегия! – возразил Тамарин, вместе и польщенный, и сконфуженный. Он и вообще не умел блистать, а тут надо было блистать по-французски. Однако он послушно пересел на место Вислиценуса и вмешался в разговор, который через минуту его увлек, несмотря на полную уверенность командарма в совершенной некомпетентности штатских слушателей. Ужасы испанской войны вызывали у Тамарина сожаление, – «хоть какие же войны без ужасов?» – но война радостно его волновала. Он следил за ней по газетам, как шахматный игрок, не участвующий в международном турнире, следит за тем, проверяется ли другими его идея.
– Я им подкинул Бадахос, теперь у нас есть добрых полчаса! – сказал тихо Кангаров, наклоняясь к Надежде Ивановне. Почему-то он на этот вечер возлагал большие надежды. С ужасом и счастьем он почувствовал, что почти собой не владеет. «Все равно! Все другое мне все равно! Теперь или никогда!..» – Я надеюсь, Бадахос тебя не так интересует?
– Нет, не так. А вас?
– Меня интересуешь только ты, и ты отлично это знаешь, скверная девчонка, – сказал он, не смягчая теперь своих слов обычной сладкой улыбкой. Она наивно-изумленно открыла рот. «Эти губки, я с ума схожу!..» Замирая, он совсем приблизил к ней лицо.
– Хочешь, детка, еще бенедиктина?.. Это мой любимый ликер.
– Хочу.
– Пей… Не так пьешь, дурочка. И я с тобой выпью… А потом я тебе что-то скажу…
– Ничего не скажете, и не надо… Да вы что ж себе в мою рюмку наливаете! У вас есть своя.
– Узнаю все твои мысли. А хочешь узнать мои? – почти прошептал Кангаров. Вермандуа издали бросил на них свой профессиональный взгляд. «Уже его любовница или только скоро будет? – с завистью спросил себя он. – Он смотрит на нее, как фрагонаровский Амур, снимающий рубашку с красавицы…»
Вислиценус действительно молчал все время обеда, несмотря на попытки графини ввести его в разговор. Мрачное настроение им овладело тотчас после прихода в ресторан. Еще в дверях кабинета он увидел Надежду Ивановну и сам испугался своей радости. «Как похорошела!..» Помахав ей рукой, он поздоровался с хозяином, еле назвал гостям (которые, глядя на него, старались скрыть удивление) одну из своих фамилий – первую, что пришла в голову, – и подошел к Наде. Ему, однако, показалось, что она совершенно не обрадовалась встрече. Это было неверно: напротив, Надежде Ивановне в ее первоначальном смущении было приятно всякое знакомое лицо; от растерянности она изображала светское спокойствие.
– Я так рад вас видеть! – произнес Вислиценус, крепко пожимая ей руку.
– Я тоже очень рада, – холодно ответила она и подумала: «Как он постарел! Совсем старик. Или болен?..» – Давно ли вы здесь?
– Я? Нет, не очень давно… Совсем недавно, – осекшись, ответил Вислиценус.
– И надолго в Париж?
– Да… А вы цветете, – сказал Вислиценус и удивился пошлости своих слов. – Вы надолго в Париж? – спросил он то же самое, что она. – Но как же… Как живем?
– Вашими молитвами, – столь же развязно ответила Надежда Ивановна. К ним подошел Тамарин, также державшийся русских в этом смешанном, непривычном обществе. Он приветливо поздоровался с Вислиценусом, кое-как завел с ним вполголоса, по-русски, не очень оживленный разговор; Надя изредка вставляла невпопад светские замечания. Затем появился старый французский писатель, и все стали рассаживаться. Вислиценус на минуту замешкался, места рядом с Надеждой Ивановной оказались занятыми.
Он сел на первый свободный стул, рядом с графиней де Белланкомбр. По рыжему пиджаку и по виду соседа графиня догадалась, что он здесь был самый левый – «большевистский фанатик!». Она уже перевидала немало большевиков, но ни одного фанатика до сих пор не встречала и была поэтому особенно любезна. Кангаров, вначале с тревогой на них поглядывавший, скоро успокоился. «В самом деле, ее фраками и смокингами не удивишь. Для нее, быть может, в этом пиджачке, в мягком воротничке, в желтых ботинках есть даже какое-то очарование».
За обедом Вислиценус мало ел и много пил, пил все, что наливал лакей: херес, рейнвейн, красное вино, шампанское, ликеры. В молодости у него бывали периоды, когда он пил запоем, потом бросал совершенно; в Москве как-то снова запил, бросил и в последние годы не пил ничего. Некоторая устойчивость к вину у него оставалась; Вислиценус не опьянел и не повеселел, только стал еще бледнее, и сердце начало постукивать. Он до грубости односложно отвечал графине и что-то невнятно бормотал в ответ соседу справа, который на немецком языке излагал ему соображения о неминуемом близком падении Гитлера.
Впрочем, уже с хереса гостям, не желавшим разговаривать, необходимости в этом и не было. Вермандуа овладел беседой и почти не умолкал, так что командарм с удовлетворением думал: «Ну, у этого инициативы не вырвешь». – «Собственно, чего же я ждал? Что она бросится мне на шею? Разумеется, я ей чужой человек, и надо совершенно утратить над собой контроль, чтобы мечтать о каком-то вздоре… Обидно? Но жизнь подавляющего большинства людей состоит из обид, унижений, оскорблений. Одним больше, одним меньше…» Вислиценус старался не смотреть на Надежду Ивановну и все время ее видел: против него на стене висело зеркало. «Ну да, пора забыть о вздоре, когда стоишь одной ногой в могиле, и слава Богу, что стоишь…» Иногда он заставлял себя прислушиваться к тому, что говорил Вермандуа, и раздражался еще больше, быть может, потому, что находил в его мыслях некоторое сходство со своими.
«Плоско не то, чтоон говорит, плоско, какон говорит, – думал Вислиценус, искоса бросая мрачные взгляды на Вермандуа. – Одна кокетливая улыбочка чего стоит! Он, великий, гениальный писатель, любит кинематограф! Он ходит в кинематограф, как простой смертный! Но, разумеется, все же не так, как простой смертный… Конец мира, конец цивилизации – отчего же не поговорить и об этом? Так же легко он мог бы доказывать и обратное: что мир никогда не кончится и что цивилизация переживает небывалый расцвет. Лучший довод в пользу конца цивилизации – это он сам. И серьезнейшие из его мыслей, как кровь вне человеческого тела, свертываются оттого, что он их произносит… Эти салонные болтуны говорят об инквизиторах с полной уверенностью в своем моральном превосходстве. Но первые, настоящиеинквизиторы, оклеветаны – как былиоклеветаны первые, настоящие большевики. Вопреки тому, что о них думают, они, конечно, верили в то, что делали и говорили. Не сразу и мы превратились в инквизицию без веры в Бога. Настоящие злодеи проливают кровь из выгоды, по привычке, равнодушно… – Вислиценус вспомнил со злобной радостью то, что прочел перед обедом о мировых событиях в вечерней газете. – У них крови меньше, но грязи, пожалуй, больше, чем у нас. Да не меньше и крови: у них нет чрезвычаек, но та война, которую они теперь готовят, унесет уже не десять миллионов людей, как прошлая, а двадцать или тридцать. Сальдокрови еще, пожалуй, окажется в нашу пользу, хоть мы и уморили голодом, частью сознательно, частью по глупости, по неумению, по бестолковщине, несколько миллионов крестьян, – думал он, все по своей привычке к балансам и определениям. – Но если и прав этот ученый болтун, если цивилизация кончается, то не все ли равно для тех, кто, как я, скоро, очень скоро должен сыграть в ящик?..» Вислиценуса вдруг поразило это ходячее в Москве выражение, точно он его услышал в первый раз в жизни. «Сыграть в ящик…»«Наглое, циничное, прекрасное выражение, одно из лучших приобретений нашего языка…»
Раза два его через стол о чем-то спрашивал Тамарин, раз и Надя спросила: «Как же вы все-таки поживаете?» «Кажется, и имя-отчество забыла, – подумал он и хотел было ответить: ничего, думаю скоро сыграть в ящик, – но ответил: – Ничего, спасибо, вы как?» Однако она уже заговорила со стариком-французом. Потом, к концу обеда, к ней подсел Кангаров, и почему-то это было Вислиценусу чрезвычайно неприятно. Он отвернулся, стал мрачен, как туча, и пил все больше. «Вздор, конечно… Как многие грубые натуры, он склонен к платоническим увлечениям. Противен этот запах еды, вина, папирос… Все противно!..» Вдруг у него закружилась голова, в верхнюю часть груди снова вонзился кол, и заболела рука, и сердце застучало страшно, как никогда до того не стучало. «Если сейчас сыграю в ящик здесь, большая будет неприятность этому прохвосту, – подумал он. – Зато у нас кое-кто будет очень доволен…»
И снова, как тогда в кофейне, но по-иному, его пронзила мысль о расстрелянных в Москве людях, старых товарищах, теперь уже гнивших в безвестной могиле. «Я почти никого из них не любил. Но какие бы они ни были, эти люди прожили всю жизнь во имя революционной идеи – и умерли опозоренными, купаясь в грязи. Был до войны революционер, просидевший двадцать лет в Шлиссельбурге и затем, по выходе из крепости, поступивший на службу в охранку. Они свою жизнь наладили почти столь же разумно…» В этой обстановке дорогого ресторана, за уставленным бутылками столом мысль о погибших в застенке людях была по неожиданности особенно дика и страшна. Сердце у него стучало все сильнее. Вислиценус взглянул в зеркало и над лысиной финансиста увидел свое лицо. «Да, краше в гроб кладут, в ящик…»Внезапно в зеркале показался ящик– не гроб, а именно ящик и какой-то странный, грубый, неоструганный, желтоватый, точно из-под посуды, с соломой. Им овладел непонятный ужас. «Кажется, я в самом деле начинаю сходить с ума. Вторая галлюцинация за день!..»
– Товарищ Дакочи, с вами хотел бы уединиться этот почтенный тевтон, – сказал за ним неприятный голос. – Что с вами? Вы нездоровы?
– Нет, пустяки, выпил чуть больше, чем нужно. Ну, что ж, я готов с ним поговорить. Но где же?
– Если хотите, пройдите с ним вон туда. Там вам никто не помешает. Этот кабинетик с диваном, верно, служил грандюкам [115]115
Великие князья. – фр.grands-ducs.
[Закрыть]и их дамам не для политических бесед. Были грандюки, товарищ Вислиценус, а теперь мы с вами… Лучше всего туда пройдите. Если ненадолго, то никто и не заметит.
Пока Кангаров говорил с Майером и Вислиценусом, Надежду Ивановну очень любезно занимал граф де Белланкомбр. Но в отличие от других старичков он от ее близости явно не испытывал ни волнения, ни радости – Надя, как всегда, это тотчас почувствовала с легкой досадой. «Может быть, для него существуют только графини и княгини? Ну и пусть радуется на свою красавицу!..» Впрочем, на свою красавицу граф радовался тоже не слишком: почти на нее не смотрел, а когда смотрел, то без особой нежности. Граф очень мало ел, пил только минеральную воду и совершенно не слушал того, что говорили за столом. «Верно, недоволен, что попал в дурное общество», – подумала Надя, с неудовольствием сознавая, что, несмотря на ее взгляды, ей внушает – не уважение, конечно, но какой-то повышенный интерес графский титул этого старичка.
Она ошибалась. Граф действительно всех участников обеда, в их числе и свою жену, считал людьми дурного общества; но это было ему совершенно безразлично, так как в столь же дурном обществе он находился почти всегда: и в разных правлениях, в которых состоял или числился членом, и в клубах, где играл в бридж с банкирами, с промышленниками, с мнимыми, да и с настоящими аристократами, которые, с точки зрения его деда, были бы немногим лучше большевиков и социалистов. Разговоры за столом не интересовали графа: он такие же, или немного лучшие, или немного худшие разговоры слышал раза два в неделю в салоне своей жены. Вермандуа, как хорошо знал граф, мог так же гладко и учено, с цитатами и с афоризмами говорить о чем угодно. Женщины давно волновали графа лишь теоретически, да и то не очень. У него к ним теперь было ласково-ироническое отношение, осложненное приятными воспоминаниями да еще тем, что почти все они необыкновенно бестолково играли в бридж (не верили, что не имеют об игре и понятия). А так как врачи строго запретили графу спиртные напитки, предписали диету, на ночь же настойчиво советовали есть очень мало и по возможности лишь фрукты и овощи, то он скучал на всех обедах, одинаково с большевиками и с герцогами.
Занимал его главным образом вопрос: когда кончится обед? Если б гости разошлись в одиннадцать, он мог бы еще заехать в клуб и там сыграть несколько робберов. Граф считался одним из лучших знатоков бриджа во Франции, его именем была названа какая-то impasse [116]116
Комбинация в бридже (фр.)
[Закрыть], и в клубах его участия в партии добивались как особой чести и радости; он это шутливо приписывал «мазохизму»: люди, игравшие с ним, имели разве двадцать шансов из ста на выигрыш при случайной партии и ни одного шанса при партии постоянной. Играл он всегда очень спокойно, без споров (впрочем, спорить с ним никто и не решился бы), без попреков, без замечаний, самые трудные комбинации разыгрывал, как будто почти не думая, чрезвычайно быстро и притом так, что обычно и в этот, и на следующий день в клубе почтительно обсуждали его розыгрыш.
Шансов, что вечер советского посла кончится в одиннадцать, было, он чувствовал, очень мало. Первую, не серьезную, предварительную заявкуо том, что пора по домам, сделает кто-либо, скорее всего Вермандуа, еще не скоро: для выражения благодарности хозяину за обед потребуется полтора или два часа послеобеденной беседы. Граф знал также, что эта первая предварительная заявка об уходе будет сразу решительно отклонена, даже почти без слов, просто выражением ужаса, обиды и отчаяния на лице хозяина. Потом, минут через двадцать, можно будет сделать вторую заявку, на которую хозяин ответит уже менее решительным протестом, а еще минут через десять гости по-настоящему простятся и разъедутся. Но тогда, в первом часу ночи, жена, конечно, потребует, чтобы он с ней вернулся домой. Таким образом, на партию в этот вечер рассчитывать не приходилось. Граф ел салат, пил виши, говорил изредка несколько слов соседям, иногда, не очень похоже, делал вид, будто с интересом прислушивается к умной беседе, и думал, что, если б не проклятое приглашение и не его жена, можно было бы теперь в клубе, за столом, с надеждой сдавать карты или разыгрывать трудную партию, при общем сосредоточенном внимании – у него за спиною, следя за его игрой, обычно толпились люди; он принимал это как должное и не раздражался даже тогда, когда подходили лица, заведомо приносившие несчастье. «Как все-таки нет у людей мужества откровенно раз навсегда предпочесть настоящие, искренние, неподдельные удовольствия – глупым и притворным?..»
Встретившись взглядом с Тамариным, который думал о постели и о томике Клаузевица, граф инстинктом почувствовал в нем союзника и улыбнулся: знал, что на всех званых обедах существуют правительственная партия, вполне всем довольная, и оппозиция, иронически порицающая или даже (в зависимости от темперамента) проклинающая обед и хозяев. Здесь, он чувствовал, оппозицию составляли он сам, этот старый генерал и странный человек, сидевший рядом с его женой.
Он видел также, что странный человек интересует графиню. «Верно, скоро будет у нас в салоне». Граф вздохнул и тихо спросил соседа слева, кто этот человек. Узнав, что это известный революционер, член Коммунистического Интернационала, называющийся в настоящее время Вислиценусом, граф одобрительно кивнул головой, несколько подняв брови кверху, в доказательство того, что слышал, понимает и ценит. Теперь было ясно, что человек в рыжем пиджаке непременно будет почетным гостем их дома. «Все-таки чего ей нужно? Можно было понять, когда она гонялась за лордом Бальфуром… Но теперь, кажется, у нас перебывали все». Он лениво еще подумал, что следовало бы у кого-нибудь узнать, кто сосед слева. «А впрочем, совершенно все равно…»
Вислиценус, преодолевая сильную боль (теперь перескочившую на лопатку), угрюмо слушал немца. Он и вообще недолюбливал либералов, радикалов, умеренных социалистов. Немецкие же демократы были особенно ему неприятны оттого, что без единого выстрела, без малейшей попытки сопротивления отдали власть Гитлеру, да еще потому, что в былые времена всячески заигрывали с большевиками и рассыпались перед ними в любезностях (изредка делая, впрочем, оговорки относительно «эксцессов»). Передовые адвокаты, оказавшиеся одновременно специалистами по русской душе и по макиавеллической внешней политике, демократические банкиры, громившие юнкеров и помещиков и устраивавшие королевские обеды, на которых за стулом каждого гостя стоял лакей в коротких брюках и шелковых чулках, либеральные писатели, считавшие Ленина слишком умеренным человеком, скупленные дельцами газеты, ежедневно печатавшие своднические объявления и в каком-то высшем смысле требовавшие, чтобы Россия довела до конца, непременно до конца, свой великий социальный опыт, – вызывали у него чувство, близкое к отвращению. Все эти люди верили в свободу, пока она обеспечивала им хорошее общественное положение. Быть может, своего класса они и не предавали, так как их программа, поскольку дело касалось Германии, была вполне умеренной и буржуазной: ширь их натуры сказывалась лишь в отношении России. Но это были типичные предатели идеи, хотя бы и скверной, но ими усвоенной: идеи либерализма XIX столетия. Разумеется, их услугами можно и должно было пользоваться, пока они составляли правящий класс; однако Вислиценус со дня прихода к власти Гитлера ловил себя на злорадном чувстве в отношении этих людей.
Доктор Майер был, по его мнению, характерным их представителем. В дни его светского и политического величия Вислиценус был у него раза два или три. Майер, побывавший в министрах (это было сказкой его жизни, скрашивавшей и теперь ему существование), тогда принимал «весь Берлин». Впоследствии люди из «всего Берлина», которые еще весьма недавно сочли бы для себя большой честью и успехом приглашение в дом Зигфрида Майера, старательно не узнавали его на улицах. Он бежал в Чехословакию, перекочевал в Швейцарию, затем во Францию и, как говорили, бедствовал во всех трех странах. По мнению Вислиценуса, самым удивительным в этом деле было то, что такой человек не вывез за границу денег.
Майер начал с очередных похвал великому опыту (об «эксцессах» более речи не было), высказал мнение, что мировой демократии должно опереться на СССР – было бы глупо лишать себя столь могущественного союзника в борьбе с общим врагом, – сообщил, что был бы счастлив отправиться в Москву.








