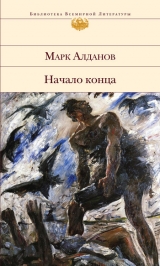
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
И опять, уже без прежнего увлечения, в тысячный, вероятно, раз он себе представил арест, тюрьму, суд, ожидание гильотины, казнь со всеми теми же подробностями, которые прежде его волновали, с «Мужайтесь, Альвера, час искупления настал!», с рюмкой рома, со своими улыбками и ответами. «Да, страшного, кажется, ничего нет, но и радости тоже мало. И если ремесло убийцы безопаснее ремесла углекопа, то все-таки степень безопасности не такова, чтобы избирать это ремесло без вполне разумных проверенных оснований». Так же лениво спросил себя: «Уж не вздор ли все это? не навязчивая ли идея сходящего с ума человека? – и так же отбросил это предположение. – Теперь, во всяком случае, рассуждать поздно, – тяжело зевнув, сказал он вслух и испугался: надо во что бы то ни стало отучиться от этой дурной и опасной привычки».
Есть ему по-прежнему не хотелось, но он подумал, что нельзя уходить на дело, не подкрепившись: «Вдруг головокружение, обморок или что-нибудь такое – и пропал!..» Заставил себя съесть кусок ветчины. Затем взглянул на часы, зевнул, почти весело потянулся, проверил револьвер, надел перчатки и вышел. В дороге он, подойдя к книжному магазину и как бы внимательно рассматривая близорукими глазами книги, вынул футляр, надел очки. Никто на это не обратил внимания – «совершенно естественно»… Этот прием был маленькой импровизацией: строгая предусмотрительность все же должна оставлять кое-что и на долю находчивости. Он остался собой доволен. С чувством некоторой неловкости, происходившей от очков, все же не совсем еще привычных, он отправился на вокзал. Альвера был спокоен, только зевота стала нестерпимой. И было приятное сознание, что никто из бесчисленных проходивших мимо него людей ничего не может прочесть в его намерениях и чувствах. «Да, да, иду нарушать человеческие и божеские законы, и никто из вас этого не видит, и я всех вас совершенно презираю, как, верно, волк презирает овец…»
XVIII
– …Если на то пошло, дорогой Вермандуа, – сказал финансист, – то не можете ли вы заодно сообщить мне Дату конца мира? Она должна иметь некоторое значение для биржи.
– Которая, кстати, кажется, сегодня ужасна, – в полувопросительной форме заметил небрежно Серизье. Финансист, улыбаясь, пожал плечами и возвел глаза к потолку. Он о делах всегда говорил так, точно они его совершенно не интересовали и разве только немного веселили: будто занимался он ими в шутку, или подчиняясь Божьей воле, или чтобы сделать кому-то одолжение. – Отличное вино херес, его можно, в сущности, пить к любому блюду.
– Отчего же вы не верите, господа, в близкий конец мира? – спросил Вермандуа с полуулыбкой, соответствовавшей его полушутливому тону: для серьезного разговора о таких предметах отдельный кабинет ресторана был местом неподходящим. – Наука, конечно, избегает обсуждения этого вопроса, так как ей совестно: зачем же в таком случае ее держать? Но, я помню, в свое время между двумя моими друзьями, очень почтенными естествоиспытателями, шел спор на страницах научного журнала. Один, исходя из мысли об истощении солнечной энергии, утверждал, что Земля непременно погибнет от холода. Другой, ссылаясь на работы великого Клаузиуса, говорил, что Земля погибнет не иначе как от жара.
– Это разногласие нас все-таки несколько утешает, – вставил Серизье. – Может быть, чтобы примирить двух великих ученых, температура Земли останется более или менее нормальной.
– Я предпочитаю холод. Обожаю зимний спорт и нигде не чувствую себя лучше, чем в Сен-Морице, – сказала графиня де Белланкомбр. – А вы?
– В общем, – продолжал Вермандуа, – так называемые точные науки, то есть науки, несколько менее неточные, чем другие, предусматривают немало печальных возможностей, при которых жизнь на нашей милой планете непременно должна погибнуть. Потеря кислорода в воздухе – раз; погружение материков – два; столкновение двух солнц – три; столкновение Земли с кометой – четыре… Других не помню, но…
– Не трудитесь вспоминать, cher Maître, первых четырех возможностей совершенно достаточно, чтобы отбить у нас аппетит.
– Тогда я протестую, – сказал Кангаров, – нас ждет утка с апельсинами.
– О-о!
– Будем надеяться, что Земля не столкнется с кометой до того, как нам подадут утку.
– Графиня, вы напрасно шутите. Известно ли вам, что Земля чуть было не столкнулась с кометой 1811 года, которая, впрочем, более замечательна тем, что дала Толстому возможность закончить том «Войны и мира» одним из лучших эффектов в истории литературы; он даже и назвал ее для большего эффекта кометой 1812года. Если бы столкновение произошло, то совершенно одинаково сгорели бы, по соседству, Наполеон и Александр, а с ними заодно и все человечество.
– По радостному случаю избавления от такой катастрофы надо выпить еще, – предложил финансист. – Тем более что та же комета дала нам знаменитое вино.
– Да, но что, если она вернется? По-моему, она непременно должна вернуться. Это шло бы к общему разумному характеру нынешних событий.
– Как досадно, – сказал Серизье, отпивая глоток вина. – Я совершенно не чувствую себя способным к карьере Жанны д’Арк или Джордано Бруно. А вы?
– Почему такое пренебрежение к рейнвейну, господа? В вопросе о белых винах я германофил, – заявил Кангаров. – Нет, ради Бога, не курите до сыра…
– Я буду курить и в минуту конца мира.
– Если говорить без шуток, – сказала графиня, – то я во все эти ужасы совершенно не верю. Бог этого не допустит! – Она положила руку на рукав смокинга Кангарова. – Я знаю, вы безбожник. В политике я вам сочувствую, по крайней мере, на семьдесят пять процентов, меня все считают большевичкой. Но Бога я вам ни за что не отдам, – с улыбкой сказала она, – ни за что!
– Дорогая графиня, я не потребую от вас такой… Детка, как по-французски жертва? – по-русски обратился посол к Надежде Ивановне, сидевшей против него на другом конце стола.
Надежда Ивановна сначала приуныла, когда в кабинете появилась графская чета. Графиня была женщина средних лет – «и красоты совсем средней», – но на ней были пелерина из черно-бурой лисицы и черное платье. «Тоже черное, а другое! Ах, Боже мой!» – со вздохом подумала Надя. Сотуар [88]88
Шейная цепочка ( фр. sautoir).
[Закрыть]на шее у графини был совершенно неправдоподобный по длине нити и по качеству жемчужин, а браслетов она носила столько, что Надежда Ивановна чуть не ахнула. Если б это была какая-нибудь банкирша, то Надя приписала бы множество браслетов безвкусию: ей и по книгам, и по кинематографу было известно, что жены банкиров одеваются безвкуснов отличие от аристократок. «Однако ведь настоящая графиня!» Браслеты, сотуар и черно-бурая лисица графини де Белланкомбр были вне пределов возможностей и мечтаний Надежды Ивановны; зато она заметила для себя все остальное: сумку, чулки, особенно перчатки, какие-то странные, зеленоватые, которых Надя, опасаясь безвкусия, никогда не купила бы в магазине. «Ничего, старушке никакие браслеты не помогут!» – утешала себя она.
Кангаров не рассаживал гостей, с улыбкой предложив всем садиться «кто как и где хочет». Но само собой вышло так, что наиболее почетные гости, графиня и Вермандуа, оказались справа и слева от хозяина; им же предназначалась и сладчайшая из его улыбок. По другую сторону графини сел Вислиценус, за ним доктор Майер, граф, Надежда Ивановна. За Вермандуа разместились финансист, Серизье, Тамарин. Таким образом, желание Надежды Ивановны исполнилось лишь наполовину: справа от нее оказался Константин Александрович; но слева был француз, да еще граф! – ни с каким графом Надежда Ивановна никогда за столом не сидела. «О чем же разговаривать с этим старичком?» – с ужасом подумала она и бросила умоляющий о помощи взгляд Тамарину. Старичок, однако, оказался совершенно не страшный. Он любезно занимал ее несложными вопросами – давно ли она во Франции? нравится ли ей Париж? Иногда заговаривал со своим соседом слева, немцем; по-видимому, не видел ничего неприличного и в том, чтобы помолчать минуту-другую.
Лакей разлил херес. Надежда Ивановна выпила залпом и лишь потом подумала, что это неблагоразумно. Ей тотчас стало легче и веселее. В Москве она, случалось, выпивала и пять, и шесть рюмок водки или наливки и только раз в жизни была пьяна – в тот день, когда ее в первый раз поцеловал Сашка Павловский, говоривший, что она пьет с ним «нога в ногу». К рыбе подали еще какое-то белое вино в красивых длинных и узких бутылках, каких Надя никогда не видела. Наде хотелось его попробовать, но она не знала, как это сделать: перед ней стояло несколько стаканов, – в какой наливать? – опять она стыдилась и того, что не знает правил буржуев, и того, что это ее конфузит: «стоит ли обращать внимание на их китайские церемонии!..» Лакей налил ей вина, оно оказалось горьковатым – водка вкуснее, – но зато стало совсем легко. Надя искоса поглядывала, как ест граф трудную рыбу, и поступала так же, как он, и все выходило отлично, и она не только больше не боялась старичка, но сама задавала ему светские вопросы. «Ничего, граф как граф. Смешные они, французы», – шепнула Надежда Ивановна Тамарину. Старички на нее смотрели гораздо больше, чем на графиню; ей показалось даже, что графиня не совсем этим довольна. Это очень обрадовало Надежду Ивановну. «Так ей и надо, старой ведьме!..»
– Какое заблуждение, дорогая! – сказал Вермандуа – Пророк Исайя говорит: «Vox multitudinis in montibus quasi populorum frequentium. Ululate quia prope est dies Domini: quasi vastitas a Domino veniet… Ecce dies Domini veniet crudelis. Et visitabo super orbis mala. Et pretiosior erit vir auro et movebitur terra de loco suo…»
– Какая память у этого человека! Но снизойдите к нашему невежеству и переведите.
– Цитирую и перевожу не дословно: «Шумен в горах гул многих народов. Войте, ибо близок день Господень. Почти все будет истреблено. Воздам вселенной за зло ее, и будет человек реже золота, и задрожит земля на месте своем…» Нет злободневнее публицистов, чем библейские пророки: ведь это написано точно о нынешнем дне. «Шакалы, – говорит еще Исайя, – будут жить в пустых чертогах, и змеи в увеселительных садах…» Тут он, может быть, и преувеличивает. Но и у пророка Иоиля сказано: «Оставшееся от гусениц съела саранча, оставшееся от саранчи съели кузнечики, оставшееся от кузнечиков доели мошки… Рыдайте, пьяницы, о вине, которое отнято от уст ваших». Пока нет ни кузнечиков, ни мошек, выпьем еще рейнвейна, – добавил Вермандуа. Все смеялись, кроме Вислиценуса и Тамарина. «А мне казалось, что это черта только русских людей: богохульствовать, выпивши», – подумал командарм.
Ему было скучновато. Думал, что хорошо было бы поскорее вернуться в свой привычный, удобный, одинокий номер и лечь в постель с книгой. Впрочем, попав на этот обед, Константин Александрович старался извлечь из него, что можно, и отдавал должное винам, особенно хересу: «с потопа такого не пил…» Вначале он потчевал Надю. «Только для вас, чтобы вас не обидеть», – говорила Надя, все смелея от вин. «За папу… А теперь за маму…» Потом Тамарину показалось, что его соседка выпила больше, чем нужно, и он перестал ее угощать.
– Ваши цитаты неубедительны, месье Вермандуа, – сказал Серизье, не желавший употреблять слово «мэтр»: они оба были «мэтры», хоть и в разном качестве. – Еврейские пророки имели в виду определенные события в жизни одного еврейского народа: кажется, разрушение Иерусалима, или Вавилон, или что-то еще такое, но никак не конец мира.
– Бедный человек! – ответил Вермандуа, сокрушенно качая головой. – А это из другого источника, что, тоже о Вавилоне? «Audituri enim estis praelia et opiniones praeliorum. Videte ne turbemini, oportet enim hau fieri, sed nondum est finis. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum; et erunt pestilentiae et fames, et terral motus per loca. Haec autem initia sunt dolorum» [89]89
«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней» (лат.).(Евангелие от Матфея. 24, 6–8).
[Закрыть]. – Лицо его немного побледнело, и голос зазвучал необычно. Все замолчали, хоть никто цитаты не понял. – Кажется, тут цитирую без ошибок. Во всех отношениях, даже просто по звуку,по удельному весу слова,нет ничего сильнее и значительнее этих строк. До сих пор я никогда не мог понять, не мог охватить прямого смысла загадочной главы. Начинаю понимать только теперь: Nondum est finis.Haes autem initia… [90]90
«Но это еще не конец.Все же это началоболезней…» (лат.)
[Закрыть]Заметьте, вся настоящаялитература, церковная и светская, художественная и философская, все вообще, над чем три тысячи лет думают умнейшие из людей, это эсхатология в самом подлинном и достаточно страшном смысле. Обратитесь ли вы к литературе богословской – она необъятна, я едва ли знаю ее тысячную долю, – все отцы церкви, за исключением, кажется, св. Иренея, утверждали, что мир стар, что мир дряхл, что мир идет к концу, что мир – издыхающее тело, которое перед смертным часом грызут неизлечимые болезни, что мир – готовый рухнуть дом, от которого уже отваливаются камни, что настал закат мира: in occasu saeculi summus…
– Можно найти примеры и ближе, – на очень дурном французском языке вставил доктор Зигфрид Майер, давно чувствовавший, что надо и ему сказать хоть что-нибудь. – Фридрих Ницше прямо говорит, что скоро наступят конвульсии мира и что он последний философ: «Den letzten Philosophen nenne ich mich, denn ich bin der letzte Mensch…»
«У него в голосе две основные ноты, это напоминает сигнал парижской пожарной команды», – подумал Вермандуа, не прекращавший наблюдений и во время своих монологов.
– Страшная мысль: что, если все они несут постыдную ерунду? – шепотом сказала Тамарину Надя. Командарм посмотрел на нее и вздохнул.
– Как замечательны эти слова Ницше! – сказала графиня, обращаясь к немцу. Она задумалась: уж не пригласить ли его на один из ближайших вторников. «Но он так плохо говорит по-французски… Посмотрим…» Графиня была в хорошем настроении духа. Обед советского посла очень удался. В этой философской беседе необыкновенно левых людей было что-то очень поэтическое, что-то от последних римлян, или от византийцев, или от каких-то древних богословов, которые вели хитрый ученый спор в каком-то городе, осажденном какими-то варварами. Графиня не вполне ясно представляла себе, кто варвары и кто кого осаждает, но она была очень довольна.
Высоким светским положением графиня де Белланкомбр была обязана главным образом своей необычайной способности волноваться и как-то особенно напористо выражать волнение по самым разным, преимущественно политическим поводам. У нее были и другие данные для блестящего положения; но без этой способности ни одно из них ей такого положения создать не могло. Происхождения она была южноамериканского. Вермандуа, считавшийся у нее в доме своим человеком и потому позволявший себе иронические замечания о хозяйке не только за глаза, но и в глаза, говорил, что свою биографию она должна начинать со дня приезда в Париж: «Вашу раннюю юность надо пропускать, как Моммзен в своем знаменитом труде пропускает весь начальный период истории Рима, не заслуживающий, по своему легендарному характеру, внимания серьезного историка». Графиня притворно сердилась: она, по ее словам, принадлежала к знатной испанской семье, почему-то утерявшей титул и давно переселившейся в Южную Америку; до падения монархии имела право на табурет при мадридском дворе; отец же ее мог оставаться в шляпе в присутствии испанского короля. Воспитывалась она во французском католическом монастыре и была набожна; благочестие в ней уживалось с необыкновенно левыми взглядами. Брак ее с графом де Белланкомбр был устроен родителями по расчету. Она принесла в приданое мужу состояние большое, но не огромное. Муж, бывший много ее старше, дал ей титул звучный, но не исключительный по блеску. Брак оказался несчастливым: друзья говорили, что граф изменял жене «сколько мог и пока мог»; говорили также, что супруги терпеть не могут друг друга; они этого почти и не скрывали.
Политические деятели, бывавшие в салоне графини де Белланкомбр, приписывали ее высокое положение знатности и богатству; знатные и богатые люди приписывали его уму и образованию графини. Ее салон называли то «первым политическим салоном Парижа», разумея качество, то «последним политическим салоном Парижа», исходя из принятого взгляда, будто салоны исчезают или могут когда-либо исчезнуть. Впрочем, говорили это и о десятке других домов. Занимались в салоне не политическими идеями, а политическими людьми, причем признанного властителя, каким в других, сходных, гостиных были Клемансо, или Жюль Леметр, или Анатоль Франс, у графини не было. Считался салон левым, но бывали в нем и люди консервативных взглядов. Граф де Белланкомбр принадлежал к республиканскому союзу, иными словами, был монархистом. Впрочем, о нем никто не говорил и не думал. Интервьюерам, беспрестанно обращавшимся к графине и, по ее словам, отравлявшим ей жизнь, никогда и в голову не пришло бы обратиться к графу – разве только с анкетой о бридже, в котором он пользовался большим авторитетом. Но так как графиня себя называла «большевичкой на 75 процентов», а граф сочувствовал монархистам, то в салоне встречались люди, едва между собой раскланивавшиеся в других местах, – говорили, что такое сочетание гостей может себе позволить только госпожа де Белланкомбр. Это было особенностью ее салона, благодаря которой им дорожили и левые, и правые: и тем и другим их собственная среда достаточно надоела; общество врагов в невражеской атмосфере было по ощущениям острее; многие предпочитали говорить любезности врагам, а не друзьям. У графини де Белланкомбр помирились два знаменитейших политических деятеля, и это упрочило славу салона, придав ему почти исторический характер.
Возраста у графини до недавнего времени не было. Ее специальностью была молодость духа; она прочно причислилась к молодым, и до некоторых пор это шло отлично; но в последнее время юные дамы, с которыми она продавала шампанское на благотворительных базарах, говорили ей с искренним жаром: «Вы моложе нас всех!» – и что-то в их сияющих улыбках было не совсем приятно графине; молодость духа действовала все же лишь до некоторого предела. Графиня была очень добра, часто устраивала разные благотворительные вечера, рассылала билеты, ездила с подписными листами; жертвовала и сама деньги, однако немного: большая часть ее вклада была натуральной и заключалась в инициативе, в советах, в общественной бодрости. Говорили, впрочем, что она благодетельствует некоторым людям тайно, но тут же добавляли, что это всего лучше и в религиозном, и в экономическом отношении.
Имел салон графини некоторые второстепенные особенности. Обедали в ее доме по-старинному, на полчаса раньше, чем в других местах. В числе блюд два или три были изобретены специально для салона бывавшим в нем известным гастрономом. Иностранцам было легче попасть в салон, чем французам, вроде как иностранцам легче, чем французам, получить орден Почетного легиона. Салон и вообще не считался особенно замкнутым – карьера была открыта талантам, – в дом графини мог попасть всякий знаменитый или подающий твердые надежды на славу человек, если он умел прилично себя вести и если все-таки не выходил из некоторых, хоть очень широких, политических пределов. Пределы же эти не были установлены раз навсегда и понемногу раздвигались в связи с общим ходом истории. Так, знаменитые немцы и мечтать не могли бы о салоне графини еще в 1920 году, но были в него допущены в 1922-м. Так и большевики появились в доме не сразу, притом сначала лишь к чаю, а не к обеду; графиня была одной из пяти или шести дам, каждая из которых гордилась тем, что первая начала принимать у себя большевиков и что именно ей подражали в этом другие (как версальские придворные стали подвергаться операции фистулы после того, как эта операция была сделана Людовику XIV). Для советских деятелей условие славы заменялось условием видного положения в партии или большой осведомленности в международной политике: советские дипломаты в последнее время ценились на вес золота. Французских коммунистов графиня еще не принимала. Ее большевистские симпатии отчасти вытекали из симпатий к России, отчасти с ними сплетались. Вермандуа советовал ей душиться смесью «Amou Daria» и «Cuir de Russie» [91]91
«Амударья» и «Русская кожа» (фр.).
[Закрыть], а на маленьком столике в гостиной держать томик Достоевского – «но, Боже вас избави, не большие его романы, – сейчас лучше всего «Вечный муж», он в страшном повышении».
Говорил он это благодушно, так как любил графиню де Белланкомбр или, по крайней мере, относился к ней с меньшим отвращением, чем к большинству других людей. Вдобавок привык к ее удобному, хорошо поставленному дому. Особенности ее снобизма были не очень ему интересны, знал он ее наизусть, да и думал, что знать, собственно, нечего. Удивляли его в графине лишь ее глаза – прекрасные, глубокие, черные, обведенные кругами, «не теми, что бывают при болезни почек», и еще больше удивляло, что она была необыкновенно музыкальна, притом без всякой рисовки, без оглядки на моду, без желания непременно открыть своего гения, как Полина Меттерних «открыла Вагнера». Графиня могла часами, с неподдельным наслаждением, слушать самую трудную, мало доступную музыку. В ее салоне изредка устраивались музыкальные вечера, всегда очень хорошие, ставившие слушателям требования, которых многие не выдерживали: незаметно исчезали или переходили в бильярдную. Графиня слушала, сидя на стуле, в странной, не светской позе, как-то набок, охватив правой рукой левое плечо, и глаза ее при этом принимали выражение, обычно называемое потусторонним. «Фальшиво-духовные глаза? Или что-то затерял Господь Бог, создавая душу этой неумной женщины», – думал тогда, глядя на нее, Вермандуа.
– Мне было неизвестно это выражение Ницше, – сказал он немцу, лицо которого тотчас приняло такое выражение, точно он рад был сделать ценный подарок знаменитому человеку. – Но я именно и хотел сказать, что наряду с религиозной литературой то же самое говорила литература, в отношении благочестия весьма подозрительная. Первой можно дать конформистское истолкование, хоть слишком и в ней велика сила неконформистского выражения. Вторая же такому истолкованию не поддается никоим образом. Смутное или определенное сознание близости концабыло у величайших мыслителей мира. Они утешались как могли. Платон где-то высказывает надежду, что через пять или через десять тысяч лет мир возродится; человеческая душа выберет для себя новое тело и снова воскреснет для земной жизни… Будем надеяться, что это так, – вздыхая, вставил он, – пять или десять тысяч лет как-нибудь переждать можно. На некоторое время я, пожалуй, теперь и не прочь бы закрыть глаза и заткнуть уши. В самом деле, было бы хорошо в первые пять тысяч лет после нынешних событий не читать никаких газет («и романов моего друга Эмиля», – хотел было добавить он, но удержался из товарищеской корректности). С другой стороны, воскреснуть в новом, чужом и чуждом мире с воспоминанием о мире прошлом – это тоже, может быть, несколько скучновато. Как вы думаете, дорогой друг? Помните, кстати, что срок для каждой души, по Платону, может зависеть от ее качеств и от заслуг носителя ее первого тела. Имейте это в виду, – обратился он к финансисту, давно чувствуя, что надо понизить тон разговора.
– Не думаете ли вы, однако, что тут есть некоторое противоречие? – спросил в том же весело-ироническом тоне Серизье. – По вашим словам, решительно все умные и ученые люди всегда думали, что мир идет к концу. Однако мир, слава Богу, еще кое-как существует. Неужели были правы люди глупые и невежественные?
– Это, конечно, довод, не лишенный силы. Климент Римский отвечал на него так: «Безумцы говорят: «слышали мы это в дни отцов наших, и вот мы состарились, и ничего этого не было». – «Взгляните же на дерево, – отвечает безумцам Климент, – сначала оно теряет листья, потом…»
– Ради Бога, довольно Климентов! – воскликнул Серизье, весьма сомневавшийся в том, что Вермандуа или вообще кто бы то ни был мог серьезно читать Климента Римского. «Едва ли он и цитирует по первоисточнику. А впрочем, с него станется…»
– Тем более что мы совершенно не знаем, кто был этот почтенный человек. Я, по крайней мере, понятия не имею, – сказал граф де Белланкомбр. Надежда Ивановна расхохоталась. Все взгляды обратились на нее. Кангаров ласково погрозил ей пальцем.
– Дети должны вести себя тихо, – по-русски сказал он, – особенно когда речь идет о таких предметах. Слышала, что скоро везде будут шакалы и змеи? А ты еще говоришь о прибавке жалованья! Манатки надо собирать, вот что… Прошу меня извинить, – весело обратился он к гостям, – я прочел наставление этой девочке.
– Она совершенно права, что хохочет, – заступился за Надю Вермандуа. – Так, верно, в Трое молоденькие девочки хохотали, слушая доносившееся из башни пение безумной Кассандры.
– Я так и думал, что вы Кассандра, – сказал финансист. – Нет ничего благороднее и приятнее этой роли.
– «Je combien que idigne у fuz appellé» [92]92
«Признаю, что позвали меня, недостойного» (старофр.).
[Закрыть], – как говорит наш учитель Рабле.
– Я не согласна, – возразила графиня. – Она сидела в башне и пела грустные песни, да? Что же тут хорошего?
– Мало, мало, – смеясь, подтвердил Вермандуа. – У Еврипида эта бестактная женщина даже танцует на развалинах Трои; все вышло так, как она предсказывала. Зато потом Аякс и Агамемнон поступили с ней очень нелюбезно. Не уточняю в присутствии милой барышни, – добавил он, сладко улыбнувшись Наде. («Еще один старичок!» – победно подумала она и опустила глаза, очень похоже изобразив девичью стыдливость.)
– Надо быть богословом или Вермандуа, чтобы помнить все это: и Еврипидов, и Климентов, – восторженно сказала графиня, сгоряча относя к богословам и Еврипида.
– Повторяю мое смиренное, нехитрое возражение, – сказал Серизье, не вполне довольный выпавшей ему скромной ролью в застольной беседе: знаменитый адвокат стоил знаменитого писателя. – Вы утверждаете, что мир идет к черту и все великие мыслители так говорили во все времена. Я на это отвечаю: во-первых, мир еще к черту не пошел; во-вторых, едва ли так говорили всевеликие мыслители; в-третьих, великим мыслителям свойственно ошибаться в суждении о своей эпохе, – они, случалось, громили ее, и проклинали, и предсказывали всевозможные ужасы, а позднее, через пятьдесят или через сто лет после таких утверждений, оказывалось, что эпоха была славной, великой, благодетельной, что она сыграла огромную роль в шествии человечества к лучшему будущему. Так было и с английской революцией, и еще больше с нашей.
– Разумеется! – с большой энергией в интонации произнес Кангаров и стер с лица улыбку, почувствовав, что после философских пустяков разговор становится политическим, следовательно, серьезным, и теперь как-то касается большевиков. – Разумеется! Эти эпохи и создали царство духа, – почему-то брякнул он с еще большей силой.
– Заметьте, господа, что мы, как почти всегда бывает, несколько изменили в споре проблему спора, – сказал с улыбкой Вермандуа, бывший тоже в добром настроении. Данное им себе обещание говорить только о погоде было забыто в самом начале вечера. Он вел беседу в привычном ему стиле тех ученых благопристойных шуточек, которыми обмениваются на торжественных заседаниях старый и вновь принимаемый члены Французской академии. Но Вермандуа здесь, считаясь с низким уровнем аудитории, несколько упрощал этот стиль, что доставляло ему удовольствие: так Малларме мечтал о сотрудничестве в «Petit Journal». – Мы говорили о конце мира. Вы теперь говорите о шествии человечества к лучшему будущему. Поставим же вопрос так: мир продолжается, развиваясь в твердо им принятом нынешнем направлении. Я с искренним вздохом Спрашиваю: так ли уж ему необходимо для этогопродолжаться? Недолгое царство духа, о котором вы говорите, дорогой посол, – обратился он к Кангарову с нежной улыбкой, – собственно, всегда было вполне конституционным, с весьма ограниченными правами монарха. Но теперь монарх лишился и фиктивной видимости власти. Миру было дано то, что в новейшей педагогии, кажется, называется предметным уроком. У человека есть очень большие достоинства; однако, к сожалению, он чрезвычайно глуп. И вам, большевикам, принадлежит бесспорная заслуга: вы первые в новейшей истории выяснили нам это с такой педагогической наглядностью. (Кангаров слабо улыбнулся, не зная, как отнестись к словам Вермандуа.) Теперь о всеобщем избирательном праве лучше не говорить, а бормотать, по возможности не глядя в глаза собеседнику. Бормотать же, конечно, можно и дальше: это единственное Утешение, которое нам остается. Да еще, пожалуй, то, что человек, ныне лишенный всех прав состояния, в награду и утешение себе до поры до времени (скажем, до столкновения с кометой) быстро увеличивает свою так называемую «власть над природой»; да, да, аэропланы делают пятьсот километров в час, а скоро будут делать, вероятно, тысячу. Однако мне противны и эти аэропланы, и люди, которые на них летают. Чудеса эти служат для того, чтобы с бешеным риском для почтальона перевозить почту из Австралии, и еще для того, чтобы, при случае, сжечь Париж. Но из Австралии я получаю весьма мало писем, и в них нет ничего особенно спешного; а Парижем я, по привычке, несколько дорожу. У науки плюсы и минусы стоят рядышком, как manages u deuils [93]93
Объявления о браках и кончинах (фр.).
[Закрыть]в светской хронике газет…
– Вопрос о том, нужно ли миру продолжаться, не имеет разумного смысла, – прервал его адвокат. – Мир существует и, не в обиду вам будь сказано, будет существовать и дальше. Тогда возникает вопрос и о социальном, и о духовном прогрессе. Хоть убейте меня, я не вижу признаков близящегося столкновения земли с кометой; но если это столкновение неизбежно, то мы с вами тут решительно ничего поделать не можем. Устройство общества – другой вопрос.
– Вы увидите, будет так: земля столкнется с кометой как раз после того, как при участии французской социалистической партии и вашем, дорогой друг, на земле наступит идеальный общественный строй. То-то я повеселюсь, когда столпотворение выбросит меня из могилы, – сказал Вермандуа, снова снижая тон разговора; он всегда это делал вовремя, оправдывая свою репутацию превосходного causeur’a [94]94
Мастер светской беседы (фр.).
[Закрыть].
– Вы и в могиле будете лежать с саркастической улыбкой, – сказала графиня. – «Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire – Voltige-t-il encore sur tes os décharnés?..» Любите ли вы эти божественные стихи? «…Eh bien, qu’il soit permis d’en baisser la poussière – Au moins crédule enfant de ce sciècle sans foi, – Et de pleurer, ф Christ! sur cette froide terre – Qui vivait de ta mort, et qui mourra sans toi!» [95]95
«Вольтер, твой гнусный смехНад кладбищем витает (…),И к праху твоему я руку протяну;И, распростершись ниц, я горько зарыдаю,Христос, за всех отдавший жизнь одну!» (фр.)– Пер. И.Ю. Наумовой.
[Закрыть]– прочла она негромко. – Вы видите, я тоже могу приводить цитаты.
– Цитаты с такими нелюбезными словами! «Hideux sourire». He ожидал!








