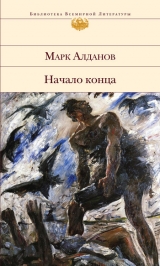
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
XXIV
«Да, есть, вероятно, доля правды в том, что говорил старый Нарцисс, – с неприятным чувством думал Серизье, поднимаясь по лестнице своего дома. – Этот «Реквием» действительно обнажает душу, и после него нельзя не быть правдивым хоть с самим собою… Но чем же я виноват? Я сделал все возможное для спасения того несчастного юноши. Я бесплатно защищал его так, как если бы мой гонорар составлял сотни тысяч». Он проверил себя: это было совершенно верно; он был чрезвычайно добросовестный адвокат. «Я и еду туда для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать его морально. И я не виноват в том, что живу, что останусь жив после того, как его казнят. И если я поехал к графине, то потому, во-первых, что мне не хотелось обижать ее отказом, и потому, во-вторых, что этот вечер в одиночестве был бы совершенно нестерпим. Конечно, в бульварном фильме можно было бы и тут дать клише: «После блестящего приема в доме графини де Белланкомбр знаменитый адвокат возвращается в свою удобную, роскошную квартиру и ложится спать в белоснежную постель…»
Самоанализ был для него, как для большинства людей, трудным, неприятным и непривычным делом. Он вошел в свой кабинет, зажег настольную лампу, снял смокинг, жилет и повесил их на спинку кресла. Обыкновенно он перед сном варил себе липовую настойку. Не было причины отказываться от этого и сейчас. «Ну, что ж? Как по правдивому ключу «Реквиема»?» Серизье, по совести, не мог себе сказать, что не в состояниивыпить чашку настойки накануне казни подзащитного. Прислушался: правдивый ключ «Реквиема» не открывал в его душе ничего нового. «Через пять часов молодой человек, совершивший тяжкое преступление, умрет страшной смертью… Почему страшной? Рак или чахотка, от которой в эту ночь умрут тысячи людей, гораздо страшнее. Просто умрет необычной смертью. И было бы лицемерием, если бы я утверждал, что не могу из-за этого жить так, как жил до сих пор. Ведь все равно придется завтра делать все то, что на завтра назначено…» Он, морщась, вспомнил, что на следующий день назначены два деловых свидания и деловой завтрак. Отменить это было невозможно или, по крайней мере, неудобно, тем более что один из клиентов специально для свидания с ним приезжал из Фонтенбло. С еще более неприятным чувством он подумал, что во время завтрака знакомые уже будут из газет знать, где он был ночью. «Сначала из приличия не спросят. А может быть, спросят с первых же слов. Но потом, во всяком случае, разговор неизбежно коснется и этого. Что же тогда? Делать вид, будто я не в состоянии есть? Передавать свои гуманные впечатления? Рассказывать, волнуясь и вздрагивая?Да, лицемерное существо человек, и «Реквием» действует недолго…» Серизье подумал с некоторым облегчением, что графиня и Вермандуа не прочтут: они уезжают утром, в утренних газетах еще не будет отчета, хотя, верно, будет какой-нибудь корректный и гнусный намек о «Bois de justice» [220]220
«Гильотина» (буквально: лес правосудия) (фр.).
[Закрыть](какое гнусное выражение!), о палаче, который… «Заранее у них о таких вещах писать не полагается, но легкий намек необходим: мы отлично знали, но… Зато через день все распишут как следует: репортеры на этом набивают строчки. Они относятся к таким делам с профессиональным равнодушием, и я ничего возразить не могу, потому что отношусь так же… Да, самое страшное именно это: полное равнодушие человека к человеку. Люди в большинстве по природе не злы и не жестоки, они просто равнодушны и вдобавок слабы…»
Налив себе чашку настойки, он вернулся в кабинет и вдруг, опять поморщившись, вспомнил, что надо приготовить костюм. В этот день до смокинга на нем был коричневый костюм с темно-красным галстуком. Нигде не существовало и не могло существовать правды о том, как должен быть одет адвокат, отправляющийся на казнь своего подзащитного. «Впрочем, правила есть: ведь совершенно ясно, что я не мог бы быть ни в смокинге, ни в светлом костюме! Надо одеться так, как я оделся бы, отправляясь на похороны знакомого. Или разве чуть строже…» Он достал из шкафа пиджак, приближающийся по цвету к черному, и темно-синий, почти черный галстук. «Да, гадко, отвратительно, все отвратительно… Что же теперь делать?..»
До казни оставалось четыре с половиной часа. «Я не лягу: все равно не сомкнул бы глаз. Провести остаток ночи в кресле? Надо взять книгу, иначе я сойду с ума». Но в ключе «Реквиема» ему было ясно, что он с ума не сойдет. «Люди сходят с ума от повреждений мозга, от удара, от сифилиса, но не от волнения, особенно не от волнения за чужой счет. Что же читать? Какую-нибудь философскую книгу? Или бульварный роман?» Серизье проверил себя: нет, читать это ему не хотелось. Вспомнил, что в одной ученой работе есть подробное описание того, как казнят людей. При своей прекрасной памяти он без труда установил, в какой работе находится это описание; разыскал в своей огромной библиотеке прекрасно переплетенный чистенький том и сел в глубокое кресло. Почему-то ему неловко было надеть халат. Он только и расстегнул брюки, воротничок рубашки, пододвинул лампу и поставил чашку на столик рядом с креслом.
«Dès qu’un homme est condamné а mort, sa vie devient sacrée… L’homme est vivement dépouillé de tous ses vêtements, qu?on jette bien vite loin de lui, afin qu?il ne puisse les atteindre, car peut-être у a-t-il caché une arme ou du poison; rien ne trouve grâce, pas même les souliers, pas même les bas. Quand il est nu, comme Dieu l’а сгйй, on lui fait endosser le costume de prisonniers, la dure chemise, le pantalon, la vareuse de grosse laine grise, les forts chaussons feutrés: il a l?habillement complet, sauf la cravate, sauf le mouchoir, car il pourrait essayer de s’étrangler…» [221]221
«C момента вынесения человеку смертного приговора его жизнь становится проклятием… С него быстро сбрасывают все его одежды и кидают их подальше от него, так, чтобы он не смог до них добраться, ибо вдруг он спрятал там оружие или яд; не оставляют ничего, даже обуви, даже носков. Когда он остается нагим, в чем мать родила, на него напяливают арестантскую одежду, грубую рубаху, штаны, блузу из толстой серой фланели, грубые ботинки, подбитые войлоком: он одет полностью, но у него нет ни галстука, ни носового платка, чтобы он не смог предпринять попытку удавиться…» (фр.)
[Закрыть]
«Да, это ужасно, но я всегда был противником смертной казни, – подумал он, – в социалистическом обществе ее не будет. Если русские социалисты ее применяют, то ведь мы за них ответственности не несем. Мы их поддерживаем – поскольку поддерживаем – потому, что это великий социальный опыт и потому, что нам это предписывают весьма серьезные тактические соображения… А за что мы несем ответственность?» – спросил себя он. И в ключе «Реквиема» он неожиданно себе ответил, что они не несут ответственности ни за что, и ни за кого, и всего менее за самих себя, что они, пожалуй, самые безответственные люди в нынешнем мире, хотя в нем и очень трудно побить рекорд безответственности. Серизье отрицательно замотал головой с очень неприятным чувством, отпил глоток настойки и, повернув страницу, продолжал читать:
«…La tête, separée vers la quatrième vertèbre cervicale, est lancée dans le panier, pendant que l’exécuteur, d’une seul impulsion de la main, у fait glisser le corps sur le plan incliné. La rapidité de l?action est inexprimable, et la mort est d’une telle instantanéité qu’il est difficile de la comprendre. Le glaive oblique et alourdi de plomb agit а la fois comme coin, comme masse et comme faux; il tombe d’une hauteur de 2,80 m; il pèse 60 kilogrammes, ce qui, en tenant compte de l’action de la pésanteur, produit un travail équivalant а 168 kilogrammètres. La chute, calculée mathématiquement, dure 3/4 de seconde (exactement 0,75.562)» [222]222
«…Голова, отсеченная в районе четвертого шейного позвонка, летит в корзину, а в это время палач одним мановением руки туда же сталкивает по наклонной доске тело. Скорость действия неописуема, и смерть настолько мгновенна, что ее трудно осознать. Косой меч, утяжеленный свинцом, действует одновременно и как клин, и как кувалда; он падает с высоты 2,80 м, весит 60 кг, что, учитывая силу тяжести, производит работу, равную 168 килограммометрам. Падение, подсчитанное математически, длится 3/4 секунды (точнее 0,75.562)» (фр.).
[Закрыть].
«Ученый человек, и как отвратительны приложения науки! – подумал адвокат. – Конечно, немного стыдно за человечество…» Серизье посмотрел на часы и подумал, что Альвера еще спит. «Если в его положении можно спать. Только часа через три к нему зайдут в камеру. Вероятно, его разбудит стук шагов, голоса… «Альвера, час искупления настал. Мужайтесь!» Рюмка рома, папироса, туалет…» Он вздрагивал, думая об этом, вспоминая аудиенцию у главы государства, одинаково тягостную обеим сторонам. «Я не сказал ему о деле ничего нового, дело он знал, он очень добросовестный человек. Но почему этот почтенный инженер решает вопрос о помиловании осужденных преступников? Каково ему чувствовать, что все же в конечном счете от него зависит жизнь человека! Присяжные вынесли вердикт, судьи произнесли приговор, он может помиловать, может не помиловать, это зависит от него, он рискует только тем, что его за решение выругает правая или левая печать. Он легко принимает такие решения… А мало ли в какое положение может его самого поставить жизнь, нынешняя жизнь? Он сказал мне, что подумает, и я почтительно наклонил голову в знак уважения к его благодати… Президент в помиловании отказал. И это тоже не мешает ему после обеда потягивать кофе с ликерами». Он читал дальше и думал, что за известным пределом ужас научного описания больше на него не действует, – либо больше не действует ключ «Реквиема».
«On traverse les allées pleines de cyprès, où les tombes amoncelées semblent manquer de place et se pressent les unes contre les autres, on franchit une vaste palissade en planches, et 1’on pénètre dans la partie réservée aux suppliciés: c’est le Champ de navets.Rien n’est plus désolé: la terre grise et laide est bosselée ça et là; de larges tranchées sont ouvertes et attendent leur proie… Le cadavre a les yeux ouverts ou selon que le glaive l’а frappé pendant qu’il ouvrait ou fermait les yeux. On enlève au corps les entraves qui lui liaient les jambes, les poignets et les bras; s’il porte quelque vêtement qui ne soit pas absolument hors d’usage, ceux qui l’ont amené s’en emparent; puis on traine le panier près de la fosse, on le penche, et l’on verse le cadavre, qui tombe avec des mouvements étranges, sinistres, car il a conservé son élasticité, et il semble faire des gestes que 1’absence de tête rend grotesquement horribles. On peut remarquer sur le cadavre le même phénomène physique que produit la mort par suspension ou strangulation…» [223]223
«Проходят кипарисовыми аллеями, где могилам, кажется, не хватает места, и они жмутся одна к другой, затем, преодолев дощатую изгородь, попадают на участок, предназначенный для казненных: это Репейное поле.Нет ничего более унылого: безобразная серая земля, горбящаяся здесь и там, широкие рвы вырыты и дожидаются своей добычи… у головы трупа открыты или закрыты глаза в зависимости от того, открыл или закрыл их приговоренный, когда нож опускался. Тело освобождают от пут, которыми были связаны ноги, руки и запястья; если одежда еще не пришла в негодность, она достается тем, кто его привез; затем корзину тащат ко рву, наклоняют и сбрасывают труп, который, падая, производит зловещие и странные движения, так как он еще не окоченел, и эти жесты, при отсутствии головы, кажутся до гротеска безобразными. На трупе можно заметить те же физические изменения, что производит казнь через повешение или удушение…» (фр.)
[Закрыть]
…Он проснулся. У кресла на столике горела лампочка с матовым абажуром, на ковре лежала свалившаяся книга. Серизье взглянул на часы, ахнул и сорвался с места. «Без пяти четыре! Опоздал!» Сердце у него забилось. Надев туфли, он бросился в ванную, провел щеткой и гребешком по волосам. Было ясно, что вовремя поспеть невозможно, даже если на улице тотчас найти автомобиль. «Позвонить в гараж? Нет, это будет еще дольше!» Он кое-как повязал синий галстук, надел жилет, пиджак – и вспомнил, что на нем брюки от смокинга. С проклятием сбросил их, сорвав с подтяжками пуговицу, механическим движением подобрал ее, надел другие брюки, надел пальто и выбежал. Забыл потушить лампу, метнулся было назад, махнул рукой и побежал вниз. «Нет, разумеется, не поспею! Лучше не ездить, сослаться на болезнь, на принципиальные сомнения?..»
Из-за угла показался автомобиль. Серизье отпаянным голосом окликнул шофера. «В Версаль! Там я вам скажу куда!» Шофер как будто заколебался. «Лишних двадцать франков, лишь бы ехать быстро! Как можно быстрее!..» Задыхаясь от бега и волнения, он вскочил в автомобиль, застегнул пуговицы жилета, застегнул пальто. При свете фонаря мелькнули большие висячие часы: две минуты пятого. «Это могло случиться со всяким, – повторял он себе, – я не виноват, что так устаю за день… Конечно, стыдно, гадко, но могло случиться со всяким…»
Уже у версальской заставы послышался далекий глухой шум. Серизье, с трудом справляясь с дыханием, прислушался. Гул усиливался. Шофер, очевидно, только теперь понявший, куда они едут, угрюмо оглянулся на адвоката. «Туда проехать нельзя!» – «Меня пропустят, я адвокат, – хрипло сказал Серизье, вынимая полученный им билет, – постарайтесь проехать возможно ближе…» По тротуару бежали люди. «Любопытные… Да, есть в каждом из нас это страшное любопытство… Это именно та картина, которую описывают в газетах: проститутки, апаши, светские дамы», – думал он, вглядываясь в проходивших людей. Но на слабо освещенной улице рассмотреть их было трудно. «Кто это, что за люди? Вот этот у фонаря какой же апаш? Просто лавочник, и женщина с ним не проститутка, а должно быть, его жена… И во мне тоже есть это страшное любопытство, и я себе придумал предлог: какую моральную поддержкуя могу оказать человеку, которого сейчас казнят!..»
Автомобиль стал замедлять ход. Гул нарастал все сильнее, все страшнее. Шофер обернулся и что-то прокричал, но Серизье не разобрал его слов. Вдруг сбоку сверкнул свет, автомобиль остановился. За поворотом стоял отряд жандармов, за ним видна была огромная гудевшая толпа, еще дальше люди на конях. Площадь была залита светом. Все окна в домах, за редкими исключениями, были ярко освещены. «Дальше! Я покажу билет… Скажите им!» – закричал Серизье. Шофер безнадежно махнул рукой, сунул в карман, не считая, деньги и поспешно встал на сиденье, с жадным любопытством глядя в сторону освещенной площади, поверх жандармов и толпы. Серизье выскочил и побежал к жандармам. Вдруг гул превратился в дикий страшный рев и странно, сразу, оборвался. Настала тишина. Затем снова, быстро нарастая, поднялся шум – уже совершенно иной.
Стража еще стояла на повороте, но теперь пропускала людей на площадь, не спрашивая билетов. С площади валила толпа. С хмурыми лицами проехали муниципальные гвардейцы. Стало темнее. Огни в окнах гасли один за другим. Погасла и часть фонарей. Серизье шел навстречу медленно продвигавшейся толпе. До него долетали обрывки разговоров: «…Нет, нет, он не струсил! Смелый человек, не говорите. По-моему, на войне такой человек мог бы пригодиться». – «Как можно сравнивать! Мужество на войне совсем другое дело. Помню, я…» – «…Да, отказался от священника и от папиросы. Выпил только рюмку рома…» – «… Я не думала, что это так быстро! Тридцать секунд!» – «Нет, нет, гораздо больше: две или три минуты…» – «…Как хотите, это ужасно: ведь его защитник доказал, что он сумасшедший!» – «… Да, страшное зрелище! И заметьте, какое нездоровое любопытство: эта толпа!..» – «Здоровое любопытство только у вас, Пьер!..» – «…Я видел все как на ладони, вот как вижу этого жандарма! Но я забрался сюда в десять часов». – «…Если он действительно сумасшедший, то это очень несправедливо: сумасшедших надо лечить». – «Такого вылечишь! Он жил бы десятки лет на наши деньги». – «Деньги тут ни при чем! Стыдно подходить к такому вопросу с денежной точки зрения!» – «…Его разбудили в четыре! подумай, сколько он ждал!» – «Зачем все эти формальности? У нас всегда так». – «А тот не мучился, которого он убил?» – «…Все-таки это очень легкая смерть: если бы не позор, я и себе желал бы такой же». – «Скоро будет война, и сотни тысяч людей умрут от газа, это похуже гильотины». – «…Лучше было бы пускать сюда поменьше этих иностранцев!» – «Есть честные иностранцы? и есть убийцы-французы…» – «…Господи, мне завтра вставать в семь». – «Завтра? Ты хочешь сказать, сегодня». – «Уже не стоит ложиться, зайдем лучше в бистро, скоро откроют».
За первым кордоном был второй, за ним третий, у самого места казни. Серизье, пошатываясь, подошел к цепи и остановился, тяжело прислонившись к фонарю. Гильотину уже наполовину разобрали: стоял один столб. Кто-то лил воду из лейки. За цепью на табурете сидел человек в форме и быстро что-то писал самопишущим пером, держа перед собой на коленях положенный на портфель лист бумаги. У кордона штатский человек, вероятно, репортер, беседовал с пожилым комиссаром. «Значит, он не волновался?» – «Почти нет. В последние дни он действительно впал в идиотизм. Многие притворяются, но иногда бывает и так, что правда. Редко, конечно. Сторожа мне говорили, что с ним что-то случилось в ночь перед судом. Нервный удар, что ли». – «Отчего же сторожа не сообщили начальству или адвокату?» Комиссар пожал плечами: «Не знаю. Впрочем, все равно уже было бы поздно. А может быть, он и притворялся». – «Они, верно, часто притворяются? Не могу понять, что они за люди!» – «Такие же люди, как мы с вами», – равнодушно, даже без интереса сказал комиссар и оглянулся на Серизье.
– Что вам угодно? – спросил он. Адвокат молча протянул ему свой билет. – Да ведь кончено. Разве вы не видите, что все ушли?
– Я… я… – начал было Серизье. У него закружилась голова. Это с ним бывало раза два или три в жизни. К фонарю торопливо, осматриваясь по сторонам, подходил почтенный пожилой человек в темно-сером пальто. По фотографиям Серизье узнал парижского палача. Он о чем-то вполголоса спросил сидевшего на табурете человека. Тот, не глядя на него, тыкнул рукой влево и встал. Серизье последовал за ним взглядом и увидел людей, несших что-то к стоявшему довольно далеко, у фонаря, черному фургону, запряженному вороной клячей. Комиссар внимательно всмотрелся в лицо Серизье, заглянул в его билет и поспешно сказал:
– Кажется, вы нездоровы, мэтр? Хотите воды? Принесите воды! – крикнул он полицейским и участливо поддержал адвоката. Кто-то подскочил с табуретом. Серизье на него опустился. Он был в обмороке.
XXV
Чтение не имело никакого успеха.
Вермандуа знал, что выйдет нехорошо. По дороге из Парижа он простудился и охрип. «Просто ни на что не похоже! Я буду совершенно смешон!» – угрюмо говорил он графине в автомобиле, по пути из гостиницы в зал, предупреждая о провале; знал, что это очень помогает; если всем заранее говорить, что будет плохо, совсем плохо, то обычно выходит недурно. «Решительно ничего смешного, просто вы немного простудились в эту скверную погоду», – убедительно говорила графиня, точно сам он приписывал свой насморк каким-то сверхъестественным силам. В ее голосе слышалось волнение. Граф неопределенно мычал.
Публики было много. С некоторой натяжкой можно было даже сказать, что зал полон, – но именно с некоторой натяжкой. На эстраде у стены, позади стола, стояли два ряда стульев, приготовленных для почетных гостей и тонких ценителей на случай, если бы все билеты были проданы. В боковой комнате антрепренер, с видом, не то озабоченным, не то испуганным, вполголоса сообщил графине, что в первых рядах есть свободные места. «Может быть, еще придут?» – с радостным сомнением предположил граф. «Это неважно! Но не лучше ли было бы убрать стулья на эстраде? – нервно спросила графиня. – Я вам говорила, что они не нужны?» Выносить стулья на виду у публики было неудобно. «Это неважно!.. Здесь весь цвет столицы, не правда ли?» Антрепренер бодро назвал разных бывших в зале видных людей. Высокопоставленных особ не было, из членов правительства не приехал никто.
В боковую комнату вошел, сверкая фрачной рубашкой, влиятельный критик, председательствовавший на собрании. Он пожал руку Вермандуа и сказал, что пора начинать. «Мы здесь аккуратны. Мое слово ведь займет четверть часа, не более». – «Да, да, пойдем!» – энергично подтвердила графиня и вышла с каким-то прощальным ободрительным знаком, вроде того, который делает тренер, выпуская на ринг своего боксера. Она маленькими шажками прошла в первый ряд. «Действительно, жаль, что оставили тестулья, – сказал, садясь рядом с ней, граф, – и без того есть немало свободных мест». – «Это не имеет ни малейшего значения!» – сердито прошептала графиня. Она старалась не смотреть на незанятые стулья.
Влиятельный критик отодвинул портьеру боковой комнаты и пропустил вперед Вермандуа. Встретили чтеца хорошо: не овацией, но вполне прилично; с некоторой натяжкой можно было даже говорить об овации. Улыбаясь, немного набок наклонив голову, чуть похлопал гостя и сам влиятельный критик, явно подчеркивавший, что не относит к себе никакой доли рукоплесканий.
Он занял место за столом и прочел вступительное слово. Повторил те общие места, которые Вермандуа слышал и читал о себе почти полстолетия (в них, по мере выслуги лет и повышения в литературном чине, менялись главным образом степени прилагательных). Были тут и «блестящий эпикуреизм, уживающийся с чутким вдумчивым отношением большого художника к вопросам, волнующим современное человечество», и «горячее великодушное сердце, чувствующееся за ослепительными парадоксами», и «кристальный стиль, продолжающий традиции великого века», и многое другое. Критик говорил с таким любовным интересом к своим мыслям, что весь зал слушал напряженно. Вермандуа старательно поддерживал на лице мягкую сконфуженную улыбку, приблизительно означавшую: «Вот не ожидал. Зачем это, право? Нет, нет, я этого не заслужил… Но как умно и тонко!..» – «Эпикур, – было о нем сказано, – но Эпикур, медленно слившийся с Гракхом на тысячелетнем ароматическом огне старой утонченной цивилизации», – с силой сказал критик и, опять немного наклонив набок голову, улыбнулся гостю. Гость, с непечатным словом в мыслях, сделал свою ответную улыбку еще более скромной и смущенной. «…Я кончаю, милостивые государыни и государи. Позвольте же мне не только от своего, но и от вашего имени приветствовать великого писателя, явившегося к нам в качестве посла французской мысли, которой столь обязано человечество». Снова раздались рукоплескания, еще усилившиеся, когда посол французской мысли горячо пожал критику руку, поменялся с ним местами, пододвинулся к лампе и раскрыл картонную папку.
Вермандуа тоже произнес маленькое вступительное слово: взволнованно поблагодарил критика за его столь блестящее, хотя чрезмерно лестное введение; взволнованно поблагодарил публику, наполнившую этот зал, – ему известно, что тут собрался цвет мысли и общества столицы; сказал, что прекрасно понимает: внимание оказано не ему лично, а в его лице французской литературе, – он представляет ее скромно, в меру своих слабых сил; в самых лестных выражениях отозвался о столице, в которую приехал, об ее очаровательном гостеприимстве, об ее удивительном искусстве; затем очень кратко изложил содержание своего романа и шутливо попросил не пугаться толстой папки: он человек не жестокий и прочтет лишь одну главу «Возвращение Аристиппа», к несчастью, длинную, но менее, быть может, скучную, чем другие. Сказал он все это как следует, как говорил в подобных случаях много раз, однако сразу почувствовал, что тон вышел не очень естественный, что голос звучит хрипло и что вообще чтение начато нехорошо. Вдобавок, перелистывая рукопись, он вдруг заметил на видном месте, в конце абзаца, слова: «…l’or et les pierres précieuses dont elle lui fit don…» [224]224
«…Золото и драгоценные камни, подаренные ему ей…» (фр.)
[Закрыть]«Что ж это? Или я писать разучился? – с ужасом подумал Вермандуа. – Ведь перечитывал сто раз! Если этого не заметил, то, верно, и другое есть такое же!..» Он нервно сделал пометку на полях. При чтении всегда держал в руке карандаш: по крайней мере, одна рука пристроена. После его вступительного слова кто-то было хлопнул, но публика рукоплесканий не поддержала, очевидно, признав излишком рукоплескания в третий раз перед чтением. Это было вполне естественно. «А может быть, недохвалил их?..» Вермандуа откашлялся, высморкался – графиня взглянула на него одобрительно, но испуганно – и начал читать: «Аристипп возвращался в Афины…» (Аристиппом теперь именовался бывший Лисандр, еще раньше побывавший Анаксимандром.) И тотчас эта фраза показалась ему необыкновенно пошлой, даже для публики, даже для этой публики. «И никуда он не возвращался, и Аристиппа никакого не было, и стыдно на старости лет рассказывать ерунду о никогда не существовавших Аристиппах…»
Читал он плохо, гораздо хуже обыкновенного; сам чувствовал, что подъема нет, что чтение на публику не действует. Насморк и хрипота очень мешали, Вермандуа шутливо попросил извинения, но шутка вышла неудачной, как все в этот вечер, да и пошутить пришлось как раз на одной из самых лучших фраз главы, так что фраза пропала: впрочем, эта публика ее все равно не оценила бы, как не заметила бы и «dont еllе lui fit don». Тонкие ценители иногда улыбались и переглядывались, но не там, где следовало, и все реже.
После сорока минут чтения он сделал передышку. Аплодировали гораздо меньше, чем при появлении гостя на эстраде. Правда, можно было предположить, что главная овация готовится к концу чтения. Влиятельный критик чрезвычайно значительным и даже несколько угрожающим тоном объявил перерыв на десять минут. Вермандуа поспешно с мучительным чувством неловкости и стыда прошел в боковую комнату. Через минуту в нее вплыла графиня с протянутыми руками, с восторженной улыбкой. Но по лицу ее и по похвалам он ясно видел: нет, не вышло. «Дорогой друг, глава изумительна даже для вас, и читали вы столь же изумительно», – сказал граф, и опять-таки его сияющее лицо не оставляло сомнений: провал, полный провал.
Влиятельный критик вошел в боковую комнату в сопровождении трех местных писателей, с которыми он, по-видимому, обращался строго: на его лице было написано сознание собственного могущества и твердой власти. «Я в восторге…», «Мне так давно хотелось познакомиться с вами!» – говорил Вермандуа, крепко пожимая руки местным писателям и изображая на лице радость. («Если бы вспомнить хоть что-нибудь из того, что они выделывают! – с досадой подумал он. – А впрочем, черт с ними!») У молодых писателей был такой вид, какой может быть у провинциальных посетителей Лувра, вдруг наткнувшихся на Джоконду. Критик высказал несколько ценных мыслей о романе. Местные писатели больше говорили о своей любви к французской литературе. В конце антракта на мгновение показался антрепренер, – промелькнул с выражением мировой скорби на лице, как-то странно, точно на бегу, слабо пожал руку Вермандуа. Графиня все говорила, восхваляя достоинства романа.
Антракт кончился. Пустоты в зале как будто увеличились – или это так лишь кажется? Сиротливые стулья на эстраде издевались: memento mori. Попытка чтеца возбудить к себе искусственный подъем не удалась. «В последнее время ничто не удается: кажется, последняя удача в жизни была до мировой войны…» Подъему мешало еще и то, что в первом ряду, недалеко от графини, спал с раскрытым ртом и закрытыми глазами какой-то старичок, несомненно, из числа видных. Граф радостно на него поглядывал. Графиня смотрела на старичка с лютой ненавистью: если бы его можно было задушить и вынести труп из зала незаметно, она вероятно, перед этим не остановилась бы. Вермандуа читал вяло, все яснее чувствуя, что если есть предмет, совершенно не интересующий слушателей, то именно возвращение Аристиппа в Афины. Минут за пять до конца чтения кто-то конфузливо поднялся в средних рядах и, испуганно взглянув на председателя, сгорбившись, на цыпочках, с пальто в руке, стал пробираться к выходу. И, точно этот пример ободрил других, то же самое сделали еще человек пять или шесть. Взгляд графини был страшен.
Когда чтение кончилось, овации не последовало, ни бурной, ни даже не бурной. Вермандуа встал, поклонился публике, сложил папку и спрятал в карман карандаш. Ему все же похлопали. Влиятельный критик еще что-то сказал, уже не склоняя головы набок. Антрепренер куда-то исчез. В автомобиле графиня, после минуты молчания, неосторожно упомянула о тупости этой публики, ничего не смыслящей в литературе. Граф сиял непристойно.
В гостинице, сославшись на головную боль, Вермандуа тотчас ушел в свой номер, хотя графиня отчаянно-восторженно предложила выпить шампанского. «Надо, надо выпить. Шампанское сегодня совершенно необходимо!» – нагло подтверждал граф. «Значит, завтра утром мы едем в музей, дорогой друг?» – «Непременно, непременно!» – «У них есть тут один Мельхиор де Гондекутер, которого я не знаю!» – «Мы посмотрим и этого Мельхиора де Гондекутера, дорогая, вам нужно с ним ознакомиться», – с тихой ненавистью сказал Вермандуа.
Ночь он провел плохо. Разумеется, мнение публики не имело никакого значения. Публика очень скучала, но она скучала бы еще больше, если б сам Расин встал из гроба и прочел: «Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes…» [225]225
«В задумчивости брел он по дороге в Микены…» (фр.)
[Закрыть]Вермандуа поспешно встал, раскрыл папку, вычеркнул «dont elle lui fit don». «Да, могут быть и повторения. Но лучше сказать на одной странице три раза «Париж», чем писать, как газетчики, «город-светоч» или «столица мира». И вообще совсем не в этом дело, все вздор!.. Да, публика ничего не понимает, но…» Практические последствия неуспеха были очень неприятны. Антрепренер в Париже сулил ряд лекций в разных странах Европы, затем большую поездку по Северной и Южной Америке. О «ряде лекций» Вермандуа не мог подумать без ужаса, но назывались денежные суммы, которые могли обеспечить его на весь остаток дней. «Помучиться полгода и навсегда отделаться от необходимости заработка… Хорошо и это «навсегда» в семьдесят лет!..» Теперь все рассыпалось: антрепренер, конечно, ничего не предложит. Мелькали даже мысли о честной бедности, о том, что лучше умереть на соломе, но свободным человеком. «Рембрандт и Бетховен были бедняками… Но Рафаэль и Вольтер были богатыми людьми. Свободным человеком можно быть и на соломе, но лучше и удобнее без соломы… Я богачей не выношу… Но я и бедных не люблю, что ж себя обманывать? Да, надо, надо вложиться душой в большое общее дело, иначе и жить незачем. Впрочем, и с делом незачем… Жить по завету Флобера, как факиры: с червями на теле, с головой, поднятой к солнцу? Но если бы все-таки можно было обойтись без червей?..» Он принял снотворное и в третьем часу задремал.
Проснулся он поздно, с тяжелой головой, от телефонного звонка. «Антрепренер!» – встрепенулся Вермандуа. «Дорогой друг, что с вами? Ведь мы условились, что вы мне позвоните в девять», – с мягким упреком сказала графиня. «Я вам ровно в девять и позвонил, но никто не ответил. Я думал, вы спите». – «Странно! Я не смыкала глаз всю ночь!» Он сообразил, что солгал неудачно: ничто не могло быть более оскорбительным для графини, чем предположение, что она спит, да еще крепко. «Я спущусь к вам через полчаса», – обещал Вермандуа, с ужасом думая, что с этой дурой придется провести весь день.








