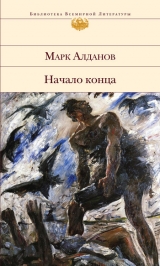
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
«Чего хочет? Зачем язык чешет?» – хмуро спрашивал себя Вислиценус. Был, впрочем, почему-то почти уверен, что его собеседник хочет денег, но не знал каких, за что и в какой форме. «Написал книгу и желает продать ее Госиздату? (Это был наиболее распространенный вид подкупа.) Но ведь, кажется, он человек не пишущий…» Поговорив несколько минут на общие темы, Майер сказал, что у него есть важные документы, которые должны чрезвычайно заинтересовать советское правительство или Коммунистический Интернационал – «или оба эти учреждения», – с улыбкой осведомленного человека добавил он. «Вот оно что», – подумал Вислиценус. Это также было для него дело привычное. Такие покупки отчасти входили в его ведение, особенно прежде, и людям, ими интересовавшимся, об этом было понаслышке известно. Сообщив кратко содержание бумаг, Майер объяснил, что они находятся у другого лица, которое готово было бы их уступитьна известных началах. Вислиценус нетерпеливо кивнул головой: и слово «уступить», и ссылка на «другое лицо» были в таких случаях почти обязательными.
Предложение показалось ему интересным: дело шло о документах, весьма неприятных германскому правительству. Он ответил то, что всегда отвечал на подобные предложения: в принципе отчего же не купить, но надо посмотреть на документы, кота в мешке не покупают, – не знал иностранных выражений, соответствующих этой русской поговорке, и обычно дословно ее переводил, причем все продавцы сразу понимали, хоть некоторые принимали оскорбленный вид. Несколько оскорбленное выражение появилось и на лице доктора Зигфрида Майера.
– За подлинность документов и за представляемый ими исключительный интерес отвечаю я, – сказал он, подчеркнув последнее слово, и на мгновение остановился. В его глазах промелькнула скрытая робость: робость человека, очень понизившегося в общественном отношении, всякую минуту ожидающего грубостей. Он тоскливо вспомнил, что денег у него осталось не более как на три месяца жизни. Вислиценус ничего не сказал, не выразив ни доверия, ни недоверия к гарантии. – Я не знаю, согласится ли мой знакомый показать документы, не имея уверенности в том, что они будут приобретены…
– А не согласится, так и не надо, – равнодушно, совершенно по-купечески ответил Вислиценус. – Документы не слишком важные: ничего злободневного в них нет, они имеют скорее историческое значение.
– Методы этих господ не изменились, а здесь дело идет о свидетельских показаниях очевидца и участника событий…
Он сообщил некоторые подробности, и Вислиценус не без удивления убедился, что «другое лицо» действительно существует. Майер, очевидно, желал лишь получить посредническое вознаграждение от продажи. В этом ничего худого не было, он был человек ограбленный и нуждающийся. Как будто не приходилось сомневаться и в подлинности документов (документы, заведомо подложные приобретались лишь редко, в исключительных случаях и по дешевой цене). После недолгих переговоров решено было встретиться снова с тем, что придет и другое лицо.
– Со своей стороны я ставлю лишь условие, чтобы документы по приобретении были тотчас опубликованы. Этого требуют интересы мировой демократии! – с силой сказал доктор Майер и покраснел: по выражению лица Вислиценуса понял, что никаких требованийон заявлять не может и что защищать мировую демократию ему не годится. Они обменялись номерами телефонов, и оба с неприятным чувством вернулись в кабинет.
Надежда Ивановна незаметно вышла в переднюю, вынула у зеркала из сумки эмалевую коробочку, снова ею полюбовалась, попудрила нос, лоб, ямочку подбородка, с наслаждением вдыхая еще не привычный запах новой, дорогой пудры; что-то поправила в волосах, не вполне уверенно провела одной новенькой штучкой по бровям, другой – по губам. Видела, что ничего по-настоящему поправлять не надо, все отлично. Голова у нее кружилась, ей было весело, так весело, как давно не было. «Да что же, собственно, хорошего случилось? Ну, прекрасный обед, вино, ликеры. Не успех же у старичков? У амбассадёра успех сегодня даже слишком большой… Зачем они так расставили зеркала: одно здесь, а другое в кабинете? Отсюда видно, что там происходит, даже в той комнатке… Если оргии, то это неудобно…» Ей почему-то вспомнился красивый молодой человек, сидевший в кофейне рядом с ней и Тамариным. «Неужели белогвардеец? Жаль…»
В зеркале отразилась фигура входившего в переднюю Кангарова. Вид у него был какой-то особенный, ухарский, игриво-разбойничий, точно он подкрадывался к кому-то с кистенем. Надежда Ивановна почему-то сделала сначала вид, будто его не заметила, затем будто – слабо ахнула, – будто недовольна.
– А, и вы тут, – процедилаона, как в романах гордые неприступные красавицы «процеживают сквозь зубы» презрительные замечания. И так как в эту минуту она проводила новенькой штучкой по губам, то голос ее прозвучал комически-неестественно.
– «И вы тут», – передразнил Кангаров, низко к ней наклоняясь. От него сильно пахло вином, но это не было неприятно Надежде Ивановне, как не были неприятны его близость, выражение его глаз. «Отсюда не видно, а если и видно, мне все равно! – все набираясь ухарски-разбойничьего духа, подумал он. – Скандал так скандал!..»
– Гостей, значит, бросили? Хорош хозяин, – сказала Надя, пряча эмалевую коробку в сумку.
– Значит, бросил. Ты довольна, детка? Тебе весело? – спросил он тихо, вдруг заколебавшись между игривым и отеческим тоном.
– Да, правда, очень весело. Ей-богу! Страшно вам благодарна, что вы меня пригласили…
– А если благодарна, так благодари, – прошептал он и поцеловал ее в шею, у корней волос. Она опять слабо ахнула, теперь уже без притворства. «Однако!..» Этого у них никогда не было. Хотела было рассердиться – не вышло, не рассердилась. «Однако нахал порядочный!» – сказала она мысленно и собралась было сказать что-то не мысленно, но Кангарова в передней уже не было. Взволнованный и счастливый, он скользнул – именно скользнул, точно на коньках, – назад к гостям. В ту же секунду Надежда Ивановна встретилась глазами в зеркале с входившим в кабинет из маленькой комнаты Вислиценусом. Ей показалось, что он остановился у двери как вкопанный.«Неужели видел?!»
Вислиценус не видел поцелуя и не останавливался у дверей как вкопанный. Но он видел, что Кангаров вышел из передней, где был вдвоем с Надей, видел, что оба они смущены, что лица у них странные. То чувство отвращения, которое Вислиценус испытывал во все время обеда и которое еще усилилось от разговора с немцем, стало совершенно непреодолимым. Он посидел несколько минут, разговаривая кое-как с Тамариным – в этом обществе один командарм не внушал ему отвращения и злобы, – затем, не прощаясь, вышел в коридор и подал вскочившему со стула мальчику свой номерок. В коридоре появился вышедший за ним Кангаров.
– Что вы, дорогой мой, а-л’англэз? [117]117
Уходить по-английски, не попрощавшись ( фр. a l’anglaise).
[Закрыть]? – изображая шутливое возмущение, сказал посол. – Отчего же так рано? Нет, я вас не отпущу.
– Извините, я очень устал.
– Но ведь еще страшно рано! Надеюсь, вы успели переговорить с Майером?
– Успел.
– Очень рад, что хоть чему-нибудь мог послужить этот мой несчастный обед, – сказал Кангаров, покачивая головой с улыбкой, означавшей: «Ох, тяжело! Ну, да вы сами понимаете, отчего я вынужден заниматься столь неприятными делами…» Он с полминуты подождал, как бы ожидая, что Вислиценус скажет: «Нет, что вы, что вы! Вечер был очаровательный!» Но Вислиценус ничего не сказал, взял помятую, с выцветшей лентой, серую шляпу, которую с недоумением подал ему мальчик, и дал на чай франк. «Только компрометирует!» – подумал Кангаров и произнес с крайним огорчением в голосе:
– Нет, вы в самом деле уходите? Вы в метро? Тут, налево, вы знаете, в двух шагах. Вам далеко?
– Далеко.
– Еще рано, времени до последнего метро сколько угодно, хотя бы вам и с двумя пересадками. А то, может, еще посидели бы? И Нади вы ведь сто лет не видели. Посидели бы, право, если вам не было слишком скучно, Коминтерн Иванович? – полувопросительно сказал Кангаров. Он был так счастлив, что в самом деле почти обрадовался бы, если б согласился еще посидеть этот неприятный гость. Злоба, душившая Вислиценуса, вдруг прорвалась.
– Скучно не было, а было противно, очень противно, – сказал он и направился к дверям, бросив на ходу «до свидания». Кангаров несколько оторопел. «Что это? Или он спятил?» – спросил себя посол, вначале преимущественно с изумлением. Хотел было даже окликнуть Вислиценуса, но дверь уже закрылась. Только через минуту изумление посла перешло в негодование. «Этакий хам и негодяй».
– Месье тоже желает получить вещи? – небрежно спросил мальчик, недовольный «начаем». Кангаров озадаченно смотрел на дверь. Радостное настроение с него как рукой сняло. «Что за невежа и хам! Что он имел в виду? Какая муха его укусила? Нет, это ему так не пройдет!» – с бешенством подумал он.
– Месье желает получить вещи? – повторил мальчик.
– Я вам не месье, а Ваше Превосходительство! – оборвалего сердито Кангаров и, повернувшись на каблуках,пошел назад в кабинет. У портьеры он увидел Надю. «Что, если этот господин в нее влюблен?! Нет, все это так не пройдет этому троцкисту,я его выведу на чистую воду!» – решительно сказал себе он.
– Господа, никто ничего не пьет, – упавшим голосом сказал посол, сделав над собой усилие и механически впадая в свой хозяйский, гусарско-шутливый тон. – Так нельзя, господа, просто безобразие! Не велеть ли откупорить еще бутылку коньяка, а? Нет возражений? Принято.
– Мы вполне оценили это произведение эпохи великого императора.
– О человеческое легковерие! Вы вправду верите, что в мире еще существует наполеоновский коньяк? У человечества должно было хватить разума, чтобы его выпить и за одно столетие.
– Слышите? Наш дорогой Вермандуа заговорил о человеческом разуме!
– Он не верит ни в социализм, ни в коньяк.
– Коньяк очень недурен, но, по-моему, настоящее чудо был их херес.
– Он не был,он есть. Я его теперь пью как ликер.
XXII
Гости разъехались несколько раньше, чем предвидел граф. Без четверти одиннадцать Вермандуа нерешительно сказал: «Однако поздно, господа. Не пора ли по домам, хоть здесь так приятно…» Лицо Кангарова действительно выразило: «Что ж, если вы желаете меня погубить, то уходите, – но что-то в этом выражении пробудило у графа надежды на клуб. – Нет, нет, шэр мэтр, мы вас не отпустим. Вы не захотите лишить нас удовольствия слушать вас и дальше», – сказал Кангаров. Вермандуа безропотно подчинился, подумав с досадой, что за автомобиль придется платить по ночному тарифу. Графиня затеяла напоследок с хозяином политический спор, который все слушали вяло: споров за вечер было достаточно. «Да, да, вы во многом правы, скажу больше, вы правы почти во всем, – мягко говорила графиня, – но я не могу признать, что в СССР (она с легким оттенком демонстрации произносила URSS слитно: «юре») есть полная свобода печати, и нам, друзьям вашим, больно, что вы кое в чем следуете фашистским методам… Не сердитесь на меня: оговариваюсь, быть может, я недостаточно знаю положение в вашей прекрасной стране…» «У нее вид кинематографической шпионки, раскаявшейся вследствие любви к неприятельскому контрразведчику, – подумал Вермандуа. – Было бы хорошо, если б старая дура подвезла меня на своем автомобиле. Но она не подвезет».
Через полчаса граф сделал отчаянную попытку прорваться в клуб: чужая первая заявка облегчала его собственную. Неожиданно графа поддержали другие гости: «да, в самом деле, очень поздно, пора». Кангаров еще немного поспорил, сделал таинственный знак метрдотелю и отошел с ним в угол кабинета. Гости тотчас оживленно между собой заговорили. Посол взял с подноса счет, мысленно ужаснулся – «просто бандиты!» – и заплатил. Хотя деньги он почти всегда расходовал казенные, у него при всяком платеже был такой вид, точно он отдавал свою последнюю копейку.
Затем хозяин с приятной улыбкой вернулся к гостям. «Так вы в самом деле уходите? Почему же так рано?» При очень сильном натиске гостей можно было удержать в повиновении еще минут двадцать. Но настроение у Кангарова было омрачено инцидентом с Вислиценусом. «Какое же рано? Я регулярно ложусь в одиннадцать», – сообщил финансист. «Я в десять всегда уже лежу в кровати с книгой», – добавил Серизье. Каким-то странным образом неизменно выходило, что появлявшиеся везде светские люди уже лежат в кровати с книгой кто в одиннадцать, кто в десять. «Необыкновенно приятный вечер. Мы надеемся, до скорого свидания», – сказала графиня многозначительным тоном, не уточняя, однако, своей надежды: она пока не намерена была звать к обеду Кангарова; кроме того, рядом с ним стоял Серизье, приглашать которого графиня и вообще не собиралась. Знаменитый адвокат отвернулся и заговорил с финансистом. «Непременно… Скоро, очень скоро», – повторял с жаром, но неопределенно Вермандуа: это ни к чему не обязывало, да и неясно было, кто кого приглашает. Он еще о чем-то пошутил, не особенно заботясь о блеске ввиду позднего времени. Опустил руку в жилетный карман в надежде найти там три франка и, не найдя, с досадой дал пять подававшему пальто лакею. Внизу тоже все произошло по-предусмотренному. Финансист и граф любезно, но с твердым в голосе расчетом на отказ, сказали: «Хотите мы вас подвезем, cher maître?» – и он так же любезно ответил: «Что вы, что вы, нам совсем не по дороге».
В автомобиле он откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги и наконец-то беззастенчиво, циничнозевнул. «Слава богу, кончено!.. Сейчас ванна, постель…» Так, в полублаженном состоянии, ожидая состояния блаженного, он пролежал с полдороги. Думал, что обед был превосходный, что не надо было все же пить так много вина, что девочка, называвшаяся секретаршей посла, очень мила, – и досталась такому человеку! Когда автомобиль проходил мимо фонарей, Вермандуа подозрительно-сумрачно вглядывался в счетчик, но ничего рассмотреть на циферблате не мог. «Будет от пятнадцати до двадцати франков, в зависимости от того, благородный ли человек шофер и по совести ли выберет дорогу…» Вспоминал с ленивым удивлением, что в былые времена любил эти двухчасовые обеды из семи блюд с убийственным смешением напитков, с непрекращающейся ни на минуту беседой, которую, по его положению, всегда требовалось вести блистательно. Не без удовлетворения решил, что и в этот вечер блистал вполне достаточно, особенно для таких слушателей. «Общество, разумеется, было среднее. Но у нас (он разумел писателей) надо вечно держаться настороже: от собратьев ничего не ждешь, кроме колких, неприятных, даже грубых слов; мы живем в атмосфере неуважения, неприязни, ненависти друг к другу. Здесь, по крайней мере, этого не было и следов: одни слушали с восхищением, другие равнодушно, третьи совсем не слушали, как девочка, с которой не удалось обменяться десятью словами, но злобы не было ни у кого, и неприятностей ни от кого ждать не приходилось. Разница в умственном уровне? Но в своем кругу мы разговариваем главным образом о сплетнях, об издателях, о гонорарах. Мне показалось бы просто диким заговорить с Эмилем о конце культуры или о социалистическом строе – он, вероятно, радостно подумал бы, что я окончательно выжил из ума!..»
Ночной воздух, лежачее положение освежили Вермандуа. Он вернулся мыслью к роману. «Завтра сяду за стол в семь часов утра. Лишь бы хорошо выспаться…» Вино обеспечивало, он знал, не более трех или четырех часов сна. «Разве принять гарденал? Но тогда с утра работать будет нелегко». Ему захотелось, чтобы скорее наступило утро: так тянуло его к принявшей новый ход работе. Автомобиль, наконец, остановился; счетчик показывал восемнадцать франков; шофер оказался человеком средних моральных качеств.
Вермандуа отворил ключом дверь и вошел в переднюю с не совсем приятным чувством, как почти всегда ночью: безлюдность этой сравнительно большой квартиры его немного тяготила. Расположение комнат было неудобное и неуютное. Из передней дверь открывалась в гостиную, комнату ненужную и нелюбимую. Отделана она была очень давно, когда появились как-то лишние деньги. Мебель была старинная и, вероятно, поддельная. На стене висел Ван Лоо, в точности неизвестно, какой именно: куплен был как Карль, но, по мнению особенно компетентных людей, был скорее Жан Батист, если не Жюль Сезар. Другой достопримечательностью комнаты был необыкновенный совершенно ни для чего непригодный столик, из тех, что в XVIII веке назывались афинскими: раззолоченной бронзы, с порфировой доской. Он и куплен был едва ли не благодаря названию; более тонкие из гостей, которым Вермандуа показывал свои старинные вещи, это понимали и улыбками давали почувствовать, что понимают: где же и быть афинским столикам XVIII столетия, как не у Луи Этьенна Вермандуа?
В темноте он осторожно прошел по гостиной; в ней и электрические выключатели были размещены неудобно: зажечь свет можно было только на пороге кабинета. Несмотря на привычку Вермандуа что-то задел, поскользнулся и пробормотал ругательство. Ощупью разыскал выключатель и зажег в гостиной свет. На стоявшем у двери афинском столике не было ничего. Приходившие с последней почтой письма старуха обычно раскладывала на столике, находя, вероятно, что надо же хоть как-нибудь использовать этот ни для чего ненужный предмет. Вермандуа вспомнил, что последняя почта пришла еще до его отъезда на обед. Он зажег свет в кабинете и погасил в гостиной. «Царство лжи – царство правды: в гостиной все лживо и претенциозно; в кабинете ничто себя не выдает ни за что другое; обыкновенный красный уютный бобрик, полки, вертящаяся этажерка, американский письменный стол, все не смешная, полезная, искренняя дрянь». Кабинет был честнойкомнатой его квартиры.
С необыкновенным наслаждением он снял тугой воротник, смокинг, надел мягкие туфли, расстегнул пуговицы жилета и брюк и почти повалился в глубокое кожаное с темно-желтой подушкой кресло у письменного стола. Это был предварительный отдых перед сном. «В сущности, лучшие радости жизни – элементарные: после пяти часов мучения снять идиотский воротничок, имеющий единственной целью резать человеку шею… Или в жаркий день выпить залпом стакан ледяной воды…» В поисках других элементарных радостей подумал о секретарше советского посла и вздохнул: «О чем я думал? не записать ли? Да, кабинет – частная комната. Здесь я в своей естественной и законной обстановке, как зверь в лесу или как папа в Сикстинской капелле… Хотя папе, быть может, в Сикстинской капелле бывает иногда и немного совестно…»
Лежать так, без воротничка, опустив подбородок на шею, было очень хорошо. Вермандуа все же лениво подумал, что пора пойти в ванную; в постели будет еще лучше. «А то не сесть ли за работу? Сначала будет трудно, потом понемногу войдешь…» Он нерешительно взглянул на стол. Сбоку, на видном месте, лежала в картонной папке рукопись романа. «Нет, начинать в час ночи не годится, но просмотреть сделанное до обеда, это можно…»
Он тяжело встал, опираясь на ручки кресла, ужаснулся усилию, которое пришлось для этого сделать, пересел на стул, надел очки и придвинул к себе папку. Только теперь Вермандуа ясно понял, что его приятное настроение во время обеда и словоохотливость держались в нем не только за счет вина, но и за счет скрытого полусознательного запаса радости, единственной причиной которого были именно перемены в романе, новые возможности, открывавшиеся благодаря коринфской встрече Лисандра. В последнем счете настроение духа у Вермандуа, несмотря на его презрение к литературе, определялось преимущественно ходом его работы. «Да, это была счастливая мысль!» – опять радостно подумал он, вынимая из папки соединенные зажимом исписанные вдоль и поперек листки.
Он стал читать. Лицо его потемнело. «Что же это?..» Новая редакция главы была явно не только не лучше, а гораздо хуже старой! Сердце у Вермандуа упало. Он бросил основной текст, стал разбирать поправки, сокращенные указания, заметки для памяти, сделанные на полях или снизу вверх, наискось пересекавшие строчки основного текста. Почти все это никуда не годилось. И ему одно за другим стали приходить в голову соображения, вследствие которых коринфская встреча Лисандра была неудачной, нисколько не выигрышной и даже просто невозможной. «Но ведь это ужасно! Как же я сразу не подумал?.. Это было затмение, настоящее затмение!..»
Почти с отчаянием Вермандуа положил листы в папку. «Господи, что же теперь делать?..» Он подумал в сотый раз, что нужно, необходимо навсегда бросить это ужасное, постыдное ремесло выдумщика, и в сотый раз ответил себе, что бросить невозможно: весь смысл жизни был в писательском призвании, почти вся ее радость – в том, что, частью условно, частью вполне верно называлось вдохновением. «А вдруг завтра снова все просмотрю, и опять покажется иным: ведь не идиот же я был пять часов тому назад! Пойти спать, а завтра с утра сесть за работу со свежей головой…» Но он знал, что уж теперь никак заснуть не удастся.
Вермандуа тяжело вздохнул, положил рукопись назад в папку и прошел в ванную. По дороге с отвращением оглядел нечестную гостиную. «Да, разумеется, Жюль-Сезар, и скверный! А если и Карль, то радость тоже не велика. И имени такого нет: почему Карль,а не Шарль? И афинский столик дрянной, и все эти мастера, создавшие мебель XVIII века, «чудо французского вкуса», были инородцы, в большинстве немцы: Ризенер, Жакоб, Крамер, Вейсвейлер, Бенеман, Шверд-фегер… И поскорее продать всю эту дрянь, пока за нее еще, по человеческой глупости, можно получить немалые деньги!..»
В ванной комнате он сел на неудобный, с прямой спинкой, деревянный стул и рассеянно уставился на лившуюся из крана воду. Думал о многом сразу, но преимущественно о том, что жить этой скверной искусственной жизнью больше невозможно и незачем: нервы обнажены совершенно, любая мелкая неприятность кажется несчастьем, а несколько более серьезная – катастрофой. «В самом деле, что же случилось сегодня? Ну, оказалась неудачной мысль о коринфской встрече. Но ведь еще вчера ее вовсе не было, и ничего…» Это рассуждение его не утешило. Все представлялось ему в очень мрачном виде, особенно люди, особенно он сам. «Вот и за этим идиотским обедом распустил перья, старый павлин, нес вздор. С дурой графиней, с Серизье, с жуликом послом говорил о конце мира, «рассыпал блестящие парадоксы» – это моя специальность, как Утка в La Tour d’Argent. Высказывал эсхатологические мысли, точно эсхатология не есть профессия для человека в семидесятилетнем возрасте! Цитировал сто тысяч человек, кого только не цитировал! Больше никогда, никогда не буду, даю честное слово!» – с чувством стыда, тоже в сотый раз, совершенно искренно сказал себе он.
Вода, вопреки договору с хозяином дома, была не горячая, а разве чуть теплая: и посидеть в ванне нельзя, и сон окончательно сорвешь. Это чрезвычайно его раздражило. «Завтра же ему написать: сказать Альвера, чтобы написал на машинке, иначе он еще продаст автограф, мерзавец этакий!.. От холодной воды после такого обеда может случиться удар…» Хотя он знал (или так как знал), что едва ли с ним удар случится в эту ночь – давление крови шестнадцать, – с полной ясностью себе представил, как будет хрипеть в ванне до утра, пока не придет старуха. «Она бросится за консьержкой, консьержка прибежит сюда, они общими силами постараются поднять меня и перенести на постель…» Трагическое безобразие этой сцены поразило его и заняло. «Через полчаса приедет доктор, констатирует смерть и с торжественным видом позвонит куда следует: «Луи Этьенн Вермандуа скончался!» Через час прискачут журналисты, откуда-то появится какая-то книга (или нет: кажется, листы с черной каемкой) и начнут расписываться друзья. Тот молодой психопат сообщит репортерам подробности моего образа жизни, колеблясь между горем – «больше не будет жалованья» – и радостью, – «вот ты отправился к отцам, а я еще лет пятьдесят проживу!» Графиня, как «ближайший друг», будет, сдерживая глухие рыдания,принимать представителей президента республики и министра народного просвещения. «Еще вчера мы с ним провели вечер, он был весел и блестящ, как никогда…» В Академии произойдет сильное волнение: неожиданно открылась вакансия, на которую никто из собратьев и не надеялся… Эмиль приедет с постной физиономией и, расписываясь со своим росчерком, выдавит: «Какая потеря!» Журналисты тотчас запишут: «Какая потеря!» – сказал он».
Мысли эти, несмотря на иронический тон, его взволновали: ему показалось даже, что с ним и в самом деле произошел какой-то припадок.Правда, это лишь показалось: все-таки знал, что припадка не было и что давление крови шестнадцать. «Ну, не сегодня, так через год, особенно если из-за всего волноваться, как сумасшедший. Нет, положительно, бросить Париж, продать Ван Лоо, продать всю эту фарфоровую и порфирную дрянь, выручить что можно, благо ценность дряни дополняется моей славой: «из коллекции Луи Этьенна Вермандуа», и уехать, – и пусть романы пишет, до самой своей безвременной кончины, мой друг Эмиль!..» Как всегда, мысль, что Эмиль теперь пишет плохо, очень плохо, с каждой книгой все хуже, немного утешила Вермандуа. «Если б и вправду сейчас умирать, то было бы маленьким утешением, что больше никогда не увижу Эмиля…» Он разделся и, стараясь не глядеть с отвращением на свое старческое тело, сел в воду.
В ванне настроение у него становилось все мрачнее. Иронический тон чувств отлетел совершенно. Теперь в самом деле был припадок: припадок полного, казалось бы, беспричинного отчаяния. Он не видел просвета ни в чем: все было гадко, плоско, ужасно, ни о чем без стыда нельзя было вспомнить. И по сравнению с этим, собственным, личным, отходило на второй план то, что мир приближался к бездне, – нет, не отходило на второй план, но так тесно переплеталось, что было невозможно отделить одно от другого. От еле теплой воды у Вермандуа застучали зубы, он опять, с тем же морально-тяжким усилием, встал, закончил свой ночной туалет, вошел в спальню и лег в постель. Погасил было свет и полежал с четверть часа в надежде, что заснет; затем почувствовал, что заснуть нельзя и что нет силы бороться с тоской. Он снова зажег лампу и взял со столика книгу.
Это было французское издание разговоров Гёте с канцлером Мюллером – вполне приличная livre de chevet [118]118
Настольная книга (фр.).
[Закрыть], такая, которую можно было смело назвать в задушевно-глубокой беседе с интервьюером. На прошлой неделе Вермандуа и в самом деле сказал явившемуся за задушевно-глубокой беседой журналисту, что предпочитает эту книгу Эккерману: «У Эккермана парадный Гёте в понимании недалекого, если не глупого, юноши. А у Мюллера Гёте непричесанный и капризный, в спорах с умным, пожившим и культурным человеком». Ему потом было совестно, что он назвал Эккермана недалеким юношей, это было клише, и неверное клише. А дня через три он с ужасом и отвращением прочел украшенное его портретом интервью, где что-то говорилось о «cet immense bonhomme de Johann-Wolfgang vu par Louis-Etienne Vermandois» [119]119
«Этой необъятной личности Иоганна Вольфганга, рассматриваемой Луи Этьенном Вермандуа» (фр.).
[Закрыть], и даже нельзя было понять, просто ли это пошлая фраза или в почтительной форме коварная насмешка – глаза я улыбка у интервьюера были хитрые.
Он перелистал книгу с предвзятым сознательным недоброжелательством, «так, собственно, и надо читать всех замечательных писателей, если не хочешь попасть к ним в рабство…» – «Жизнь госпожи Крюденер подобна древесным опилкам: из нее в лучшем случае можно извлечь немного пепла для производства мыла…» – Образ из тех, что годятся для беседы или для черновика, но в беловую рукопись Гёте попасть не могли. Да и о какой человеческой жизни, собственно, нельзя было бы сказать того же самого?.. – «Надо было бы, чтоб немцы были рассеяны, как евреи, по всему лицу земли: только тогда они и могли бы дать меру своих способностей…» – Это был тоже «сверкающий парадокс», и политический деятель, канцлер Мюллер, вероятно, слушал его с уныло-покорным видом: нельзя же помешать великому человеку, да еще в 80 лет, говорить какой ему угодно вздор… – «Цензура полезна, так как приучает к полускрытому, и потому более тонкому и остроумному, выражению мыслей. Прямое выражение мысли обычно тяжеловато…» – Может быть. Однако это довод, придуманный нарочно для оправдания веймарских цензоров. Он верил в свободу духа и в блага цензуры, в величие дела французской революции и в величие дома Ротшильдов, издевался над бессмертием души, но находил, что мир погибнет, если обер-гофмаршал женится церковным браком на еврейке… Впрочем, очень многое говорил, конечно, назло своим собеседникам: его, должно быть, интеллигентное лицо канцлера Мюллера раздражало еще больше, чем восторженно-наивная физиономия Эккермана: «как бы не пропустить какой-нибудь новой гениальной мысли Его Превосходительства…» И самое замечательное то, что в такой нелепой обстановке, из этих долголетних ежедневных интервью он сумел создать интереснейшие, ценные книги.
Даже в редкие минуты профессиональной мании величия, вообще ему почти не свойственной, Вермандуа не сравнивал себя с Гёте. Но ему приятно было видеть, что и этот навсегда, на весь мир прославленный человек жил почти в такой же обстановке, как он, так же тяготился людьми, так же не мог без них обойтись, так же терпел обиды, так же подчинялся требованиям своего общества. «Самый Мефистофель его – общедоступный, конформистский черт: недаром им трепетно восторгается десяток поколений немецкого юношества, и недаром он в опере теряет так мало по сравнению с поэмой…»
– Требовал себе права не верить ни во что, в минуты откровенности не скрывал, что ни во что и не верит. – Издевался над глупостью королей, над зверством революций, над истинами откровения, над верой, над собственным своим неверием. – И больше всего завидовал простодушным людям, все равно портным или художникам. Гайдна спросили, отчего так радостны его мессы. – «Оттого, что, когда я благодарю Творца, я всегда неописуемо счастлив». Услышав это, престарелый Гёте прослезился.
Вермандуа в смертельной тоске отложил книгу. «Да, так больше жить невозможно… Чем жить? Для чего жить? Допустим, я сейчас умру: поднимет ли мою душу близость смерти? Нет, едва ли, и я не могу этого приписывать только собственному ничтожеству, вот и этот человек, один из величайших в мире, почти так же был опутан жалкими чувствами – не так же, пусть по-своему, а все-таки был опутан, – и в ненужно откровенные свои минуты сам в этом сознавался – не одному себе, но и другим людям. Старый, так много знавший, так много о разном, обо всем, о жизни думавший человек, чему ты можешь научить без «парадоксов», без стихов, без звонких речей, чему ты можешь по-настоящемунаучить другого старого человека, которому тоже осталось жить недолго? Не заглядывая в книги, помня только общий твой облик, посметь думать за тебя, попытаться, не пользуясь твоими словами, проникнуть в твою не книжную, а настоящую«мудрость»?








