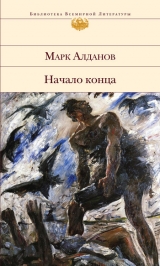
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 35 страниц)
После водки, оказавшейся отличной, после первого стакана карданаха, оказавшегося настоящим, после начала программы,оказавшейся весьма приличной, стало совсем весело. Они говорили о спектакле, командарм сказал, что это чушь: «Я седьмой десяток живу и таких ужастей не видел». – «А вдруг еще увидите». – «Едва ли. Нет, нет, кайтесь, в театр вы меня повели неудачно». – «Но зато в ресторан удачно. Вы больше не сожалеете, что сюда пришли?» – «Напротив, чрезвычайно вам благодарен. Право, тут очень мило, и продукты первый сорт. И даже обстановка…» Он запнулся. «Ну, что обстановка? Точно я не знаю, что в вас сидит золотопогонник!» – «Что вы, помилуйте, Надежда Ивановна». – «Вот что, не называйте меня Надежда Ивановна, это смешно. Называйте меня Надя».
Еще минут через десять языки у них развязались. Тамарин признался Наде, что с одним из висевших на стене золотопогонников он кончал академию и был на «ты», а под начальством другого проделал чуть не всю войну. «Что же это были за люди?» – «Они, милая, быть может, заблуждались, но…» – «Как? Только «быть может?» – «Наверное, – смеясь, поправился командарм (без водки и карданаха он и наедине с Надей не позволил бы себе тут засмеяться). – Заблуждались, конечно, и наделали пропасть ошибок, а люди были высокопорядочные, патриоты!..» С своей стороны – откровенность за откровенность – Надя дала понять, что очень не любит Кангарова и что ей с ним тяжело.
– Вы думаете, я не знаю, что обо мне говорят? – спросила она, вдруг густо краснея. – Вы понимаете, о чем я говорю?
– Нет, милая, я не знаю…
– Вероятно, знаете и не хотите мне сказать, потому что вы джентльмен, а они все… Ну, одним словом, говорят, будто я живу с Кангаровым…
– Милая, что вы!
– Я думала, что и вы слышали (Тамарин в самом деле слышал и даже, услышав об этом, в свое время расстроился). Все говорят, а это совершенная ложь и клевета! Клянусь вам, – продолжала Надежда Ивановна, положив руку на рукав командарма, точно он выражал недоверие, – клянусь вам, что это совершенная неправда! – Она залпом выпила бокал вина. Тамарин смотрел на нее испуганно. – Уж если на то пошло, то он в самом деле приставал ко мне и пристает. Он действительно в меня влюблен! Вероятно, я могла бы устроить так, чтобы он развелся со своей мордой и женился на мне. Но я слышать не хочу. Ведь он… (Она хотела сказать: «Ведь он старик» – и спохватилась.) Я его не люблю. И как человека не люблю, и так. Разве я виновата, что он меня не отпускает? Я его секретарша и должна с ним ездить, если он на этом настаивает и если он о моей репутации не думает. Вы меня осуждаете?
– Помилуйте, нисколько.
– Не осуждаете, потому что вы джентльмен, потому что вы не так воспитаны… А они… Разве у нас человеческие отношения? Ведь мы все друг друга ненавидим, готовы сказать друг о друге что угодно, рады съесть друг друга… Нет, я брошу все и уеду в Россию! Я уже хотела, да он не допустил. – У нее на глазах выступили слезы. – Я больше так не могу!
– А в России лучше?
– Может, и не лучше, а другое. Там есть и это, но есть еще что-то, воздух, не знаю, как сказать. Да и заняты там все гораздо больше, чем тут у нас. Наконец там есть молодежь, настоящая. Вы на меня не сердитесь, что я это говорю. Я вас очень люблю, очень. Но здесь вокруг меня все пожилые люди, самому молодому лет сорок… Ну, не будем об этом говорить, послушаем лучше, что он там поет. Опять о сердце! – «Спи, мое бедное сердце, – Прошлое вновь не вернется», – пел певец. – Все о сердце поют, а сердца у нас, может быть, ни у кого и нет.
– Зачем так мрачно, милая Надежда Иван… Надя? – ласково спросил Тамарин. Ему в самом деле было ее жаль; слова ее о Кангарове были очень ему приятны. – Вы молоды…
– Проходит моя молодость, Константин Александрович. «Прошлое вновь не вернется», – повторила она за певцом. – Ну, да я вернусь в Москву и заживу как следует… Каждый должен сидеть там, где нужно, на своем месте, я на своем, вы на своем, Вислиценус еще на третьем… Кстати, знаете ли вы, что он, бедный, очень болен?
– Нет, я не знал. А что такое?
– Я его свела с профессором Фуко. Знаете, первый в мире по сердечным болезням? У него амбассадер лечится от своих воображаемых болезней. А у того не воображаемая… Я хотела было позвать его сегодня с нами в театр, да не решилась, не зная, как вы к нему отнесетесь.
– Отчего же? Я решительно ничего против него не имею.
– А вы ничего о нем не слышали? Говорят, что он попал в немилость.
– В Москве? Нет, я не слыхал.
– Амбассадер даже очень сердится, что я с ним вожусь. А я, напротив, назло подчеркиваю свою независимость: при всех пригласила его к нам в санаторий, нарочно в полпредстве, при всех. Он у меня будет в среду к чаю. Ну, и была мне гонка от амбассадера: во-первых, я не должна была вообще звать Вислиценуса – раз; во-вторых, я не должна была его звать в резиденцию амбассадера – два; в-третьих, уж если зову, то не должна была объявлять об этом гласно – три. Я его дегонфлировала! [143]143
Разоблачить – фр.dégonfler.
[Закрыть]Что мы рабы, что ли? Хотите, Константин Александрович, приезжайте ко мне тоже в среду, а? Место чудное. Совершенно в стороне от дороги, тишина, уединение, прелесть! Приедете?
– Нет, что же… Меня уж, пожалуйста, извините.
– Ну, как знаете. – Она взглянула на него и улыбнулась. – Выпьем еще вина, а?
– Отчего ж? Но ничего не осталось. Мы с вами выпили всю бутылочку.
– Вношу чисто фактическую поправку: три четверти бутылочки выпили вы. Так закажем еще одну? Где наша не пропадала?
Они еще долго дружески-задушевно беседовали о разных предметах. Надя совершенно успокоилась: что-то приятно-успокоительное было во всем облике Тамарина, и еще очень ее обрадовало то, что он ничего о ней не слышал («кажется, правду говорит: Константин Александрович и не умеет врать») и не придал ее сообщению ни малейшего значения («разумеется, пустяки, и не стоит об этом думать»). Неожиданно для самой себя Надежда Ивановна рассказала Тамарину, что стала писать.Он сначала было не понял. «Как писать, дорогая?» – «Да так, представьте, пишу рассказ или даже целую повесть». – «Это зачем же, собственно?» – «Как зачем? – озадаченно переспросила Надя. – Зачем все писатели пишут». – «Вот как? Интересно, очень интересно. Не прочтете ли?» – «Ни за что!» – «Жаль, – Константину Александровичу показалось, однако, что, может быть, Надя и прочтет, если очень попросить, – очень жаль. Из какой же жизни?» – «Ничего вам не скажу, хоть убейте». – «Ну вот! Почему? Так вы, значит, хотите стать писательницей?» – «A вдруг? Чем черт не шутит?»
Она сообщила ему все свои последние планы. «…Так или иначе, рано или поздно я перевода в Москву добьюсь, от Европы я вот как зафатигела». – «Не говорите «зафатигела». Сами же писательницей хотите стать, а у них там первое дело слог и все такое…» – «Вы совершенно правы. У нас все так говорят, это как зараза. Вот и еще причина, почему мне надо вернуться в Россию. Но вы меня не перебивайте. Значит, я возвращаюсь. На месяц-другой у меня денег всегда хватит. Тогда одно из двух. Либо у меня нет таланта, ну что ж делать? Значит, буду дальше тянуть лямку, но у себя в Москве. У меня будет двухлетний стаж и три языка. Это не фунт изюму, правда?» – «Не фунт изюму», – подтвердил Тамарин. «…Или же у меня есть – не талант, конечно, а так хоть что-нибудь вроде, и мой рассказ примут. Тогда я сейчас же брошу службу и становлюсь свободным человеком – ах, просто мечта-а-ю! буду настоящей писательницей!» – «И будете». Она еще рассказала, что из Москвы один молодой человек прислал ей удивительное письмо. «Ну, вот как хорошо. Милый?» – «Очень. Инженер, только что кончил курс. Но вы, ради Бога, ничего не подумайте! Решительно ничего нет, и было это три месяца тому назад. С той поры от него ни звука». – «Да я ничего не думаю. Я только спрашиваю, милый ли?» Надя засмеялась: «Страшно! И вы тоже страшно милый. И вы знаете, я вам одному, пожалуй, решилась бы прочесть свой рассказ!» – «Я буду счастлив». – «Может быть, конечно, я ошибаюсь, но, право, мой рассказ очень недурен. Мне чертовски нравится. Только интрига не вытанцовывается». – «Против кого интрига?» – «Нет, интрига!.. Фабула! Никак не могу придумать фабулу… Однако бросим обо мне. Расскажите лучше о себе. Я вас еще ни о чем не расспросила». – «Да что же мне, старику, о себе рассказывать?»
Все же Тамарин сообщил, что его работа разрастается, что одна ее глава – о тактике моторизованных частей в Испании – уже появилась в печати и обратила на себя внимание: ее два раза цитировали в иностранных специальных изданиях. «Я поэтому недели две тому назад обратился в Москву с ходатайством о продлении командировки: ведь все-таки это будет капитальный и нужный труд. Использованы решительно все материалы, а у нас это мало кто знает, да и на Западе испанский опыт еще не учтен. Вы скажете: какие же там были моторизованные части! А все-таки на Эстрамадурском фронте…» – «Да разве вам хочется, чтобы вашу командировку продлили?» – «Еще бы! – сказал он с жаром и пояснил, поправляясь: – Ведь жаль было бы оставить эту работу незаконченной, а тут у меня есть все источники…» С своей стороны Надя терпеливо выслушала его мысли о том, что показал опыт испанской войны в вопросах тактики моторизованных частей.
Счет Тамарин спросил лишь в двенадцатом часу. Как он ни пригибал к тарелочке верхнюю половину сложенного вдвое листка, точно в этом листке было нечто в высшей степени непристойное, Надя заглянула и вскрикнула: «Я вас разорила!» – «Да что вы, напротив, счет вполне божеский, и мне было так приятно…» – «А мне-то! Давно так не проводила вечера… Разумеется, все это совершенно между нами, Константин Александрович! Особенно моя горе-литература…» – «Помилуйте, разве я не понимаю?» – «Я только вам об этом и сказала, потому что в жизни не видала такого джентльмена, как вы… Ах, если бы все были такие!..» Ее глаза опять наполнились слезами, но на этот раз больше от вина.
Тамарин бросил последний смущенный взгляд на висевшие на стене портреты. Провожали его и Надю с поклонами и с почетом. «Очень хорошо поужинали», – сказал хозяину осмелевший командарм, широко давая «на чай» подававшему пальто человеку. «Прикажете такси позвать?» – спросил человек. «Да, надо бы, я вас подвезу, милая», – сказал Тамарин («милая» говорить было легче, чем с непривычки «Надя»). «Ни за что! Метро отлично действует, у меня только одна пересадка…» Он проводил ее до подземной дороги. Ему самому удобнее было ехать с другой станции, и он хотел еще пройтись. На прощание Надя снова его обняла и поцеловала. «Вы страшно милый, совершенный джентльмен! – сказала она, видимо, довольная этим непривычным ей определением. – Значит, пока. Ах, виновата, не буду: до свидания! Жаль все-таки, что вы не хотите приехать с Вислиценусом. И вы!» – лукаво подчеркнула Надежда Ивановна и побежала вниз по лестнице.
VIII
«Очень милая девочка, – думал Тамарин, не очень задетый ее последними словами, – прелестная девочка. Испорченная, конечно, их уродливой жизнью, но по натуре прелестная». Приятное впечатление от вечера, карданаха и поцелуя действовало на командарма. Он даже шел еще бодрее обычного, с такой выправкой, что слепому было бы ясно: старый офицер. «А еще есть люди, ругающие жизнь! Разве не чудесен был весь этот вечер?» Несмотря на свою бережливость и потерю привычки к таким расходам, он почти не жалел об истраченных ста сорока франках. «Куда же беречь? Все-таки ведь и жалованья не проживаю, и место, кажется, обеспечено…»
Не совсем приятны были только последние сказанные Надей слова. «Дразнит тем, будто и я испугался этого… как его?.. – Он пожал плечами. – Было бы более чем глупо рисковать всемради удовольствия встречи с полоумным субъектом, имевшим несчастье попасть в опалу к другим полоумным. Притом мужество – самое относительное понятие». Тамарин знал, что он человек храбрый, – на войне часто бывал под огнем, подавая солдатам пример спокойного мужества. Но он знал также, что скандалов терпеть не может и сделает все возможное ради избежания скандала, а равно и для сохранения должности, на которой можно приносить пользу России и русской армии. «Совершенно не вижу, чего тут стыдиться. Ну, да она таксказала».
В самом лучшем настроении духа он вышел на ярко освещенную огневыми рекламами площадь, где имя знаменитого скульптора было почтено множеством сомнительных учреждений. «Экая странная площадь, – подумал Тамарин, почти никогда здесь не бывавший, – все дома разные по величине, по цвету, по стилю, будто каждая эпоха хотела тут расписаться. И скверно расписались…» На бульваре света сразу убавлялось вдвое, а вверх уходили почти темные, таинственные, пустынные и мрачные улицы или тупики, и бродили по ним одинокие фигуры, ничего хорошего с виду не обещавшие. Вдоль тротуаров бульвара стояли многочисленные автомобили, все без шоферов, и Тамарин себя спрашивал, куда же девались шоферы, – точно в сказке о Басарге-купце стоят у берега триста тридцать три судна, и ни на одном нет ни живой души. Он шел по бульвару, всему тут благодушно удивляясь: оживлению, людям, вывескам, дико освещенным барам с двусмысленными названиями, кабаку с входом в виде оскаленной челюсти, кабаку, завешенному черным гробовым сукном, и еще более открытым ночью магазинам: «Ну, съестные припасы я еще понимаю, – думал он, глядя на колбасы и полусырое мясо с отвращением не в меру сытого человека, – ну, аптека, это хорошо, эти Blenyl и Santal Bleu [144]144
Бленил и Голубой сандал (фр.).
[Закрыть]тут даже вполне уместны – кому как утешение, кому как memento mori.
Но какой же человек в своем уме пойдет ночью покупать книги, или отдавать в починку самопишущее перо, или заказывать билет на пароход дальнего плавания?.. Мимо него проходили с ухарским видом странно, не по сезону одетые молодые люди, иные просто в пиджачке; они шли, заложив руки в карманы и закутав шею, и у всех во рту папироска, и не иначе как набок, под острым углом. По виду, конечно, ничего о них не скажешь: может, честнейшие юноши, а может, они только что зарезали старушку и идут отдыхать вот сюда, где учат, как по всем правилам резать старушек, в кинематограф «permanent» [145]145
«Без перерыва» (фр.).
[Закрыть]. Как не порадоваться, что такое сокровище – «permanent!..». На кинематографической афише был изображен злодей-мулат, и точно такой же злодей-мулат шел тут по улице под руку с женщиной, на лице которой были написаны покорность и счастье: с этим красавцем в огонь и воду! «C’est fantastique, je te dis, chéri, que c’est fantastique!..» [146]146
«Невероятно, слышишь, дорогой, просто невероятно!..» (фр.)
[Закрыть]– говорила женщина. Мирно шли супруги, видимо, жители квартала, в руку отца впился ребенок-сын, и на них с благодушным видом смотрел старичок в белом колпаке, быть может, полвека торговавший каштанами на этом самом месте и знавший всех убийц, переходивших с этой улицы в тюрьму и на эшафот. «Да, c’est fantastique, как тут все совмещается. В сущности, тут только видимость разврата, как везде во Франции, целый день идет трудовая, честная, будничная, почти провинциальная жизнь. Верно, нигде в мире нет такого контраста между дневной и ночной жизнью, как здесь…»
Мысли его опять перешли к Наде. Ему было очень приятно то, что она просила его называть ее Надей и что она не любовница Кангарова. «Почти голову на отсечение дам, что это мерзкая клевета! – подумал он, и сам устыдился своего мысленного «почти». – Два раза, однако, поцеловался». Ему пришло в голову, что, может быть, и его жизнь еще не совсем кончена. «Ну, ерунда, ерунда…» Приятная улыбка не покидала его и в подземной дороге. Для довершения впечатления богатой беззаботной жизни он купил билет первого класса.
Хозяин гостиницы еще не спал – Тамарин вообще не мог понять, когда спит этот человек. Они дружески поздоровались – командарм в гостинице считался самым лучшим, солидным и спокойным жильцом; по счетам он платил в тот же день, когда счет предъявлялся. «On vous a fait parvenir un paquet» [147]147
«Вам передали пакет» (фр.).
[Закрыть], – сказал хозяин, подчеркивая интонацией, что пакет исходил от какого-то важного «on». Объяснил, что привезли через десять минут после ухода Тамарина и оставили под расписку. Хозяин достал большой конверт, положенный им не в ñasier [148]148
Шкафчик (фр.).
[Закрыть], а в ящик конторки. «Что такое?» – тревожно спросил себя Тамарин. Он поблагодарил хозяина и еще в подъемной машине стал распечатывать конверт. Под первым конвертом оказался второй. «Так и есть, ответ из Москвы!» – подумал Тамарин, машинально пряча и первый разорванный конверт в карман. Руки у него немного дрожали. Он хотел было загадать, продлена ли в Москве командировка, – «дай-то, господи!» – но не загадал. Машина остановилась. Тамарин отворил дверь своего номера – руки дрожали все сильнее, – зажег свет, распечатал, не садясь, не снимая пальто, второй конверт – и помертвел. Это был приказ о немедленном отъезде в Испанию.
IX
Заседание суда начиналось в час дня – самое неудобное время: как быть с завтраком, если надо ехать в Версаль? Вермандуа решил позавтракать в одном версальском ресторане, где хозяин, человек с совестью, отлично жарил бараньи котлеты и считал по ценам, доступным для бедного, очень бедного, хотя знаменитого писателя. Аванс под все не выходивший греческий роман уже давно был целиком истрачен, а куда ушли деньги, совершенно непонятно. Завтрак в одиночестве, хороший, с полубутылкой бордоского вина (больше нельзя), был в последнее время одним из немногих оставшихся в жизни удовольствий.
Легкая боль в боку отравила то праздничное, давно забытое, что было в отъезде с утра за город и что на этот раз совершенно не соответствовало причине поездки. Накануне позвонила по телефону графиня де Белланкомбр и предложила ехать вместе в ее автомобиле. «Катастрофа!» – подумал он с ужасом в спешных поисках предлога для отказа. «Я был бы счастлив!.. Но позвольте, вы-то зачем едете на это дело?» – «Ах, мне очень интересно. Согласитесь, что дело удивительное и в социальном, и в психологическом отношении. Ведь это же Раскольников! А главное, мне хочется услышать вас!» – «Дорогой друг, вы говорите так, точно я буду петь партию Зигфрида! Я не тенор, я свидетель». – «Но вы не совсем обыкновенный свидетель. Так едем?» – «Я в отчаянии… Вы когда выезжаете?» – «Ровно в одиннадцать». – «Это ужасно! У меня в двенадцать назначено деловое свидание». – «Как жаль! – сказала графиня. – Мы везем Серизье, он достал нам билеты в суд. Право, он очень милый человек, у меня напрасно было против него предубеждение». – «Милейший человек. Если б только он не называл себя социалистом». – «Оставьте, пожалуйста. Так никак не можете? Неужели нельзя отложить это свидание? Мы вместе позавтракаем в Трианоне, а?» – «Я в совершенном отчаянии, но это невозможно: проклятая деловая встреча со скучнейшим человеком назначена ровно на двенадцать». – «Ну, так мы будем вместе обедать или ужинать в зависимости от того, когда кончится этот ужасный процесс… А может быть, вы не очень любите Серизье?» – «Я его обожаю!» («Попал-таки вождь пролетариата в графский дом», – сказал себе Вермандуа и подумал, что о нем самом, вероятно, говорят приблизительно то же.) – «Значит, до завтра. Вы не можете себе представить, как меня волнует это дело и этот несчастный юноша. Я не сплю вторую ночь». – «Мне известна нежность вашей ангельской души». – «Ах, не шутите, все это ужасно! Что за молодежь теперь пошла! Так до завтра». – «До завтра, до свидания, дорогая», – сказал он с облегчением.
Были, конечно, плюсы и минусы. Плюс: не надо разговаривать три часа с этой старой дурой, с ее идиотическим мужем и с вождем пролетариата. Минус: автомобиль пришлось нанять на свои деньги. Но, с другой стороны, давно следовало бы сделать старой дуре какую-нибудь politesse [149]149
Любезность (фр.).
[Закрыть]. Вермандуа был с графиней в столь дружеских отношениях, что и цветов почти никогда не приносил, а если приносил, то дешевенькие, в виде charmante pensée [150]150
Милая фантазия (фр.).
[Закрыть]: «Друг мой, увидел сегодня первые фиалки и подумал о вас». Charmante pensée применялась и в отношении других дам, у которых он обедал (впрочем, обедал почти всегда по их настоятельному требованию); в зависимости от сезона фиалки заменялись другими недорогими цветами: «Друг мой, сегодня появился первый ландыш, я надеюсь, вы его еще не видели». Но теперь, при самой экономной разновидности дружеских отношений, грозно надвигалась необходимость что-то сделать. «А если бы я поехал в их автомобиле и завтракал с ними в Трианоне, это было бы последней каплей,переполняющей чашу. Пришлось бы по меньшей мере позвать их на обед!..» Его не так пугали расходы по обеду; но в последний год Вермандуа все чаще себе говорил, что, когда жить осталось очень, очень мало, то странно и глупо тратить время не общение с людьми, да еще неинтересными. «Пока можно подождать с обедом: была лишь предпоследняякапля. У минуса оказался свой дополнительный Плюсик…»
По дороге в Версаль он мрачно думал о том, сколько места занимают в его жизни совершенно ничтожные дела и соображения, – такие, какие могли бы быть у любого лавочника или маркиза. «Надо, надо иметь сердце горе», – подумал он (хоть думал это серьезно и печально, но подобные слова и мысленно не мог произнести иначе как в кавычках). Немногочисленные друзья Вермандуа находили, что он очень изменился в последние годы, стал чрезвычайно нервен и раздражителен. «Вы не видите, в нем произошел настоящий душевный перелом! Положительно, это кризис!» – говорила графиня с радостно-испуганным видом, точно речь шла о серьезной болезни, принявшей, к счастью, благоприятный оборот.
Говорили, что и здоровье его вдруг сильно пошатнулось. Действительно, при очередном визите к врачу нежданно-негаданно (в мыслях ничего такого не имел!) выяснилось, что сразу пришли в расстройство и почки, и печень, и что-то еще, а давление крови вдруг оказалось равным двадцати, и требовалось его понизить возможно скорее. «Но ведь прошлый раз все было в порядке?» – горестно-изумленно говорил Вермандуа с выражением обиды и упрека в голосе. Врач, очевидно, не чувствовавший за собой вины, пожал плечами: «Удивляться надо именно тому, что все до сих пор было в порядке. Все-таки не забывайте, что вы вступили в восьмой десяток…» Это выражение, хотя и бесспорно верное, не понравилось Вермандуа: неделикатно выражаются люди. «Un septagénaire» [151]151
«Семидесятилетний старик» (фр.).
[Закрыть]– и слово какое неприятное! «Вы, однако, нисколько не должны тревожиться, – объяснил врач, – опасности нет ни малейшей. В семьдесят лет органы человеческого тела и не могут работать, как в двадцать. В ваши годы человек почти всегда живет не на проценты с капитала, а на капитал, но капитал вашего организма большой, и если его беречь, то хватит надолго». Доктор любил выражаться образно. Он еще усилил разные запретительные меры, дал лекарства, и давление крови скоро дошло до восемнадцати. Встречая теперь в газетах слова «septagénaire» или «vieillard» [152]152
«Старик» (фр.).
[Закрыть](иногда писали еще противнее: «un septagénaire robuste» [153]153
«Крепкий семидесятилетний старик» (фр.).
[Закрыть]), Вермандуа морщился с самым неприятным чувством. «Да, как незаметно пришла старость! Как я мог допустить до этого!..»
И словно врач сглазил, тотчас после визита появилась легкая боль в боку, покаочень легкая. Кроме того, из-за политических событий в мире отвращение от людей еще усилилось у Вермандуа и приняло острую форму. Это было, в сущности, как он себе говорил, единственной постоянной величиной в его умственном и душевном уравнении: все остальное менялось беспрестанно, с быстротой, его самого удивлявшей и тревожившей. Нехороши были и денежные дела: не кончив греческого романа, он не мог взять аванс под другой. В общем, трудно было даже сказать, что теперь главное: боль в боку, давление крови, невидимое, неощущаемое, но где-то делающее свое скверное дело, или безденежье, или то, что творилось в мире, – а вернее, все это взятое вместе. Друзья Вермандуа замечали, что изменился самый тон его разговоров, прежде почти всегда благодушно-насмешливый до утомительности: он стал выражаться резко, начал терять прежнюю словоохотливость, а иногда (впрочем, не так часто) в гостях молчал весь вечер, особенно в тех домах, куда его приглашали именно для того, чтобы угостить им собравшихся, как гастрономов угощают старым коньяком. «Пусть угощают одним моим именем!..»
Жаловались на Вермандуа и его политические единомышленники: коммунисты и друзья коммунистов сокрушенно отмечали в нем новое, старческое равнодушие. Он оставил без ответа – впрочем, больше по забывчивости – два приглашения на митинги. Протесты еще подписывал, но неохотно. За подписью под последним протестом к нему приезжал немецкий эмигрант Зигфрид Майер и что-то говорил на ужасном французском языке, и надо было его слушать с горячим сочувствием,и на прощание требовалось крепко-прочувствованно пожать руку, и Вермандуа проделал все это, однако немецкий эмигрант был ему чрезвычайно противен. «Я следил за собой, чтобы не сказать: «Хайль Гитлер!..» Впрочем, если бы приехал в гости реакционер, то мне тотчас захотелось бы послать приветственную телеграмму Сталину…» Не так давно он получил предложение съездить в Москву, причем вскользь было сказано, что Государственное издательство было бы радо выпустить русский перевод книги, которую он мог бы написать о своем путешествии, разумеется, на самых лучших условиях. Хотя деньги были ему очень нужны, он ответил вежливо-уклончиво. «Да, слаб человек, и в особенно опасные минуты надо бы иметь перед глазами какое-либо наглядное, страшное изображение, – вот как автомобилистов на опасных поворотах дороги предупреждают дощечками с изображением черепа и скрещенных костей…» Однако в делах житейских большевистское настроение у него сказывалось еще с большей силой, чем прежде. Он считал себя единственной во Франции знаменитостью без состояния и иногда подолгу думал о том, что сделает, если выиграет миллионы в национальную лотерею (впрочем, билетов не покупал, разве только навязывали случайно). Богатых же людей Вермандуа ненавидел все сильнее.
За заставой Сен-Клу его машину обогнал огромный великолепный автомобиль, в котором сидели господин и дама. Несмотря на то что люди были ему незнакомы, он и на этот раз почувствовал припадок ненависти. Разумеется, литература, кроме бульварной, водевильной и кинематографической, решительно никому не нужна, это баловство другой эпохи, иначе и у старого писателя был бы свой автомобиль, как у хамов и спекулянтов. Печень и воображение сразу подсказали ему все:богатый биржевик, здоровый, невежественный, хитрый, только что наживший миллионы, везет за город любовницу. Или, может быть, они бегут в Америку? Ведь война не за горами. Эти люди, которым место на каторге, пользуются защитой законов и общественного строя. Они принимают министров и писателей, они жертвуют деньги на благотворительные дела, они получают ордена, они общество, они интеллигенция, они рассуждают о литературе. «Я уверен, у него в чемодане роман Эмиля (надеюсь, не мой). Да, я отлично понимаю Альвера, – кровожадно подумал Вермандуа, – убил одного из таких господ, экое преступление! Их всех со временем повесят на фонарях, и очень хорошо сделают. Жаль только, что многие из них умрут раньше естественной смертью…»
Затем боль в боку прошла, и мысли его стали менее жестокими. Он с усмешкой подумал, что все-таки не может себя причислить к числу жертв общественного строя, хотя едет на taxi вместо собственного автомобиля. «Не со вчерашнего дня все это существует, и думали об этом немало умных людей, и ничего они не придумали, кроме разве фонарей. Черт с ними, со спекулянтами!..» «Черт с ними» всегда несколько его успокаивало.
Осеннее утро было очень хорошо – «просто вставляй описание природы, как это делает Эмиль на каждой десятой странице своих мануфактурных изделий». Вермандуа, щурясь, читал названия улиц (зрение тоже слабело) и думал, что в самих именах этих – Севр, Вирофле, Версаль – есть нечто прелестное, пленительно-нежное, чего нет нигде в других странах. Эта дорога была когда-то центральной артерией мира. Теперь, на разных Avenue de Versailles и Avenue de Paris, за каждый камень, за разваливающиеся дома, за трехсотлетние лачуги еще цеплялась небогатая, серая, скучная жизнь или, свалив их, строила что-то свое, тоже небогатое, серое, плоское, скучное. «Да, судьбы Европы решались между Тюильри и Версалем. Плохо решались? Все же несколько лучше, чем теперь!..» Автомобиль замедлил ход, пропуская встречный воз, запряженный гнедым першероном. В виде этой огромной, тяжелой, неторопливой, необыкновенно симпатичнойлошади было что-то успокоительное, тоже бесспорно доказывавшее превосходство старого времени над новым.
В Версале Вермандуа велел шоферу остановиться у дворца и с досадой почувствовал, что в ресторан идти незачем: есть совершенно не хочется. До начала заседания оставалось более часа. Он немного погулял по городу, остановился по непреодолимой привычке у витрины книжного магазина и увидел новую книгу Эмиля. На бумажной» ленте было написано: «Vient de Paraître. Enfin le livre qu’on attendait» [154]154
«Последняя новинка. Вот наконец та книга, которую вы ждали» (фр.).
[Закрыть]. Вермандуа выругался. «Он теперь пишет по роману каждые шесть месяцев. Какое счастье, что ему за семьдесят пять!» (Эмилю всегда мысленно накидывал года три или четыре, и было очень приятно, что Эмиль еще старше его.) Прошел в сад и подумал, что, быть может, находится тут в последний раз в жизни: «Надо бы проститься…» Он довольно часто прощался с разными знаменитыми местами. В отношении Севильи или Венеции это все-таки было естественно. Но в душе он не верил, что может навсегда расстаться с Версалем: настолько это было свое,коренное, от него неотделимое. Вермандуа остановился на лестнице и в тысячный раз полюбовался единственным в мире зрелищем.
«Версаль, что такое Версаль? – думал он. – Порядок? Разум Франции? Французская гармония? Французский здравый смысл? Все это не помешало драгоннадам, отмене Нантского эдикта [155]155
«Драгоннады – во Франции с 1681 г. принудительные постои драгун, имевшие целью терроризировать гугенотов. Драгунам дозволялись «необходимые бесчинства». Нантский эдикт, гарантировавший права гугенотов, отменен Людовиком XIV в 1685 г.
[Закрыть], бессмысленным войнам. Но порядок Людовика XIV действительно ничего не теряет по сравнению с нынешним хаосом. Расин мог не бояться, что в одну прекрасную ночь его отравят ядовитыми газами. Он знал также, что его ни в каком случае не повесит взбунтовавшаяся чернь. Расин жил в своем доме, со своим садом, со своими лошадьми, собаками. Нельзя подходить к миру с точки зрения одного Расина. Однако и рядовому французскому крестьянину жилось тогда все-таки более спокойно, чем теперь, – разумеется, если он был католик. Зачем же ему было становиться протестантом? Он одинаково мало понимал в Боссюэ и в Лютере… По существу, как писатель Боссюэ выше Лютера, как мыслители оба они вполне стоят друг друга… Монархической идее принадлежит прошлое, – а вдруг ей принадлежит и будущее? Маловероятно? Но на моих глазах происходили события еще гораздо менее вероятные.








