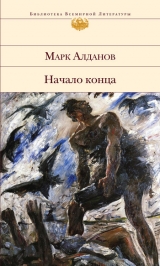
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
– Делать в жизни свое дело, делать его возможно лучше, если в нем есть, если в него можно вложить хоть какой-нибудь, хоть маленький разумный смысл. Пусть портной шьет возможно лучше, пусть писатель пишет, вкладывая всю душу в свой труд… Не уверять, что трудишься для самого себя, – ведь и он мечтал об огромной аудитории и откровенно советовал тем, кто не ждет миллиона читателей, не писать ни единой строчки… Не задевать предрассудков, по крайней мере, грубо, не сражаться ни с ветряными мельницами, ни даже со странствующими рыцарями, если только не в этом заключается твоя профессия, профессия политического донкихота, такая же, по существу, профессия, как труд сапожника или ветеринара… Не потакать улице и не бороться с ней: об улице думать возможно меньше, без оглядки на нее, без надежды ее исправить. Но в меру отпущенных тебе сил способствовать осуществлению в мире простейших, бесспорнейших положений добра. На склоне дней знаменитый врач говорил, что верит только в пять или шесть испытанных лекарств вроде хинина. Бесспорные принципы добра почти так же немногочисленны… Для себя же, для немногих свободных людей можно пойти и дальше. «Холодное наблюдение» имеет свою ценность. В мысли, как в жизни, всего выше можно подняться при пониженном душевном жаре. Рядовые удачники жизни «горят», но у Наполеона сердце билось со скоростью 60 ударов в минуту.
– И как кровь возвращается по венам в сердце, отдав по пути свои питательные вещества, так всего дороже возвращающиесяв сердце, больше ничего не питающие истины. Эти истины беречь про себя и в то время, когда больше не ждешь ничего, кроме пристойных некрологов. Жить спокойно, зная, что мир лежит во зле. Радоваться редкому добру, принимая вечное зло как общее правило мира.
Он снова раскрыл книгу. В ней ничего этого не было.
Часть вторая
I
Подъемной машины в особняке знаменитого врача не было. Вислиценус медленно поднялся по лестнице. Он замечал, что боли (упорно не хотел называть их припадками)появляются чаще всего при подъеме. «Хорош, очень хорош, – подумал он в недавно принятом тоне насмешки над собою, точно он был мнимый больной. – Вот как оно отлично совпало: сразу и инвалид, и пат…»
В первой комнате бельэтажа сидела некрасивая девица в черном платье, с лицом, очевидно, испуганным раз на всю жизнь. Узнав фамилию, она нервно справилась по тетради в кожаном переплете и с видимым облегчением сказала: «Да, да, вы записаны на 3 часа 30. Но вам придется подождать: к профессору недавно вошли, и другой пациент ожидает в приемной. Точно рассчитать профессор никогда не может…» Она говорила «профессор», без фамилии, таким тоном, будто других профессоров на свете не существовало. Говорила негромким голосом, как в больнице, и, невольно этому подчиняясь, Вислиценус столь же тихо спросил, где приемная. «Налево первая дверь», – изумленно сказала она, как будто он сам был обязан это знать.
«Нет, не пришла», – с некоторым разочарованием подумал Вислиценус, войдя в приемную. Эта комната, впрочем, больше походила на библиотеку. Стены были выстланы книгами. Посредине стоял стол с сиротливым номером иллюстрированного журнала; еще было несколько кресел и стульев, расставленных как на сцене передового театра. У камина сидел старик, почему-то державший в руке светлые перчатки. Вислиценус слегка ему поклонился и раздражился, получив в ответ удивленный взгляд. «Много, много хамов развелось на свете», – подумал он и, отвернувшись, сел у окна. «Оно на улицу. Посмотрим, что гороховое пальто…Да, тут как тут». Филер, неотступно следовавший за ним по пятам от самого дома, был не в гороховом пальто, а в сером, но так называть его было приятно по воспоминаниям молодости. Низкорослый плюгавый человек медленно гулял по противоположному тротуару, и по его виду нельзя было сказать, кто он такой по национальности.
«Экий, однако, болван», – подумал, усмехаясь, Вислиценус. Его раздражала младенческая техника слежки. «За старым революционером этот шпик следит так элементарно и грубо, как за каким-либо студентиком-пижоном». Он и думал на устарелом языке своей молодости: шпикистарого времени вызывали у него теперь некоторое умиление. Ему вдруг вспомнилась ссылка – Енисей, сорокаградусный мороз, Марья Васильевна, жарко натопленная комната с продавленным ситцевым диваном, горячий чай с клубничным вареньем, книга Бельтова в красном коленкоровом переплете – все сразу, все как одно, – и он почувствовал такую тоску, точно то было самое лучшее время его жизни. «Может, и действительно было самое лучшее».
С воспоминаниями о поэзии ссылки и о поэтических шпиках тоже лучше всего было, как он знал по опыту, бороться иронией да еще деловитостью. «Ну хорошо, кто же этот нынешний не поэтический шпик? Я говорю себе, что заметил его тотчас. Вероятно, так оно и было; слава богу, кое-какой опыт есть. Все же тут логическая несообразность: заметил – когда заметил, а установлена слежка, быть может, давно. Так кто же: гестапо или ГПУ?» – в десятый раз спросил себя он, стараясь теперь рассуждать хладнокровно; в первую минуту, когда заметил слежку, почувствовал боль в сердце и удушье с тяжкой тоской – то самое, чего не хотел называть припадками. «Почему же такое волнение, молодой человек? Казалось бы, это для вас дело довольно привычное! Можно сказать, под всеми широтами. Да, былопривычное, недавно отвык. В последние годы все больше сам устанавливал слежку за другими… Разумеется, есть нечто неизбежно-трагикомическое в переходе от революции к правительству, от правительства к революции. Кажется, это явление новейшее: прежде этого не могло быть, по крайней мере, в таком масштабе… Ну, и черт с ними!»
Он отошел к столу, взял иллюстрированный журнал и вернулся на свое место. Ждавший приема старик с любопытством на него поглядывал. «Если бы работа у них была тонкая, то именно этот пациент, пришедший раньше меня, должен был бы оказаться шпиком, как в уголовном романе. Технически это было бы не так трудно сделать…» От скуки он стал соображать, как именно это можно было бы устроить: посадить шпиона в приемную врача для наблюдения над человеком, который должен к врачу прийти. «Фантазия полицейских руководителей почти всегда питается уголовными романами, и все они до таких романов охотники необычайные. И Феликс их любил, и скотина Генрих тоже… Да и я любил: и тогда, когда был дичью, и тогда, когда сам стал охотником. Да, есть, есть трагикомическое в этих переходах! Что ж, быть дичью, пожалуй, мне лучше, больше к лицу, больше соответствует всей жизни, – подумал он и ответил себе: – Неправда, не лучше, а хуже, гораздо хуже. Но узнать, что я буду у первого в мире,они никак не могли, кто бы они ни были. Нешто если Надя у них на службе», – с улыбкой сказал себе Вислиценус.
Лениво скользнул глазами по объявлениям, по цезарям в футбольных костюмах, по красавицам, улыбавшимся ослепительной улыбкой из окон автомобилей, по знаменитым людям, восхвалявшим минеральные воды, зубные порошки и безопасные бритвы. Все это было ему приятно, как лишнее, незначительное, но забавное свидетельство о пошлости и продажности буржуазного мира. «Ne pas connaître Unic c’est alter nu pieds…», «Le Burberry est chaud. Le Burberry est frais…» [120]120
«Не знать «Уник» – это ходить босым…», «Бюрбери» – тепло, «Бюрбери» – прохлада…» (фр.).
[Закрыть]– читал он. Потом ему надоело, заглянул в отдел политической хроники. Японские генералы с женскими именами одерживали победы на Дальнем Востоке; журнал не вполне одобрительно отдавал должное таланту генералов, истреблявших при помощи аэропланов по тысяче и по две беззащитных людей в день. Что-то такое же происходило и в Испании, «но тут у генералов имена среднего рода». И кто-то кому-то делал энергичное представление,и кто-то кому-то заявлял самый решительный протест.
Он положил журнал на колени и задумался. «Все скверно, все мерзко, все, политическое, личное, всякое. И астма – хорошо еще, если астма, – и эти испано-японские дела, и слежка, и торжество зла в мире», – «заодно снова подумал, что Надя могла бы прийти сюда, хоть теперь и это большого значения не имеет. «Разлюбил, разлюбил. Кармен этакая. Да, перестал валять дурака. Вероятно, тоже из-за астмы и из-за Москвы».
Надежда Ивановна позвонила ему по телефону три дня тому назад. Узнав ее голос, он обрадовался, но совсем не так, как обрадовался бы год тому назад. Надя сообщила, что приехала в Париж ненадолго («С ним, конечно», – подумал он) и очень, очень хочет его повидать. «Я слышала, что вы плохо себя чувствуете? что с вами? здоровье неважнецкое?» – «Да, не очень хорошее». – «Кто вас лечит?» – «Никто не лечит». – «Помилуйте, это совершенно невозможно!» – «Возможно, как видите. Да мне еще в Москве врач сказал, что это астма и что тут делать нечего». – «В Москве! Вы шутите! Сколько же времени прошло с Москвы! Вам необходимо теперь же пойти к врачу, и к хорошему, к настоящему». – «Вот еще! Что за нежности». – «Не нежности, а непременно пойдите. Я это вам обстряпаю, а до того и уславливаться ни о чем не хочу. Завтра же вам позвоню. До свидания». Она повесила трубку. На следующее утро позвонила опять: «Ну вот, все устроено. Вы послезавтра в 3 часа 30 у Фуко». – «У какого Фуко? Что за ерунда?» – «Нет, не ерунда, а делайте, что я вам говорю, иначе я вас больше знать не желаю. Послушайте, это вам будет стоить триста франчиков, но на такие вещи денег жалеть нельзя. Вы поставите в счет, а если у вас сейчас нет, то возьмите у меня!» – «Какие триста франков, в чем дело? Это доктор, что ли?» – «Это знаменитый профессор. Неужели вы не слышали: Фуко? Он теперь первый в мире по сердечным болезням и берет шестьсот, но я для вас устроила за триста». – «Да помилуйте, зачем я к нему пойду? У меня решительно ничего серьезного нет». – «Ну так вот, он так и скажет, что у вас решительно ничего серьезного нет. А я, по крайней мере, буду спокойна. Вы не только нужны партии, вы нужны и мне. Кроме того, я вас записала, так что, если вы откажетесь, то мне придется выложить триста франчей своих, и без всякой пользы. Нет, право, пойдите, ну, для меня, для моего успокоения!» – «Лицемерка, вы так обо мне тревожитесь? А хоть одну строчку за все время написали?» – «Я не мастерица писать письма. У Гоголя сказано: «письма пишут аптекари». А я другое пишу…» – «Что?» – «Да и вы мне тоже ни одной строчки не написали. Так пойдете?» – «Ну, что ж, если вы требуете». – «Требую, требую, категорически требую! Спасибо, милый!» (Это «милый» все-таки очень его тронуло; в действительности она на мгновение забыла имя-отчество Вислиценуса.) «Значит, послезавтра, в половине четвертого». – «А почему мне у этого Фуко скидка?» – «Ах, это целая история… Я ведь здесь с амбассадером, – сказала она, и ему показалось, что в голосе ее прозвучала злоба, – вы, верно, слышали?» – «Нет, я не знал (так и есть), но какое же это имеет сюда отношение?» – холодно спросил он. «Такое, что амбассадер тоже лечится у этого профессора Фуко. Он, видите ли, помешался на своих болезнях, хоть здоров как бык. Зафатигела [121]121
Усталость – фр.fatigue.
[Закрыть]я с ним совсем, описать вам не могу, как зафатигела! Ну так, естественно, амбассадер платит по полному тарифу, шесть билетиков, я на этом основании добилась через нашего врача скидки для вас». – «Совершенно напрасно. Я не желаю быть бесплатным приложением к вашему амбассадеру». – «Во-первых, не бесплатным. Во-вторых, вы можете заплатить ему хоть тысячу двести, мне все равно. А в-третьих, амбассадер не мой…Если б вы знали, как я им поужинала! Да и они все! У них там теперь пошел такой хамеж! Ну, да об этом по телефону говорить незачем. А насчет платы, если два пациента, то Фуко всегда делает скидку», – экспромтом солгала она; в действительности профессор ответил, что вопрос о деньгах не имеет значения. «Что? Ну так, знайте, что, если вы не пойдете, то я о вас больше слышать не хочу!» – «Ну, хорошо, хорошо, не сердитесь, вы очень милы. А повидать вас вообще можно?» – «Разумеется, не можно, а должно! Я вам позвоню, и мы условимся. Запишите адрес Фуко, хоть он, конечно, есть в аннюэре [122]122
Ежегодный справочник – фр.annuaire.
[Закрыть]…»
Вислиценус отошел от телефона с улыбкой: конечно, это очень мило с ее стороны. Однако прежде, год тому назад, ее заботливость тронула и взволновала бы его гораздо больше. Что-то проскользнуло и неприятное в разговоре – в ее новом, развязном тоне, даже в языке: это был какой-то загранично-советский жаргон, на котором в России не говорили – так выражались советские молодые люди, прожившие год во Франции и уверенные, что раскусили западную культуру и, в частности, насквозь постигли все самое что ни есть парижское. «Да, но не это главное неприятное… А вдруг правда?!» Месяца два тому назад при нем советский человек сообщил, что Кангаров-Московский живетсо своей секретаршей. «Нет, вранье. Не живет, разве живнул», – ответил другой. «Только кушнул, вы думаете?» Вислиценус ничего не сказал, в скандале было бы нечто глупо-рыцарское. Он не поверил, но не раз потом почти с физическим отвращением вспоминал этот разговор.
О необходимости же серьезного лечения подумывал и сам: у него за последние два месяца раза три были сердечные боли, с каждым разом все более острые. При случайном разговоре знакомый, не врач, но интересовавшийся медициной, сказал, что по симптомам это скорее не астма, а ложнаягрудная жаба. «Может быть, даже не ложная, а правдивая?» – неудачно и невесело пошутил Вислиценус. «Может быть, хоть едва ли, – равнодушно ответил знакомый, – да и ту теперь отлично лечат». Вислиценус был почти рад, что дело устроилось само собой. «Триста франков – деньги, но теперьи с деньгами все неясно: если прекратят выплату жалованья, тогда эти триста франков ровно ничего не меняют».
«А может быть, мое письмо было все-такислишком резко? – Он опять все проверил по датам. – Письмо в Москву пришло тринадцать дней тому назад. Слежка замечена позавчера. Разумеется, одиннадцати дней достаточно для принятия решения и для установления слежки. Быстро? Но онвсе делает быстро. Что сподвижник Ильича, это теперь никакого значения не имеет: скорее довод в пользу этой гипотезы…» У Вислиценуса закололо в груди. «Нет, нет, это гестапо», – сказал он себе и мотнул головой. Доводы в пользу гипотезы гестапо были тоже вполне серьезные: «Документ у Зигфрида Майера приобретен, за Майером у тех, конечно, слежка была, проследили встречу и на всякий случай установили наблюдение. Вполне возможно. Даже правдоподобно…» Он равнодушно подумал, что, может быть, и сам Майер состоит на службе у германской политической полиции. Вислиценус видел на своем веку столько разных провокаторов и людей двойной жизни, что относился к ним как к явлению нормальному, даже без особого любопытства, тем более что, по его наблюдениям, почти все они были одинаковые, малоинтересные и нисколько не сложные люди. В своей прежней революционной работе, встречаясь с неизвестными товарищами, он даже обычно, ради осторожности, исходил из предположения, что это провокаторы. Не чувствовал он к ним и особой гадливости, впрочем, и вообще плохо верил в искренность чувства гадливости человека к человеку. «Нет, все-таки мало вероятно, что Майер – агент гестапо. Вероятно, пронюхали о продаже документа. Он для них представляет интерес: не очень большой – за народной любовью они не гонятся, – но все-таки. Отчего же им было не установить наблюдение? Если я купил, то, значит, могу купить и еще что-либо: хотят выяснить, какие еще есть продавцы. Это им важно, очень важно…»
Первый пациент по-прежнему поглядывал в его сторону с интересом. Вислиценус посмотрел на него с отвращением и злобой (пациент тотчас отвернулся). Он встал, прошелся по комнате, остановился у книжных полок. «Странно!» На полке стояли какие-то труды о колдовстве, о черной магии, о средневековых процессах ведьм. Впрочем, они занимали только одну полку; далее следовали медицинские и естественно-научные издания, журналы и книги по сердечным болезням. «Если порок сердца, то не приходится особенно думать о том, от кого слежка. Личная инвалидность все покроет». Все же, возвращаясь на место, он снова взглянул в окно. Сыщик по-прежнему ходил по противоположному тротуару. «Техника поразительная! Неужели и здесь развал? А поставлено было это дело у нас недурно. На немца мало похож. Это ничего не доказывает. Во всяком случае, надо быть готовым и к отставке… Но если уходить, уходить из партии, из Коминтерна, отовсюду, то куда же? К Троцкому?» Он терпеть не мог Троцкого и вдобавок знал, что никакой организации у Четвертого Интернационала нет: все это полицейская выдумка. Мысль о Втором Интернационале у него только скользнула: «Куда угодно, но не к этим слюнявым гуманистам, пятьдесят лет все и всех обличавшим, а затем так хорошо доказавшим свое собственное полное убожество: уж эти проиграли все свои сражения! А мы?..»
Опять у него появились давние, теперь почти привычные тоскливые мысли, что все было ни к чему, что вся жизнь оказалась ошибкой, что от прежних верований не осталось почти ничего ни у кого. Эти мысли особенно усилились после покупки документа у Майера. «Да, да, в чем разница? У них конюшня с арийскими рысаками, у нас коммунистический зверинец или тоже конюшня, вырабатывающая таких рысаков, как Кангаров, да Кангаровыми, в сущности, и руководимая. Будущее? Но какое будущее может выйти из такогонастоящего! Мы создали первую, лучшую в мире школу прохвостов – незачем же себя обманывать мыслями о будущем! «Плановое хозяйство»? «Сытость»? «Дешевые дома»? Или «раскрепощение» и «карьера открыта талантам»? Но все это у немцев лучше, чем у нас: они и сытее, и дома у них почище, и план практичнее, и их «таланты» пробиваются вернее. Вероятно, они нас и съедят. Так что Ильич, быть может, всю жизнь проработал – на создание арийской конюшни. Во все времена моральные и политические банкроты объявляли, что опыт их не удался не по их вине, что им принадлежит будущее, что потомство их оправдает, что все рассудит суд истории. И мы, конечно, – кто останется жить, – будем долбить то же самое. Но сейчас, сейчас что делать? Где выход? Есть ли выход? Лично я, во всяком случае, никуда подвинуться не могу. Да, пат, пат! Жизнь мне – и не мне одному – дала не мат, а пат!..»
Со стороны профессорского кабинета послышались голоса; очевидно, отворилась первая внутренняя дверь. Вислиценус встрепенулся. «Значит, никакой опасности?» – «Ни малейшей, мадемуазель, ни малейшей, ведь я вам и тогда все ясно сказал, – произнес скучающий, немного раздраженный старческий голос, – господин посол на редкость здоровый человек». На пороге появились Надя, за ней Кангаров и старый профессор. Он слегка поклонился сидевшим в приемной людям, бросив на них вопросительный взгляд: кто первый? Пациент у камина встал с решительным видом, предупреждая возможность незаконного захвата очереди. «До свидания, мадемуазель. До свидания, господин посол, будьте совершенно спокойны», – сказал профессор, впуская нового пациента. Дверь за ними затворилась.
Надя чуть не ахнула, увидев Вислиценуса. «Господи, его просто узнать нельзя! За год состарился лет на пятнадцать!..» Кангаров-Московский смутился чрезвычайно; эта встреча оказалась для него совершенно неожиданной; он даже в первую минуту отступил в сторону, оставив их вдвоем, так что они оказались как бы в положении шаров в начале карамбольной партии. «Мы, однако, с ним уже встречались после того инцидента в ресторане», – с недоумением подумал Вислиценус, поздоровавшись с Надеждой Ивановной и заметив растерянность посла. Они в самом деле раз встретились в прошлый приезд Кангарова в Париж и холодно обменялись несколькими словами. Вислиценус догадывался – да и знал по некоторым сообщениям, – что нажил в Кангарове смертельного врага. «Ну как знаешь: хочешь – здоровайся, не хочешь – тем приятнее…» Кангаров нерешительно сделал два шага вперед, поздоровался и снова отступил на позицию первого, начинающего партию бильярдного шара. Он был, видимо, крайне расстроен встречей. Надя заговорила сразу о нескольких предметах: о здоровье Вислиценуса – «вид у вас, право, скорее хороший», – о Париже – «ах, какой город! Москва не Москва, но всегда приезжаю с восторгом!» – о профессоре – «нет, это прямо замечательный человек: все понимает с полуслова и все видит насквозь!».
– Так-таки все насквозь? Увидим, увидим. Я только по вашему требованию пришел: не очень верю врачам и не люблю лечиться.
– Есть врачи и врачи. Ведь это мировое светило. И какой внимательный! Разговаривал с нами полчаса! Будете меня благодарить!
– У вас какая болезнь? – сухо спросил Кангаров, нервно оглядываясь по сторонам.
– Кто-то сказал, что по симптомам ложная грудная жаба. А в Москве говорили, будто астма.
– Но ведь это, насколько мне известно, разные вещи?
– Вот я и пришел выяснять, по настоянию Надежды Ивановны. Впрочем, хрен редьки не слаще.
– Желаю хорошего диагноза. Дитя мое, нам надо торопиться.
– Да, правда. Вот что, – обратилась Надя к Вислиценусу. – Вы завтра вечером свободны?
– Детка, ты, кажется, забываешь, что мы завтра выезжаем за город.
– К той старой дуре? Совершенно забыла. Тогда обстряпаем это послезавтра. Я вам позвоню, в девять утра не слишком для вас рано? Отлично, значит, я вам звякну послезавтра в девять. Постойте, а как же я буду знать, что вам сказал Фуко по сути дела?
– Вот тогда и узнаете.
– Послезавтра? Нет, я хочу знать раньше. Но, в самом деле, сегодня мы в разгоне, и позвонить будет неоткуда. Хорошо, послезавтра. Я уверена, впрочем, что вы совершенно здоровы. Вид у вас вполне приличный, только немного усталый, верно, вы…
– Надя, я спешу.
– Если вы спешите, – сказала сердито Надя, повернувшись к Кангарову, – то ведь услуги переводчицы вам, кажется, сегодня больше не понадобятся? – Она подчеркнула слово «переводчицы». – Со всем тем я сейчас послушно последую за вами. Надо исполнять консинь [123]123
Инструкция ( фр.consigne).
[Закрыть]строгого начальства, – обратилась она, принужденно смеясь, к Вислиценусу. – Вот что еще вы мне скажите: вы с нашим командармом Тамариным хороши?
– Никогда его не вижу.
– Но звать вас с ним можно?
– Очень рад.
– Есть,как говорит у нас один наш сослуживец. Я вас позову с ним… Впрочем, еще не знаю. Оказывается, мы пробудем во Франции больше, чем предполагалось. Есть!
Она, сияя улыбкой, протянула ему обе руки. Вислиценус смотрел на нее с грустью: от этоготоже ничего не осталось. «Вылечился не на 100, но на 75 процентов. Вот бы и от астмы так! Она ли стала другая, или я, или мы оба? – думал он, провожая их взглядом. Кангаров явно от него бежал. – Должно быть, уже кое-что пронюхал. Сейчас он будет ее ругать. Впрочем, она тоже не так жаждет меня видеть: «я вас позову с ним», то есть отделаюсь сразу от обоих старичков». Он подошел к окну и, увидев сыщика, с улыбкой подумал, что если плюгавый человек от ГПУ, то в донесении будет упомянут и Кангаров. «Еще там вообразят, что он назначил мне здесь конспиративное свидание». Эта мысль доставила ему удовольствие. Надя и Кангаров вышли из подъезда. Они шли молча. «Верно, на лестнице началась семейная сцена.И это «если вы спешите» тоже вышло по-семейному, хоть она, кажется, именно хотела показать, что он тольконачальство. Показывай что хочешь, если уже надо что-то показывать. Мне все равно. Или почти все равно…»








