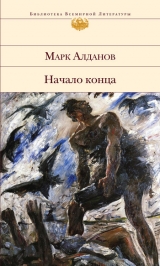
Текст книги "Начало конца"
Автор книги: Марк Алданов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 35 страниц)
IV
Автомобиль Серизье остановился у ворот тюрьмы. Несмотря на долголетнюю привычку, адвокат всегда входил в тюремное здание с очень неприятным чувством, близким к физической брезгливости. На этот раз свидание с преступником накануне процесса было особенно ему тяжело. У него и вообще не лежала душа к делам подобного рода. Тут не было спора, диалектики, разбора улик; не было и никаких шансов на успех. Правда, ввиду явной безнадежности дела, защитника никто не мог обвинить ни в чем. Тем не менее, несмотря на вызванный делом шум. Серизье искренне сожалел, что принял на себя защиту.
На следующее же утро после убийства полиция явилась за справками к Вермандуа. Он совершенно растерялся и долго не мог прийти в себя от изумления и ужаса. Слушал, вытаращив глаза, ахая, вскрикивая, и на почтительные вопросы производивших дознание людей отвечал сбивчиво и смущенно, точно в чем-то обвиняли его самого, точно на него отчасти ложились вина, позор и ответственность. После ухода полиции в его дом нагрянули репортеры. Преступление было сенсационным и само по себе (как нарочно, в этот день других сенсаций не было), но интерес к делу увеличивался именно оттого, что убийца был секретарем знаменитого писателя. Вермандуа окончательно расстроился. В растерянности он принял первого репортера, принял второго, затем, схватившись за голову, приказал старухе больше никого не пускать и выключил телефонный аппарат.
Оставшись один в кабинете, он пришел в себя не сразу. «Что такое? Что за человек?! И как же я ничего не видел? Правда, я всегда считал его психопатом, но ведь не в этом же смысле!.. Хочу проникнуть в душу каких-то Лисандров, а рядом со мной бродит, проводит часы убийца, и я ничего, ровно ничего не вижу!..» Ему пришло в голову, что Альвера мог отлично убить его самого. Он содрогнулся. «Только такого конца не хватало!..»
Старуха принесла газеты. Всюду были, с небольшими вариантами, огромные заголовки: «Двойное убийство в Лувесьене». Хоть Вермандуа принял только двух репортеров, интервью с ним были помещены в шести или семи газетах. Кое-где появился даже его портрет, Рядом с портретом убийцы в наручниках. В одной из бесед ему приписывалось намерение взять на себя защиту Альвера. «Но ведь, в самом деле, надо с кем-нибудь поговорить!..» Он вспомнил о Серизье, с которым обедал накануне у Кангарова. Собственно, для защиты уголовного убийцы можно было бы найти и более подходящего человека. «Все равно, и этот годится! Все они друг друга стоят. Этот хоть по знакомству возьмет не очень дорого…»
От денег Серизье тотчас отказался еще при первой телефонной беседе. Он вообще не любил выступать бесплатно: отсутствие гонорара ослабляло удовольствие от защиты. Но у него были твердые правила. «О плате не может быть речи, дорогой друг». – «Почему же?» – «Потому, что у вас нет никаких причин платить за этого подающего надежды юношу. С какой стати я буду брать вашиденьги? Скажу, впрочем, откровенно, я от этого дела не в восторге. К тому же я не специалист по делам такого рода, хотя мне, конечно, и случается выступать в уголовном суде…» – «Ваши уголовные речи – истинный шедевр мысли и стиля! – сказал Вермандуа. – Я их в газетах читал с восторгом». «Все ты врешь! Обрадовался, что не возьму денег», – подумал Серизье, все же польщенный замечанием. «Сердечно вас благодарю, но, право, вам лучше было бы обратиться к специалисту». – «Я верю вам, и только вам!» – «Позвольте мне подумать. Пока я лишь бегло пробежал газету. Во всяком случае, если я приму на себя защиту, то по чувству профессионального долга и чтобы быть вам приятным». – «Ну, об этом мы еще поговорим!» – многозначительно угрожащим голосом объявил Вермандуа, понимая, что денег платить не придется. Как он ни привык к тому, что в его лице оказываются услуги французской культуре, все же был тронут. «Он заплатил бы тысячу франков и тогда приставал бы ко мне каждый день да еще всем рассказывал бы, что я с него содрал состояние», – улыбаясь, подумал Серизье. «Я прочту о деле подробнее и тотчас заеду к вам». – «Не хотите ли, чтобы я к вам приехал? Готов с радостью». – «Нет, нет. Да мне и нужно быть сегодня в ваших краях».
Серизье прочел газетные отчеты. В вечерних изданиях сообщалось, что раненный в Лувесьене полицейский скончался в страшных мучениях. «На что же тут можно надеяться?» – подумал он со вздохом. Отступать, однако, было поздно. Он отправился к Вермандуа и долго с удивлением его слушал.
– Да, вам не очень повезло в выборе секретаря, дорогой друг, – сказал он с улыбкой.
– Ах, я в совершеннейшем ужасе! Я был бы не более изумлен, если б мне сказали, что вы совершили убийство. Или я сам.
– Значит, он был со странностями? Вы думаете, сумасшедший?
– Я ничего не думаю. Я просто ничего не понимаю.
– Что за молодежь теперь пошла! – воскликнул Серизье и высказал свои мысли о молодежи, о чрезмерном увлечении спортом, о вредной роли газет и особенно кинематографа. – Ведь этот многообещающий юноша мог убить и вас.
– Об этом я не подумал! В самом деле, зачем ему было ездить так далеко, в Люсьен. (Вермандуа произнес по-старинному Люсьен, а не Лувесьен. Серизье тотчас это усвоил.) Такие гроши он мог бы найти и у меня. Но как вы думаете, есть ли надежда на спасение его головы?
– Меньше чем мало. Вернее, никакой, после смерти полицейского. Посудите сами, какие же тут могут быть смягчающие обстоятельства? Мне, вероятно, придется доказывать, что он сумасшедший. Не скрою, однако, это на присяжных теперь действует слабо, особенно в Париже. Дело, вероятно, будет слушаться в версальском суде, это почти то же самое. У него по крайней мере есть мать?
– Не знаю. Помнится, он говорил, что у него нет никого.
– Ну, вот. Значит, не будет и слез престарелой матери.Впрочем, они тоже больше не действуют, как и то, что «несчастный юноша никогда не знал родительской ласки». Во всяком случае, я сделаю для вашего Раскольникова все, что могу. А вы, конечно, напишете нам об этом роман, – сказал, смеясь, Серизье.
– Как же, как же. Поль Бурже написал бы непременно и сделал бы мальчишку незаконным сыном герцога, сведенным с доброго пути франкмасоном. Жаль, что Поль Бурже умер. А что до Раскольникова, то вы непременно перечтите этот шедевр: там в большом городе, в столице, все друг друга знают и постоянно друг с другом встречаются: этот Сви… Сви… – как его? – по счастливой случайности живет рядом с той ангелоподобной проституткой и, естественно, подслушивает исповедь благородного убийцы ангелоподобной проститутке. Я, конечно, не Достоевский, но я остановился бы перед столь удобным для романиста стечением обстоятельств: в Петербурге ведь все-таки было больше двух меблированных комнат? А его ужасный французский язык, которым он явно гордился, постоянно вставляя в текст французские фразы: наши переводчики их благочестиво сохранили, как святыню! Это не мешало ему презирать и ненавидеть нас, как, впрочем, и все народы. Он был убежден, что, прожив в Париже две недели, постиг Францию, французов, особенности и тайны нашего характера, понял все, все, все. А больше всего везде в Западной Европе его поражала грязь: он, видите ли, в Сибири, на каторге, привык к чистоте… Но я отвлекся: не люблю этого человека, хоть восхищаюсь великим писателем. Нет, нет, сцена убийства изумительна, перечтите «Преступление и наказание», непременно перечтите перед процессом. Хотя на Раскольникове, кажется, выезжает третье поколение адвокатов?.. Кстати, дорогой друг, или, вернее, некстати: я настаиваю на том, чтобы вы приняли от меня гонорар.
– Об этом, повторяю, не может быть речи. Вы окажете вашему милому секретарю другую услугу: разумеется, вы будете главным свидетелем защиты.
– Что вы! Разве я должен выступать на суде?
– А то как же? Вы будете его защищать одним своим присутствием в зале.
– Нет, полноте! В самом деле, без этого нельзя обойтись?
– Совершенно невозможно.
– Ах, Господи! Этого я никак не ожидал!
– Дорогой друг, как же вы могли этого не ожидать? Это элементарно.
– Элементарно, но крайне неприятно. А если меня не будет в Париже? Я ведь часто отлучаюсь.
– Вы, конечно, нарочно для этого вернетесь. Вы будете совестьюприсяжных! – сказал адвокат в восторге.
Первое впечатление от преступника было у Серизье самое неблагоприятное, хоть, естественно, ничего хорошего он и не ожидал. Помимо отталкивающей наружности Альвера был высокомерен и как будто в себя влюблен. О степени его умственного развития судить было трудно вследствие его молчаливости. Он и на вопросы отвечал односложно; попытки же подойти к нему душевноне дали ничего: на лице молодого человека только выражалась злоба. «Может быть, вы голодали?» – спрашивал Серизье. «Завтракал и обедал каждый день». – «Не толкнула ли вас на преступление любовь к какой-либо женщине, которой вы хотели помочь?» Альвера засмеялся. Он объяснил, что убил Шартье, желая его ограбить. В сущности, непонятно было даже, в чем состоит его анархизм и чем сам он отличается от обыкновенных уголовных преступников. При разговоре он зевал, не то естественно, не то из хвастовства. По всему чувствовалось, что молодой преступник мало дорожит защитой и не был бы особенно огорчен, если б и вообще остался без адвоката. «Просто дегенерат», – подумал Серизье.
Так он сказал по телефону в тот же день Вермандуа. «Да неужто он в самом деле мог быть у вассекретарем?» – «Уверяю вас, что он справлялся со своей задачей прекрасно. Он бакалавр, прекрасно кончил курс в лицее и очень много читал». – «Не знаю. Мне он показался злым и тупым дегенератом. Может быть, это объясняется тем, что при аресте его сильно избили, на него смотреть страшно. Во всяком случае, как я ни старался выудить что-либо в его пользу, мне это совершенно не удалось. Он давал следователю показания, которые окончательно его губят». – «Несчастный! Неужели ничего нельзя сделать?» – «Я буду стоять на том, что при первых показаниях ум у него был помрачен, что их нельзя принимать в расчет. Достаточно вам сказать, что он безоговорочно признал заранее обдуманное намерение!» – «Какой ужас!» – «Посмотрим, что скажут эксперты. Но еще раз повторяю: это дело безнадежно». – «Дорогой друг, сделайте что можете. Я всецело на вас полагаюсь».
Затем Серизье видел своего подзащитного еще раза два. Альвера не то плохо понимал его осторожные намеки, не то и не хотел защищаться. Ничего хорошего не дала и экспертиза, признавшая убийцу человеком совершенно нормальным. Увидев заключение экспертов, Серизье только пожал плечами.
Теперь, перед началом процесса, он по долгу добросовестного адвоката считал необходимым еще раз поговорить с подсудимым. План защиты у него был готов, но он не мог не понимать, что этот план стоит недорого: юноша, почти ребенок, тяжелые бытовые условия, отсутствие семьи, нездоровая наследственность, дурное чтение, нелепые идеи, так часто смешиваемые с социалистическими, затем навязчивая мысль о мести обществу, об убийстве, все же лишь чисто теоретическая, – и, наконец, в роковой вечер внезапное умопомешательство… Серизье сам плохо во все это верил; понимал вдобавок, что прокурор, как назло человек способный, без большого труда опровергнет его доводы: нищеты не было, тяжкую наследственность установить трудно, преступник – молодой человек, но отнюдь не дитя. Никакой другой системы защиты Серизье придумать не мог. Положение преступника еще ухудшалось оттого, что убит был полицейский; это почти исключало и возможность смягчения приговора главой государства. Вдобавок убийца носил иностранное имя, хотя не мог раздражить присяжных иностранным выговором. Причина преступления, что бы ни говорили об анархизме (да еще выгодно ли об этом говорить?), была самая отталкивающая: грабеж. Серизье и сам, если б оказался присяжным, едва ли проявил бы снисходительность к такому убийце. «Нет и одного шанса из ста на спасение его головы», – думал адвокат, входя в мрачное здание. В воображении у него мелькало все связанное с подобными делами: ожидание приговора, кроткие слова утешения, взволнованные рукопожатия, быть может, обморок («дайте ему воды!»), визит к президенту республики, одинаково неприятный обеим сторонам, и, наконец, заключительная сцена, при которой по обычаю надлежало присутствовать защитнику. При его доброте и нервности все это было крайне тяжело.
Морщась от неприятного запаха тюремных коридоров, Серизье прошел в парлуар [129]129
Приемная ( фр.parloir).
[Закрыть]. Он сел у столика и с тяжелым чувством стал соображать, как внушить подзащитному план показаний: «ехал к Шартье, ни о чем дурном не думая, – вдруг, не знаю, что со мной случилось!» Подсказыватьподзащитному показания не полагалось. Правда, так поступали многие адвокаты; Серизье этого не любил, но другого выхода не видел. Во внезапном умопомешательстве еще, быть может, была малая, хоть совершенно ничтожная надежда на спасение головы Альвера. Между тем от молодого дегенерата можно было ждать всяческих неожиданностей: мог заупрямиться на своем анархизме и на ненависти к буржуазному миру, мог, пожалуй, объявить, что гордится своим делом, мог, напротив, совершенно лишиться мужества и вызвать полное отвращение у присяжных. Давно не видев своего подзащитного, Серизье побаивался слез и сейчас; он знал, как сламывает людей продолжительное тюремное заключение. Если б мальчишка заплакал на суде, то, в хорошую минуту, при хорошем исполнении, это еще могло бы быть полезно. Но тут, в парлуаре, слезы были бы совершенно ни к чему.
V
Альвера находился в тюрьме уже более года. Тюремное заключение оказалось не таким, каким он себе его представлял: в некоторых отношениях было лучше, в других хуже. Он предполагал, что дни и ночи будет думать о ждущей его участи; в действительности думал о ней теперь довольно редко и, как ему казалось, почти равнодушно. Страдал он в тюрьме преимущественно от дурных условий жизни, от скуки и от безделья.
Он очень изменился. Перемена произошла в нем не столько от преступления и от ожидания казни, сколько от страшного удара бутылкой, полученного им при аресте. В первые дни мучительная боль заглушала у него все другие чувства; вначале он давал показания, почти ничего не соображая. Тюремный врач сказал, что у этого заключенного, вероятно, будет горячка или воспаление мозга, тогда придется перевезти его в больницу. Но горячки с ним не случилось, и он оставался в камере.
Дантист удалил корни разбитых и выбитых зубов, изо рта перестала сочиться кровь со слюной, боль понемногу прошла, и лицо перестало быть опухшим, – насколько он мог судить на ощупь да еще по отражению от поверхности блестящих предметов, изредка ему попадавшихся (в камере таких предметов не было, но они были у следователя). Все же удар очень на нем отразился. В редкие минуты прежнейдушевной жизни, преимущественно по ночам, ему казалось, что он впал или впадает в идиотизм. «Может быть, этот удар лишь вызвал быстрое развитие идиотического начала, которое было во мне и прежде?» – с усмешкой думал он. Но так как сам это думал, то этому почти не верил.
Свое положение он обсудил трезвои относительно своей участи не заблуждался, особенно после того, как узнал, что раненный им полицейский умер. Само по себе это на него не произвело большого впечатления, но он понял, что кончено,что никаких шансов на спасение жизни у него нет: грабитель, убил двух человек, в том числе ихполицейского, иностранец, sale étranger [130]130
Грязный иностранец (фр.).
[Закрыть]. Впрочем, один шанс из тысячи был: если б в составе присяжных подобрались в большинстве враги существующего строя, коммунисты, анархисты, левые социалисты. Это было совершенно невероятно: «Шесть – или даже семь? – человек из двенадцати! Да они,конечно, и подбирают людей для своего суда…» Не раз ему приходила мысль о самоубийстве. Способ мог быть как будто только один: разбить себе голову о стену. Он часто приглядывался к стене, которая снизу метра на два почему-то была выкрашена черной краской, пахнувшей чем-то вроде креозота. Если заложить руки назад и с разбега удариться головой? Но какой разбег на три шага, и силы не хватит, и, вернее, не умрешь, а лишь причинишь себе тяжкую рану и совсем превратишься в идиота. Да и не стоит: такая смерть мучительнее гильотины. Повеситься было крайне трудно: против этого властями принимались меры. Зарезаться? Тоже почти невозможно. Парикмахер, обходивший заключенных раз в неделю, не выпускал бритвы из рук. Альвера от бритья отказался из брезгливости: ему были противны бритвенные принадлежности тюрьмы. Он отпустил бороду – этим вдобавок скрывались следы удара, – вначале целый день нервно ерошил щетину, потом привык. Обдумав все,он оставил мысль о самоубийстве.
Как ни странно, к своему делу он в мыслях почти никогда не возвращался. В первую же ночь, наполовину в бреду, вспомнил было кабинет месье Шартье, затрясся слабой дрожью – и позднее запретил себе об этом думать, чтобы не ослабеть: когда приходили воспоминания, дергался, мотал головой и действительно отгонял мысли об этой сцене, что ставил себе в большую заслугу. Вел он себя именно так, как решил прежде, считаясь с возможностью неудачи: тогда решено было – в случае провала изображать гордую усмешку,он ее и изображал, больше, впрочем, именно по воспоминаниям. Так себя вели Анри, Казерио, другие знаменитые анархисты. Ему, правда, иногда казалось, что дела Казерио или Анри были выигрышнее: может быть, не стоило убивать несчастного небогатого старика? Но это большого значения не имело – Равашоль совершал именно такие убийства, не говоря уже о Ласенэре. Альвера старался об этом не думать, отгородившись от всего и от всех гордой усмешкой. Изредка сочинял план защитительной речи: собирался сказать имвсю правду. Газет в тюрьме не было, и ему не было известно, много ли шума произвело его преступление. Но в коридорах, когда его вели к следователю, люди смотрели на него с ужасом и любопытством, кое-кто высовывался из дверей, щелкали аппаратами фотографы. Он поэтому догадывался, что шума было немало. То же чувствовалось и в неопределенно-почтительном отношении к нему товарищей по заключению. Все это было скорее приятно. Когда первый фотограф навел на него аппарат, Альвера не сделал обычной непонятной попытки закрыться руками в наручниках, а, напротив, приостановился с усмешкой: «Хочешь снимать – сделай одолжение».
В первый же день какими-то окольными путями до него дошли предложения двух адвокатов взять на себя его защиту. Это тоже свидетельствовало о шуме. Он и в том своем состоянии понял, что, верно, адвокаты молодые, желающие сделать себе карьеру на его славе. Тогда же откуда-то появился Серизье. Имя это было ему знакомо по парламентским отчетам газет, но он не был уверен, что толстый адвокат – тот самый: может быть, однофамилец? Спросить казалось неудобным: в таком вопросе было бы, он чувствовал, нечто светское и, следовательно, никак не подобающее его положению. Позднее, при прогулке по двору, он от другого заключенного узнал, что это тотСеризье. «T’as déjà veine, c’est un as! Un ancien ministre!» [131]131
«Тебе повезло, это мастер своего дела! Бывший министр!»
[Закрыть]– сказал ему заключенный с деланой завистью: настоящей зависти к нему, конечно, никто чувствовать не мог; в тюрьме все понимали, что его песенка спета. Он усмехнулся, однако был доволен – больше, впрочем, из тщеславия. Почему-то его еще заинтересовало, получил ли адвокат от Вермандуа деньги и сколько именно. Но спросить об этом тоже было неудобно.
Первая беседа с защитником продолжалась всего минут пятнадцать. Альвера даже плохо помнил в подробностях, о чем они, собственно, говорили. Смутно вспоминал, что Серизье хотел добраться до его душии был, видимо, недоволен, не добравшись. Адвокат сказал, что всебудет зависеть от состава присяжных: заранее ничего предвидеть нельзя.
– Безнадежных дел нет, мой друг, – заявил он бодрым и энергичным тоном и вскользь, намеками дал понять, что будет строить защиту на внезапном умопомешательстве.
– На внезапном? – переспросил Альвера и замолчал. На прощание Серизье, пожелав ему бодрости, сообщил, что сидеть придется долго (этим давал понять, что до казни еще, во всяком случае, остается немало времени).
– Пока вас будет посещать моя помощница. Она очень дельная, толковая барышня и все будет мне докладывать подробно и точно. Вы можете быть совершенно спокойны: я буду следить за вашим делом самым внимательным образом. Когда подойдет время, опять сюда приеду…
– Вы знаете, я ничего не могу заплатить, – угрюмо, с усмешкойсказал Альвера. – У меня, правда, было своих несколько сот франков, но этого вам мало, и я не знаю, где они теперь. А то, что у меня нашли, это егоденьги. Ими я, очевидно, распоряжаться не могу, да и вам, верно, было бы неприятно.
– Оставим это, – ответил сухо адвокат (однако нахал порядочный или же совершенно бессознательный субъект, подумал он). – Я вас защищаю не ради гонорара… Итак, вы можете всепередавать мне через мадемуазель Мортье.
Он простился и как-то демонстративно подал руку, точно пересиливая себяпо возвышенным соображениям. «Du courage, du courage…» [132]132
«Мужайтесь, мужайтесь…» (фр.)
[Закрыть]– сказал еще раз Серизье.
На следующий день явилась к Альвера в тюрьму молоденькая и хорошенькая барышня, только что зачисленная в парижскую адвокатскую корпорацию и, к великому своему счастью, попавшая к Серизье, благодаря особой протекции (знаменитый адвокат, впрочем, был всегда окружен женщинами). Мадемуазель Мортье быстро встала, когда в parloir ввели преступника, и порывисто с ним поздоровалась. Но на лице ее мелькнул ужас, быть может, вызванный его разбитым опухшим лицом с огромным кровоподтеком. Альвера показалось, что защитница его боится: она проводила сторожей беспокойным взглядом. Заговорила она быстро, в преувеличенно обыкновенномтоне, точно разговаривала о самых обыкновенных предметах. Мадемуазель Мортье была влюблена в свое дело, в корпорацию, в Серизье, в батоннье [133]133
Старшина сословия адвокатов (фр.bâtonnier).
[Закрыть], в свод законов и больше всего в тогу, которую уже надевала раза четыре в суде (кроме того, часто примеряла дома).
На память, но с совершенной точностью (недавно сдавала экзамены и как раз перед уходом в тюрьму заглянула в уголовный кодекс) она разъяснила Серизье, что, по букве и смыслу статей 295 и следующих, причинение смерти другому человеку есть убийство, homicide; если же оно совершается умышленно, то из homicide становится meurtre; а если доказано и заранее обдуманное намерение, то meurtre переходит в assassinat. Кроме того, есть особые виды убийства, как отцеубийство, детоубийство и отравление; наконец, есть еще западня, guet-apens. Но так как под отцеубийством, parricide, разумеется убийство отца или матери, а под детоубийством, infanticide, убийство младенца, то статьи 299 и 300 к нему никак отнесены быть не могут, объяснила она радостно-обнадеживающим тоном. Не может быть отнесена к нему и статья 298 о западне, ибо, по точному смыслу и букве этой статьи, le guet-apens consiste а attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence [134]134
Заманить человека в западню – это его выследить и где-то подкараулить с целью убийства или причинения вреда (фр.).
[Закрыть]. Между тем всего этого не было. К нему могут быть отнесены либо статья 295 о meurtre, если не будет доказано заранее обдуманное намерение, либо статья 302 об assassinat, если будет доказано заранее обдуманное намерение.
– А для меня в чем разница? – спросил угрюмо Альвера. Ему было совестно, что лицо у него разбито и что говорит он неясно, пришепетывая из-за выбитых зубов и сочащейся крови.
– За assassinat, по букве и смыслу 302-й статьи, полагается смертная казнь, – грациозно опустив глаза, сказала мадемуазель Мортье тоном извинения, показывавшим, что она этой статьи совершенно не одобряет.
– А за meurtre?
– За meurtre полагаются пожизненные каторжные работы. Отсюда вы видите, какое значение для насимеет вопрос о заранее обдуманном намерении. – Она стала подробно ему объяснять, как заранее обдуманное намерение понимается в законе и в судебной практике и чем préméditation [135]135
Преднамеренность (фр.).
[Закрыть]отличается от volonté criminelle [136]136
Злонамеренность (фр.).
[Закрыть]. Эти объяснения, недавно ею самой усвоенные, доставляли ей большое удовольствие. Альвера слушал почти рассеянно, думая, что при убийстве ихполицейского вопрос о заранее обдуманном намерении не может иметь никакого значения. Молодая защитница ускользнула, как ангел-утешитель,и тоже сказала, подобно Серизье, но несколько иначе, нараспев: «Du courage! Du courage!» Затем еще была медицинская экспертиза. Ему задавались разные глупые вопросы. Алъьвера чувствовал, что его признали бы здоровым, даже если бы он в самом деле был сумасшедшим, так как онизащищают существующий строй и убеждены, что все преступники прикидываются умалишенными, и им все это смертельно надоело.
Потянулась обыкновенная тюремная жизнь, несложная, однообразная, скучная. Вставали в 5.30 по звонку, в 6 подавали кружку черного кофе и хлеб, на весь день, в 9 – суп с мясом, в 4 – снова тот же суп. Еды было достаточно, чтобы не умереть, но в течение круглых суток он чувствовал голод. Затем ему сообщили, что на его имя доставлено от Вермандуа двести франков и что на эти деньги он может кое-что себе заказывать в тюремной лавке. Когда на следующее утро отворилась дверь и ему подали с повозочки колбасу и плитку шоколада, он набросился на них с жадностью и тут только почувствовал, что по-настоящему вошел в тюремную жизнь, что стал настоящим арестантом.
Еда теперь была, в сущности, главным интересом его жизни. Он знал, какой суп подается в разные дни недели, какие продукты всего лучше и дешевле в тюремной лавке. Как ему было ни стыдно, с тревогой себя спрашивал, что будет, когда деньги Вермандуа выйдут, и пришлет ли тот еще. С пропуском в три дня пришли сто франков; время от времени доставлялись деньги и дальше.
Кроме недостатка и дурного качества еды Альвера больше всего страдал от скуки. Можно было получать книги из тюремной библиотеки, но выдавались они лишь раз в неделю. Хуже всего было вечером и ночью. Свет гасился очень рано. Спал он плохо из-за запаха креозота (голова болела почти всегда), из-за грубого белья, еще из-за клопов – борьба с ними была одним из главных занятий заключенных и одной из главных тем бесед на прогулках. Гуляли они на круглом дворе, разделенном по радиусам расходящимися стенками: в середине круга находился сторож, который мог таким образом наблюдать за всеми секторами одновременно. На каждом дворике гуляли по два-три человека. Альвера, как заведомый и единственный смертник, был главной достопримечательностью тюрьмы и пользовался некоторым признанием не только заключенных, но и сторожей. Обращение с ним, как, впрочем, со всеми, было вежливое. Некоторые из товарищей по тюрьме пытались его расспрашивать о деле.Он упорно уклонялся и переводил разговор на суп или на клопов.
От гордой усмешки,он чувствовал, оставалось уже немного, – да еще возможна ли гордая усмешка при клопах, при мыслях о колбасе, при соображениях о том, доставит ли подлец Вермандуа из жалости какую-либо подачку? Альвера понемногу пришел к мысли, что об этом особенно заботиться теперьне стоит: верно, Анри и Казерио чувствовали то же самое. Лучше всего было именно жить так дальше, по кусочкам,со дня на день. Другой человек? Ну что ж, другой, но уже высказавший свои мысли миру и достаточно проявивший бесстрашие. Чтобы не отступать от плана, он по-прежнему нацеплял на себя гордую усмешку, когда отправлялся на допрос или на свидание с защитником, но все меньше думал о своей защитительной речи. По-прежнему он запрещал себе возвращаться мысленно к убийству. Однако иногда – впрочем, все реже – по ночам у него бывали тяжелые минуты пробуждения.








