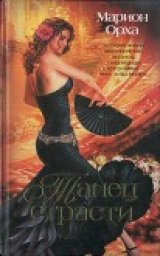
Текст книги "Танец страсти"
Автор книги: Марион Орха
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Томас, ты меня пугаешь. О чем речь?
– Какого черта ты еще не беременна?
Я сглотнула и села на место.
Уже несколько недель я чувствовала, как внутри растет ребенок, маленький и жесткий, будто каштан. По какой-то мне самой не ясной причине я еще не сказала об этом мужу.
– Пошла вон с глаз моих! – рявкнул он.
Я уже открыла рот, чтобы выложить ему свою новость, но тут в комнату вошла Джасвиндер. Остальные слуги стояли недвижным рядком у стены, глядя куда-то сквозь стену; Джасвиндер замешкалась у двери.
Нависнув над столом, Томас дышал мне в лицо.
– Томас, пожалуйста, – прошептала я умоляюще.
Внезапный удар ожег щеку, голова у меня мотнулась. В глазах Джасвиндер мелькнул ужас. Когда Томас, случалось, поднимал на меня руку прежде, это все же было за закрытыми дверьми. Когда он силой заставлял меня его ласкать, я старалась не огорчаться, полагая, что за все приходится платить, в том числе и за брак с офицером. Но унижать меня на глазах у прислуги? Ничего хуже быть не могло.
На следующее утро я проснулась в жару. Каждая косточка болела, словно ее безжалостно выворачивала невидимая рука. Я дрожала от холода, а лоб горел. Скоро меня уже рвало кровью. Когда пришла Джасвиндер, я не могла заставить себя взглянуть на нее. К середине дня жар спал, с меня начал лить пот, затем все повторилось снова.
Джасвиндер вытирала мне лоб, давала хинин. Доктор сказал, что это малярия, советовал попоститься, затем сделать кровопускание. Когда пришел Томас, я отвернула лицо.
Я провела в постели три недели и все это время была так слаба, что едва могла шевелиться. Пошла четвертая неделя, когда я неожиданно проснулась ночью с острой болью в животе. Боль пронзала раскаленными иглами снова и снова. Добравшись до ванной комнаты, я схватилась за край ванны, но не удержалась на ногах, опустилась на корточки. Мышцы живота сжимались и скручивались; боль усилилась, я едва подавила крик. Вдруг бедра у меня сделались мокрыми, и между ног появилось отвратительное, покрытое слизью существо. Несколько мгновений я оцепенело смотрела на него. Ребенок был еще мало похож на человека, словно будущая статуя, к которой скульптор едва приступил с резцом. Он был теплый, но мертвый, в синих, лиловых и розовых пятнах.
В слепой панике, ни о чем не думая, я завернула его в простыню и спрятала под одеждой. К тому времени, когда явилась служанка, я уже связала в узел испачканные простыни и затерла кровь.
Еще не рассвело, когда я верхом отправилась к лесу, перевязав себя, как сумела. Грязные простыни я затолкала в дупло, а затем вырыла ямку у корней капока[10]. Ребенка я так и похоронила в простыне, надеясь, что на этом все и закончится. Но когда я утрамбовала и пригладила холмик, перед глазами закачались, махая мне, крошечные младенческие пальчики. Прошел еще месяц, прежде чем я поправилась. Когда наконец поднялась с постели, я была худущая, опустошенная физически и душевно. И желтая.
Глава 12
В октябре установилась холодная погода, дома и деревья были окутаны густым, будто дым, туманом. Я начала ускользать из дому и отправляться в далекие бесцельные прогулки, однако они не приносили ни успокоения, ни усталости. Часто, безо всякой причины, я вдруг начинала плакать. Как-то раз, когда бродила далеко за пределами расположения гарнизона, я наткнулась на попавшегося в капкан камышового кота. Едва я приблизилась, кот зашипел, разинув пасть с острыми клыками, вздыбил шерсть. Угодившая в капкан лапа сильно кровоточила, виднелась обнаженная кость. Зубья у капкана были страшные, словно у какого-то первобытного чудовища. Когда я попыталась их разжать, кот впился мне в руку. Однако же я не отступила, кое-как мне удалось втиснуть внутрь рукоять плети, нажать пружину, и капкан раскрылся. Кот тут же прыгнул на меня; от неожиданности я свалилась спиной в кусты. Пока выпутывалась из сучьев и ветвей, он заковылял на трех лапах прочь – и скрылся в зарослях.
Падая, я подвернула ногу, и каждый шаг отзывался болью. Вернувшись домой, я молча проковыляла мимо слуг к себе в спальню.
Там, усевшись к зеркалу, я рассмотрела свое отражение. Платье было порвано, рука покусана, на щеке краснела царапина, однако впервые за несколько месяцев я ощущала себя по-настоящему живой. Когда камышовый кот скользнул в заросли, мне захотелось последовать за ним. Хотелось знать, куда он направился, есть ли у него дом.
В тот вечер мы с Томасом сели обедать, как обычно. Он не заметил ни следов укуса на руке, ни царапины у меня на щеке.
После обеда я пошла к себе, села к письменному столу, достала самую лучшую писчую бумагу и долго сидела, задумчиво глядя на чистый лист. Мне едва исполнилось двадцать лет, и должно же быть в жизни что-то еще, кроме джунглей и дома с индусской прислугой.
В школе мы с Софией сочиняли себе новые имена, родителей, даже национальность. «Ты можешь быть кем только захочешь», – шепнула она в день нашего знакомства, и мы играли, будто мы – актрисы, русские царевны, наследницы английского престола. Будущее было неведомой пока землей, где нас ждут восхитительные приключения и чудесные возможности. Теперь я часто задавалась вопросом, что сталось с моей подругой. Она оставила адрес, куда писать, и я регулярно слала письма, однако ответа не получала. Мне нравилось думать, что София счастливо вышла замуж за виконта или герцога и ведет жизнь светской красавицы в Лондоне. Из отреза небесно-голубого тюля, который она мне подарила на память, я сшила роскошную юбку. Стоило ее надеть, как меня словно окутывало яркое летнее небо.
Наконец я обмакнула перо в чернильницу и вывела на листе бумаги первое слово; рука дрожала. «Дорогая моя мама», – написала я.
Вскоре я получила ответ, краткий, резкий. Быть может, ты приедешь на следующий год, сейчас – время неподходящее. Видимо, ей удалось что-то вычитать между строк.
У Эвелины к тому времени уже родился бледный, болезненный ребенок. Оба они носили парусиновую обувь со шнуровкой до колен и все время проводили под чехлом из прозрачной ткани, который слуги по мере надобности переносили с места на место. Со мной о детях больше никто не заговаривал. Эвелина порой пыталась залучить меня в гости, но мне проще было вырвать язык, чем болтать о пустяках. Домашними делами целиком и полностью ведала Джасвиндер, хозяйство было отлично отлажено. Невзирая на возражения Томаса, Джасвиндер и Эвелины, я начала каждый день уезжать из дому на лошади, одна.
– Это опасно, – увещевала Джасвиндер.
– Я запрещаю, – говорил Томас.
– Что скажут люди? – ужасалась Эвелина. – Вам нужен спутник, нельзя же разъезжать одной!
Поначалу я ездила в дамском седле, однако верхом оказалось несравненно удобнее – лишь так можно было ускакать в горы. С каждым разом я забиралась все дальше.
К развалинам одного из храмов я возвращалась снова и снова. Его стены были испещрены именами европейцев, главный вход заложен кирпичом. Я обследовала здание в поисках другого входа, невольно разглядывая надписи на стенах. На мягком белом камне были вырезаны имена солдат, офицеров и их возлюбленных, и под ними с трудом можно было различить остатки прежней тонкой резьбы индийских мастеров.
Однажды, карабкаясь по камням, я наконец обнаружила вход. Прогнившая деревянная дверь скрывалась под густо сплетенными ползучими растениями. Толкнув ее, я оказалась внутри. В храме уже выросли огромные раскидистые деревья, в их кронах шумно возились зеленые попугаи. По ветвям вниз бросились обезьяны, принялись вытаскивать у меня из волос булавки. Я с трудом верила собственным глазам. На каждой стене, куда ни глянь, были вырезаны сцены страсти. Мужчины и женщины были похожи на танцоров, их руки и ноги буквально дрожали от плотских желаний. Здесь были изображены все мыслимые позы и ласки. Каждая сценка, где влюбленные ласкали друг дружку, казалось, прорастала из самой земли – и ветвилась в древесных кронах. Эти исполненные вожделения картины неприятно меня поразили и вызвали отторжение, однако я не могла оторвать от них взгляд и уйти прочь. Крутобедрые, полногрудые женщины выглядели могущественными богинями: в их объятиях было столько радости жизни, что они казались мне совершенно чуждыми, неземными, не похожими на простых смертных.
Глядя на это распутное буйство, я ощутила, как кожу покалывает от волнения. Сама не понимая, отчего это делаю, я раскинула руки и принялась кружиться – и кружилась так долго-долго. Хотелось чего-то нового, непривычного, доселе не виданного и не испытанного. Я еще очень многого не знала; мне оставались неведомы огромные чужие миры.
Как-то раз, возвращаясь в Карнал, я проезжала сквозь рощицу молодых деревьев и вдруг увидела у реки мужчину и женщину в европейской одежде. Они обнимались под сенью баньяна; кони были привязаны неподалеку. Я отвела было взгляд, но затем, не удержавшись, посмотрела снова: пара показалась знакомой. Подъехав ближе, я из-за деревьев присмотрелась. Женщина была миссис Ломер, но мне помнилось, что у ее мужа волосы гораздо темнее, чем у того, кто ее сейчас обнимал. Мне стало любопытно; однако нельзя было, чтобы меня заметили, поэтому я собралась повернуть лошадь, думая незаметно уехать. И тут я увидела лицо мужчины. Хотя он был мне отлично знаком, я его узнала не сразу. Оцепенев, я смотрела, как мужчина нежно охватил ладонями лицо миссис Ломер, как когда-то брал в ладони мое. Она влюбленно глядела снизу вверх, и у меня задрожали руки. Томас наклонился ее поцеловать – точно длинный язык ящерицы метнулся к мухе, – а я развернула лошадь и ускакала прочь.
Подъезжая к расположению гарнизона, я миновала то самое дерево, под которым зарыла своего мертвого ребенка. Каждый раз, проезжая мимо, я глядела на это место, едва ли не всерьез ожидая увидеть живого младенца, пухленького, бодрого, который болтает в воздухе ручками и ножками. В моем представлении он был синий, как Кришна, с прелестными крошечными пальчиками. В тот день я увидела, что с капока осыпалась листва, однако дерево не умерло и не уснуло. На голых ветвях распустились огромные алые цветы. Я глянула на подножие: что там? Ничего – одни только опавшие листья. Глядя на яркие цветы, усыпавшие безлистные ветви, я поняла, что настала пора уезжать.
Глава 13
Я бы с радостью вам сказала, что ушла от мужа гордо, без слез, сцен и взаимных упреков. Однако в действительности, застав Томаса с миссис Ломер, я возвратилась, готовая разнести в клочья весь дом.
В слезах, я кричала, вопила и порвала чуть ли не всю его одежду. Разорив мужнин гардероб, я вылила мед на его лучшую пару форменных брюк, и на них тут же пришли белые муравьи и налетели крошечные черные мушки. Потом я металась по веранде, а голова шла кругом от гнева, ревности, боли. Когда Томас явился со службы, я не пускала его в дом.
– Если она твоя любовница, так и иди к ней! – кричала я.
– О чем ты? – делал он вид, будто не понимает.
– Я вас видела, видела!
– Моя дорогая Элиза…
– Не смей со мной так разговаривать!
– Давай войдем и обсудим все без лишних ушей.
Он попытался втолкнуть меня в дом, но я буквально сбросила его со ступенек. По щекам лились горячие злые слезы.
– Как ты мог?! Она мне в матери годится!
– Элиза, ну право же, – уговаривал он. – Мы с ней всего лишь друзья, больше ничего.
– Я все видела! – кричала я вне себя.
Тогда он в свою очередь обрушился с нападками:
– А ты какой была мне женой?
Затем он меня просто-напросто поднял, принес в гостиную и бросил в кресло.
– Ты переутомилась. После приступа малярии ты сама не своя.
Я примолкла, размышляя. Все-таки следовало ему сказать, когда я забеременела. Да только я тогда не готова была это сделать. Произнеси я это вслух, пришлось бы признать, что я не хочу от Томаса ребенка, так же как не хочу его самого. Что я за неправильная женщина? Возможно, если бы я ему доверилась, все кончилось бы иначе. Лишь спустя изрядное время после того, как похоронила своего мертвого ребенка, я ощутила потерю. Что-то во мне умерло – какая-то часть моего существа, маленькая, драгоценная, хоть и непонятная мне самой; и что теперь ни говори, вернуть ее невозможно.
Томас первый предложил, чтобы я поехала навестить мать.
– Перемена пойдет на пользу. Тебе оказалось не по силам жить тут в полном одиночестве, – объяснил он.
– Возможно, ты прав, – согласилась я.
Я уже заворачивала свои платья в бумагу, готовясь укладывать багаж, когда Томас обнаружил, что сталось с его одеждой. Потрясая мундиром, он орал:
– Черт бы тебя побрал! Какой черт в тебя вселился?! Когда ты поймешь: это не только моя вина, но и твоя тоже?
Я молча паковала вещи. Не хватало явиться к матери с синяками или «фонарем» под глазом.
Разумеется, Джасвиндер давно уже знала про миссис Ломер. Когда я сообщила, что уезжаю, она лишь кивнула, а затем посоветовала:
– Подождите. Все это проходит; чего не бывает в отношениях между мужчиной и женщиной! За целую-то жизнь.
Эвелина, услышав про мой отъезд, расплакалась.
– Ваша жизнь погублена, – лепетала она, всхлипывая. – Что с вами станется?
– Эвелина, не глупите! – Я едва подавила раздражение. – Из нас двоих теряет Томас, а не я.
– Моя бедная дорогая Элиза! – плакала она.
Я выехала в Калькутту ранним утром; солнце едва-едва поднялось, и все кругом было яркое, чистое, почти английское. Томас лично наблюдал за тем, как грузили мой багаж, затем настоял, чтобы экипаж проветрили, прежде чем помог мне забраться внутрь. Я поглядела на него из окна кареты, и он улыбнулся, словно пытаясь защититься. За прошедшие три года его лицо прорезали глубокие морщины – у рта, на лбу. У глаз появились «гусиные лапки», волосы начали редеть. Меня это уже не трогало; вся привязанность, которую я еще испытывала к Томасу, умерла в ту минуту, когда я приняла решение уехать.
– Ты скоро вернешься, – сказал он. – Ты же знаешь свою матушку.
Томас потянулся меня поцеловать, но я взяла его голову в ладони и прошептала:
– Между нами все кончено.
Он вырвался:
– Чепуха!
Карета покатила прочь. Я точно знала, что не вернусь, и не сомневалась: хоть Томас и не желает это признать, он тоже все отлично понимает.
К дому матери я прибыла с двумя сундуками и маленьким саквояжем, который теперь так плотно был обклеен ярлычками, что с трудом разберешь, какого он изначально был цвета. Хотя я написала маме, предупреждая о своем приезде, дома ее не оказалось. Служанка, открывшая дверь, явно вообще не знала, что у ее хозяйки есть дочь.
– Желаете ли оставить визитку? – осведомилась она.
Я желала дождаться мать, и меня провели в роскошно обставленную гостиную. Мой отчим стал уже майором, и его положение сказывалось в обстановке комнаты. На стенах – лепнина, мебель обита дорогой тканью в стиле времен регентства. Если бы не мальчик, приводящий в действие опахала под потолком, можно было бы представить, что я нахожусь в Лондоне, Бристоле или Бате. Оглядывая комнату, я вообразила себе новую жизнь, в которой мы бы вместе посещали концерты и балы, а мама с гордостью представляла бы меня друзьям. Спустя полчаса она поспешно вошла в комнату.
– Я тебя не ждала, – сказала она первым делом.
– Я же предупредила в письме.
– Вообще-то я не жду гостей, которых не приглашаю сама.
– Я ушла от Томаса, – сообщила я без предисловий.
– Это мы еще посмотрим, – ответила она.
Мы уселись, неприметно разглядывая друг дружку. В своем переливчатом платье темно-розового шелка мама выглядела такой элегантной и молодой; возраст выдавали только наметившиеся морщинки на руках и на шее. Мои мысли вернулись к миссис Ломер, потом перескочили на маму и Томаса в Бате: вспомнилось, как они часто сидели, голова к голове.
В течение нескольких минут мои надежды на примирение развеялись. С последней нашей встречи прошел год, однако ничего не изменилось. Если мама была мной недовольна тогда, теперь она была недовольна вдвойне.
Зато майор Крейги был искренне рад. Войдя в гостиную, он взял меня за плечи:
– Дай-ка я на тебя погляжу. – Он с нежностью меня обнял и улыбнулся: – Какая ты у меня красивая девочка.
Казалось, не было тех тринадцати лет, что минули на самом деле. Папа Крейги гладил меня по волосам, а я смотрела на него снизу вверх с широкой детской улыбкой.
– Она говорит, что ушла от мужа, – сообщила мама с неприязнью.
– Давайте сейчас об этом не будем. Элиза, ты не разучилась танцевать? Тебе необходим хороший отдых. Отвлечешься, развеешься. Завтра в твою честь устроим званый ужин.
На следующий вечер явились с десяток офицеров с женами и дочерьми.
– Не забудь, – предупредила мама, – ни слова о том, что ты ушла от мужа. Ты просто приехала в гости, вот и все.
Майор Крейги с гордостью представлял меня всем как свою дочь; мама держалась холодно и отчужденно. В какой-то миг до меня донеслись ее слова:
– Если еще хоть кто-нибудь скажет, как Элиза похожа на меня, ей-богу, я закричу.
Мой отчим мягко улыбнулся.
– Дорогая, но ведь она – твоя дочь. Постарайся ею гордиться.
На протяжении вечера мама поочередно уделяла внимание то одним гостям, то другим, и ее манера держаться менялась в зависимости от того, к кому она обращалась. В Ирландии точно так же вели себя в семействе Томаса. Среди англичан они держались не так, как среди ирландцев. То же самое я замечала и за собой. Возможно, это свойство англо-ирландцев: мы – ни то ни се, поэтому нас швыряет из стороны в сторону.
Когда начали танцевать, я ощутила на себе мамин пристальный взгляд.
– Правда ли, что ваша мать когда-то была профессиональной танцовщицей? – поинтересовался мой кавалер. – Сама она не говорит ни да ни нет.
– Вы предполагаете, что мама когда-то не была истинной леди? – ответила я, желая его поддразнить.
Офицер смутился, затем принялся многословно извиняться.
А я подумала, что, скорее всего, мама сама распустила этот слух. Он льстил ее самолюбию, однако и речи не могло быть о том, чтобы она взаправду оказалась в прошлом танцовщицей. Хоть бы даже оно так и было, она бы ни за что этого не признала.
После этого – единственного – званого ужина мама не позволяла мне появляться на приемах, и дома их тоже не устраивали.
– Тебе надо думать о собственном браке, – заявляла она, – и больше тут не о чем говорить.
К нам являлись офицеры, желавшие со мной увидеться, оставляли визитки и уходили ни с чем; а мама стала недовольной и раздражительной. Единственное, что мне было позволено, – наблюдать за тем, как она одевается и уходит. Совершенно так же, как в моем детстве. Мама сшила новые платья и стала одеваться с особым тщанием. Я выжидала, надеясь, что она, может быть, в конце концов смягчится и хотя бы меня пожалеет. Однако не прошло и месяца, как она написала Томасу, чтобы он приехал и забрал меня обратно в Карнал.
Томас прибыл. Он приходил каждый день, однако я решительно отказывалась с ним встречаться. Мама принимала его в гостиной, а я отсиживалась у себя в спальне. Спустя неделю мама пригласила меня поговорить.
– Он хочет забрать тебя домой, – сказала она.
– Ой, да неужели?
– Выбора у тебя нет. Томас – твой муж. И тебе пора уезжать.
Я сделала глубокий вдох. Выдохнула:
– Позволь мне остаться.
– Нельзя повернуть время вспять, – ответила мама сурово. – В браке у тебя есть лишь одна попытка; ты ее использовала.
– С нашим браком покончено.
Она громко засмеялась.
– Не говори чепуху, детка. Замужество – это на всю жизнь. Женщина не может развестись с мужем, тебе это отлично известно. Ты – не Генрих Восьмой, который развелся, а затем женился второй раз. К тому же твой супруг тебя содержит, и ты полностью от него зависишь, нравится тебе это или нет.
– Я не вернусь, – упрямо возразила я.
– На твоем месте я была бы осторожна. Если ты дашь Томасу повод для развода, останешься без гроша.
– Я так решила и не отступлюсь.
– Неблагодарная девчонка! – вскричала мама. – У тебя было все, и ты все отринула! Я позаботилась о твоем удачном замужестве, но ты от него отказалась. Тебе был нужен Томас; пожалуйста, теперь ты с ним навсегда. Я в двенадцать лет уже зарабатывала себе на жизнь, а тебя до шестнадцати пичкали всякой ерундой в школе. И с какой бы стати я теперь тебя жалела?
– Думаю, ты просто ревнуешь! – взорвалась я. – Разве моя вина, что Томас предпочел меня, а не тебя?
Мама залилась яркой краской – от шеи до самого лба. Я думала: ударит. Однако она сдержалась.
– Если ты отказываешься вернуться к мужу, то не оставляешь мне выбора.
– О чем ты?
– Единственное, что тебе в таком случае остается, – это уехать к родне в Шотландию.
– В Шотландию?! – Я так и обмерла.
– Решай сама.
Приехав в Калькутту, я и помыслить не могла, что мама отошлет меня прочь. Оставив Томаса, я израсходовала весь свой запас мужества; дальше этого я не заглядывала.
– Муж по-прежнему будет высылать тебе деньги, – сказала она.
– Вы с ним уже обсудили?
– Томас был очень щедр.
– А что говорит майор Крейги?
Мама встала; лицо у нее посерело, руки дрожали.
– Уясни себе главное, – проговорила она. – Здесь ты не останешься.
Судно «Ларкинс» отплывало из Калькутты в начале октября, когда ночи стали заметно прохладнее. Томас и майор Крейги прощались со мной в порту. Мама же едва переступила порог дома: она холодно меня обняла и поцеловала; как обычно, губы чмокнули в воздухе рядом с моим лицом. Я тщетно вглядывалась в ее черты, пытаясь отыскать хоть малейший намек на материнскую нежность. Мама застыла у двери, лицо было неподвижным, с каким-то странным выражением. Внезапно ее передернуло, словно от порыва зябкого ветерка, она отвела взгляд – и скрылась в доме. Лишь когда экипаж тронулся с места, я поняла, что за выражение видела на ее лице: с таким видом могла стоять женщина, которая пережила страшное предательство. Меня захлестнуло чувство вины и стыда. Я – единственная дочь, и я подвела маму, не оправдала ожиданий – причем не один раз, а дважды. Наверное, надо было лучше стараться. Сжав руку в кулак, я ударила себя по голове, потом еще и еще. Нет, нет, нет! На глаза навернулись слезы обиды и горького недоумения. Не может быть, что во всем виновата я одна. А она – разве нет? В конце-то концов, она же моя мать. Если я своими поступками ей не угодила, то она, со своей стороны, предала меня тысячу раз.
На пристани майор Крейги крепко сжал мои руки.
– На самом деле мать тебя любит, – сказал он. – Но она очень горда и ничего не может с этим поделать.
Майор обнял меня; я прильнула к нему, не желая отпускать. Тепла и любви я видела от него куда больше, чем от собственной матери!
– Если тебе что-нибудь понадобится, напиши, не стесняйся.
Судно отвалило от причала, и я еще долго смотрела на уменьшающуюся фигуру майора Крейги. На щеках у него блестели слезы.
Из соображений благопристойности Томас немного проплыл со мной вниз по течению Ганга.
Переговорив с капитаном, он вышел на палубу. Мы оба молча смотрели, как лодка, на которой Томасу предстояло возвратиться на берег, плыла неподалеку. Перед тем, как покинуть борт судна, Томас заговорил, и вид у него был смущенный и пристыженный:
– Ты всегда будешь моей женой. Я буду ждать. Ты сможешь вернуться, когда захочешь.
Он меня обнял, и я вспомнила наше первое объятие.
– Еще не поздно, – прошептал он.
Он был старше меня на пятнадцать лет; эти годы лежали между нами зияющей пропастью. Пропасть была слишком широка, мост через нее не перекинешь. В свое время я воспользовалась Томасом, чтобы избежать ненавистной свадьбы с судьей, нисколько не задумываясь о последствиях. Однако сейчас я уже не та наивная семнадцатилетняя девочка; Томас об этом как следует позаботился.
– Тебе пора, – ответила я.
Он начал спускаться по веревочной лестнице. Остановился.
– Ты не дала мне возможности стать хорошим мужем. Я тебе не был нужен по-настоящему. Ты хотела найти отца, а вовсе не мужа.
Я прикусила губу, затем чуть слышно шепнула:
– Прости.
Глядя вслед лодке, уносящей Томаса к берегу, я чувствовала себя так, словно вся моя жизнь куда-то уплывает. Часть души, что оставалась дикой и не втиснутой в рамки цивилизованности, была накрепко связана с Индией. Мне вспомнились усыпавшие ветви капока роскошные алые цветы, затем – могила отца на кладбище в Динапуре. Я размышляла об Эвелине и Джасвиндер, о маме и майоре Крейги. Над головой хлопнул парус. Ганг делался шире, берега расступались далеко в стороны. Мы плыли к морю. Ветер наполнил паруса, и судно начало набирать скорость.
Сцена четвертая
Серая овечья шерсть
Глава 14
Когда цветок увянет и лепестки осыплются, на стебле может остаться плод, а может и ничего не остаться, если это был пустоцвет. Когда вызреют семена, их могут склевать птицы или рассеять ветер. А если на ветке нальется яблоко или груша, их могут побить ночные заморозки или нападет плесень. Листья могут сожрать долгоносики, в яблоке поселится червь. Упавшие с веток плоды мнутся, чернеют, гниют. Дерево может и вовсе засохнуть, от корней до верхушки.
Судно уплывало от берегов Индии, а я печально глядела на качающуюся под потолком лампу и слушала, как за переборкой шумит море. Хотя мне едва исполнилось двадцать лет, будущее виделось унылым и мрачным. Находясь посреди Индийского океана, в каюте без иллюминатора, я машинально снимала и вновь надевала обручальное кольцо. Волны бились о корпус судна, и переборки в каюте дрожали. С потолка упал паук, закачался на тонкой нитке; по полу прошмыгнула крыса. У меня по щеке скатилась слезинка. С каждым ударом волны в борт я вновь и вновь слышала мамин голос:
– Почему ты вообразила, будто ты – не как все? Попомни мои слова: придет день, и все твои пустые мечты разлетятся в прах.
Несчастливое замужество – совершенно обычное дело; почему я не стала мириться с ним, как все прочие? Многим женщинам приходится смирять свою гордость, я отнюдь не единственная.
– По одежке протягивай ножки, – наставляла мама, а затем дала несколько советов на будущее.
Шелковые платья теперь носить не следует; придется обходиться более скромной одеждой из серой шерсти или однотонного муслина. Да это же все равно что хоронить меня заживо! Как такое может быть? Я улеглась на койку и закрыла глаза. Снаружи шумели, глухо бились о борт морские волны. Я уехала из Шотландии в двенадцать лет, поклявшись, что ноги моей больше не будет в этой ужасной стране. И вот – неужто снова туда?
Несколько часов спустя меня разбудил настойчивый стук в дверь. Лампа догорела и погасла, и я в темноте ощупью добралась до двери. За ней оказалась жена капитана; она представилась, а я спросонья еще протирала глаза.
– Моя дорогая девочка, – проговорила миссис Инграм, – вы уже скучаете по мужу? Не беспокойтесь; я ему торжественно обещала, что мы о вас позаботимся.
Тут трижды прозвонил корабельный колокол, приглашая пассажиров на обед.
– Вы готовы? – осведомилась миссис Инграм.
– Я не хочу есть.
Она улыбнулась:
– Конечно, хотите. Вы такая худенькая! К тому же надо питаться, пока еще есть приличная еда. Через месяц нам будут подавать одну лишь солонину да сухое печенье.
В кают-компании она усадила меня за капитанский стол; вместе с нами обедали сам капитан и чета немолодых американцев. Мистер Генри Стергис из Бостона, штат Массачусетс, представился по всей форме; его супруга Мэри лишь улыбнулась. Спустя несколько минут выяснилось, что Томас успел поговорить с ними со всеми.
– Ваш бедный супруг так тревожился, оставляя вас одну, – обратилась ко мне миссис Стергис. – Но мы его заверили, что непременно о вас позаботимся.
– Мы будем вас всюду сопровождать, – добавил ее муж.
– Особенно я, – пообещала миссис Стергис.
– Вам не придется оставаться одной ни на минуту. – Миссис Инграм накрыла мою руку своей.
Я вымучила слабую улыбку.
– Мистер Джеймс сказал, что вы неважно себя чувствуете. И в самом деле, многие молодые женщины с трудом переносят индийский климат.
– Да, правда, – откликнулась я.
– И еще этот несчастный случай – такая досада! – сочувственно проговорила миссис Стергис.
– Несчастный случай? – переспросила я недоуменно.
– Ну-ну, детка, только не волнуйтесь.
Миссис Стергис подалась к жене капитана и понизила голос:
– Бедная девочка еще не оправилась после падения с лошади. Это случилось в Мейруте; она серьезно повредила спину. Супруг надеется, что пребывание дома пойдет ей на пользу.
– Вы будете очень скучать по мужу, – пожалела меня миссис Инграм.
– Очень, – подтвердила я, кривя душой. Возразить было невозможно.
– К тому же оказавшись так далеко от матери.
– В наших с ней отношениях расстояние не играет роли, – ответила я сухо и с отчаянной надеждой огляделась.
Однако среди пассажиров, обедавших за другими столами, не было никого, кто мог бы прийти на помощь. Миссис Инграм и миссис Стергис с тревогой за мной наблюдали.
В Мадрасе на борт поднялись новые пассажиры, и капитан объявил в их честь небольшой бал. Как обычно, большую часть вечера я провела, зажатая между миссис Инграм и миссис Стергис, которые прямо-таки соревновались между собой, кто лучше меня убережет и защитит. После обеда заиграл «оркестр», собранный из троих матросов и слуги капитана: убогий пианист, скрипач, флейтист и исполнитель на английском рожке.
Когда мы выстраивались в линию, готовясь танцевать, меня с двух сторон подхватили под руки капитан и мистер Стергис.
– Замужняя женщина, оказавшись одна, становится крайне уязвима, – предостерег капитан.
– Особенно такая юная, как вы, – добавил мистер Стергис, обнимая меня за талию.
– Вы легко можете стать мишенью для сплетен. – Капитан потянул меня к себе.
Они плотно зажали меня с двух сторон, а затем к нам подошла миссис Стергис. Однако я уже не слышала, что мне говорили: дверь открылась, и в салон вошел молодой лейтенант, который мгновенно завладел моим вниманием.
Капитан извинился и направился к нему.
Этот новый пассажир являл собой неотразимую смесь юности и уверенности в себе. Высокий, стройный, белокурый, со светлыми, глубоко посаженными глазами. Капитан поздоровался с ним за руку, и тут лейтенант поймал мой взгляд. Вспыхнув, я отвела глаза.
Снова обратив внимание на мистера и миссис Стергис, я услышала все те же прежние речи.
Ах, ну отчего я не надела платье из лилового шелка или переливчатой зеленой тафты? И почему я не потрудилась над прической? Глубоко убежденная, что жизнь кончена, я непростительно пренебрегла собственной внешностью: волосы уложены кое-как, платье самое простенькое.
Лейтенант, казалось, бесконечно кружил по салону: когда бы я на него ни взглянула, он уже оказывался на новом месте. Так и пересаживался от стола к столу, беседуя все с новыми и новыми людьми. Я украдкой поглядывала на него, пока не закружилась голова. С каждым новым взглядом я ухватывала новую подробность. Его усы и брови темнее, чем волосы. Глаза серые. Или бледно-голубые? И капитан, и мистер Стергис, танцуя со мной, не умолкали ни на мгновение. Я кивала и улыбалась, не воспринимая ни слова.








