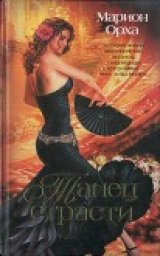
Текст книги "Танец страсти"
Автор книги: Марион Орха
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Не успела я оправиться от одного приступа малярии, как вскоре начался другой. В редкие минуты, когда прояснялось сознание, я с горечью признавала, что выстроила свою империю на зыбучих песках. Каждый поцелуй или прикосновение к Людвигу я ощущала как маленькое предательство, от любого нежного слова по коже мороз продирал. Меня преследовал один и тот же гадкий сон: по животу и груди ползут улитки, оставляя влажный липкий след. Все, что прежде казалось высоким и чистым, было растоптано и замарано; меня не отпускали ужас и отвращение.
Часто вспоминались отрывки разговоров с Эллен, моей лондонской горничной. Особенно одна ее фраза: «У всякой женщины своя цена». Помнится, тогда я возразила: «Ты говоришь, совсем как моя мать!»
Малярия не отпускала; я никак не могла поправиться. Всю свою вторую зиму в Баварии я не покидала собственной спальни. Мюнхен был завален снегом, а я лежала в жару. Часто снился кошмар: Людвиг отворяет мне грудь, будто дверцы шкафа, а под ребрами – пустота. Где должно быть сердце, его нет. Или еще: будто бы я снова в Индии, а мать желает выдать меня замуж за Томаса, о котором я даже думать не хочу; я тайком сбегаю с Джорджем – и вдруг он превращается в того самого Томаса, от которого я пыталась удрать.
Однажды утром я очнулась после особенно тяжкого приступа и обнаружила возле себя на постели недописанное письмо. Я рассматривала его с искренним недоумением. Почерк был нетвердый, многое было зачеркнуто и переписано, но все же я несомненно узнала руку. Немало часов я провела, по настоянию мисс Олдридж номер один либо два, трудясь над листами бумаги. Женственный, аккуратный, летящий, с мелкими завитушками почерк явно был моим собственным. Хотя я совершенно не помнила, как сочиняла это послание.
Оно было адресовано моей матери. Я прочла письмо раз, потом другой, третий – так трудно оказалось понять, что же, собственно, я хотела сказать.
Дорогая моя мамочка
Дорогая моя миссис Крейги
Дорогая миссис Крейги!
Почти пять лет Уже прошло некоторое время с тех пор, как мы виделись в последний раз. Я понимаю, что расстались мы не очень хорошо, и не сомневаюсь, что у вас есть все причины на меня сердиться, однако сейчас мы обе одиноки, мы с вами – единственные родные друг другу люди, и мне кажется, нам следует попытаться примириться. Возможно, мы могли бы стать друзьями. Я очень по вам скучаю. В конце концов, вы моя мать. Когда я оставила Томаса, разве могла я знать, что готовит мне будущее? Чуть только джинн был выпущен из бутылки, моя жизнь пошла независимо от меня. Разве я и впрямь такая скверная, как пишут? В газетах пишут небылицы. Разве не найдется в вашем сердце прощения? Это не моя вина. Ведь мы все-таки чем-то похожи. Вспомните: когда-то у вас была шляпка с крошечным суденышком, а потом другая, с заморскими фруктами. Разве вы не узнаете в себе меня, хотя бы чуть-чуть? Конечно, вы – честолюбивая женщина. Моя способность танцевать передалась от вас. Разве может такое быть, что вы предпочтете считать меня скорее мертвой, чем собственной дочерью? Что вы от меня хотите? Извинений? Думать об уважении общества уже слишком поздно. Неужели я совсем ничего не могу изменить? Подумайте обо мне хоть немного. Напишите хоть несколько строчек. Несколько слов.
Письмо было незакончено, на последней странице строчки поползли в разные стороны, как будто даже в жару я осознала, что писать бесполезно. Читая собственное творение, я прямо-таки слышала, как отвратителен этот униженный, просительный тон. Бог мой, неужто у меня вовсе нет гордости? Слезы обожгли глаза. Скомкав письмо в кулаке, я в изнеможении вновь упала на подушки.
Я не желала себе в том признаваться, однако в последнее время все чаще вспоминала мать. Каждый раз, поймав себя на том, что размышляю о наших с ней отношениях, я старалась прогнать эти мысли прочь. Порой я во сне пыталась ее отыскать, однако находила лишь зеркало в чудесно украшенной раме, в котором, однако, ничто не отражалось. Порой казалось, что малейший пустяк может каким-то чудом поправить дело. Как хотелось протянуть к ней руку, коснуться, еще один раз – самый-самый последний! – попросить… Расправив смятое письмо, я всматривалась в него, пока не ослепла от выступивших слез. В груди щемило; если бы мать позволила себе хоть немного меня любить, возможно, моя жизнь сложилась бы иначе.
Стой, одернула я себя. Ишь расчувствовалась! Вспомни: всего несколько раз тебе нужна была ее любовь, но мать неизменно тебя отталкивала. Она так же презирает слабость, как и ты. Вспомни, что она ответила, когда ты вышла за Томаса замуж и просила о помощи. Мать написала: «Ты сама заварила эту кашу, теперь и расхлебывай. А если она тебе не по вкусу и слишком солона, так ты сама в том повинна, никто другой».
Тряхнув головой, я тщательнейшим образом разорвала письмо на мелкие клочки. Они усеяли покрывало, как дешевое конфетти, и я твердо решила даже и не помышлять о том, чтобы снова писать матери.
Прошло полчаса, и я по памяти восстановила письмо. Быть может, я все-таки его отошлю? Ну какой от него будет вред? Во мне опять проснулась надежда. Кто знает, как оно повернется? Возможно, мы все-таки будем хоть изредка переписываться. Отчего же нет? Правда, нет смысла ожидать большего. Да, конечно: надо трезво смотреть на жизнь и не надеяться на несбыточное.
Месяц спустя я поднялась наконец с постели, сильно ослабевшая, буквально выпитая болезнью до дна. Кости болели; выглядела я скверно – бледная, исхудавшая. Оставшись одна, я тут же впадала в уныние; порой меня охватывали приступы необъяснимой слепой ярости. Пуще всего я ненавидела Людвига – за то, что он вообразил, будто может меня купить, и себя – за то, что назвала цену. Как всегда, мать оказалась права: заварив в Баварии гадкую кашу, я теперь вынуждена ее хлебать. Мне было семнадцать, когда мать попыталась выдать меня за старика. Желая спастись, я убежала за тысячи километров – и на тебе, оказалась в этом же самом положении! Только на сей раз я позволяю себя лапать стороннему человеку, даже не мужу. Вот мать бы в душе надо мной посмеялась! Мне отчетливо виделось, как ее аккуратное личико на миг освещает улыбка горького торжества. Возможно, я воистину ее дочь. И я научусь, как держать в узде баварского монарха. А тем временем нужно позаботиться о собственных интересах и упрочить свое положение. Нужно проявить практичность; необходимо думать о будущем. Так я себе говорила.
Глава 31
Во внутреннем дворике, затерянном в лабиринтах дворца, находилась оранжерея с коллекцией орхидей, которые Людвиг холил и лелеял лично, не доверяя это дело садовникам. Мы часто проводили там время днем, праздно сидя на парчовом диванчике среди кактусов, пальм и резных трепещущих папоротников. Когда мысли Людвига были заняты государственными делами, он принимался ухаживать за орхидеями, а я наблюдала, как он проверяет уровень влажности или опрыскивает семена, упавшие в землю вокруг материнского растения. В его коллекции был редкий фиолетово-красный экземпляр с Суматры с крошечным утолщением в серединке, формой похожим на человеческий череп, чисто-белый гибрид из восточных районов Африки и удивительная огненная орхидея с волнистыми, словно гофрированными лепестками и длинными загнутыми чашелистиками, напоминающими экзотическую бабочку.
Когда Людвиг, оторвавшись от орхидей, обращал свое внимание на меня, я охотно его услаждала – пока королевские чувства оставались более или менее платоническими. При первых же признаках более приземленной, физической страсти я немедленно меняла линию поведения. Стареющий мужчина, будь он хоть трижды король, чрезвычайно уязвим и обидчив; я видела это по его глазам.
– Как сильно ты меня любишь? – поддразнивала я его, покусывая мочку уха, касаясь носа кончиком языка.
Намеренно касаясь грудью его рук, я снимала воображаемые пушинки ему с плеч. А если объятия Людвига становились чересчур пылки, стоило только заговорить о политике, как он тут же подавался прочь. Один раз он даже оттолкнул меня с такой силой, что я едва не скатилась с диванчика. Порой, на протяжении нескольких мгновений, мне чудилось, будто я могу из Людвига веревки вить и заставить сделать все, что захочу. А еще часто вспоминалось происшествие в Берлине; перед моим внутренним взором чудесный хлыст из сыромятной кожи вновь и вновь рассекал воздух. Но только сейчас он не впивался в лицо офицеру, а обвивался вокруг лодыжки баварского монарха и Людвиг тяжко падал на колени, прямо передо мной.
– Ну скажи: как сильно ты меня любишь? – поддразнивала я наяву.
Когда в газетах меня стали называть самой могущественной женщиной Баварии, Людвиг ввел в стране жесткую цензуру. Часто газеты выходили с большими зачерненными пятнами на страницах, а на рассвете полиция рыскала по улицам и срывала свежерасклеенные листовки. Хотя большинство баварцев оставались благонадежными гражданами – католиками и консерваторами, – активное меньшинство призывало к переменам. Когда стало известно, что я имею большое влияние на короля, ко мне пошли толпы студентов и радикалов; одни просили помощи и защиты, другие толковали о заговорах. В Ирландии, Индии и оккупированной Польше люди с пеной у рта обсуждали механизмы власти; в Париже разговоры вертелись вокруг либерализма и демократии; однако в Баварии церковь и государство по-прежнему оставались едины, почти как в Средние века. Людвиг единолично правил на протяжении двадцати одного года. Желание вмешаться становилось неодолимым.
И вот, во время наших тихих занятий в оранжерее, я начала понемногу кое-что предлагать. Если бы церковь не так крепко держала за горло правительство, рассуждала я, то народ Баварии, возможно, воспринимал бы меня более благосклонно. Людвиг на эти рассуждения не отозвался, продолжая опрыскивать орхидеи, обрезая высохшие корни.
В другой раз, когда он обдумывал новые назначения в правительстве, я вытащила свой собственный список кандидатов.
– Есть люди, которые ставят под сомнение божественные права монарха, – произнесла я кротко.
Людвиг крепче сжал в руке лупу и с решительным видом перешел к янтарно-фиолетовой орхидее, привезенной из Бразилии. Затем его глаза недобро сузились.
– Это измена, – проговорил он, рассматривая внутренность цветка. Рука заметно дрожала.
Я откинулась на спинку дивана.
– Быть может, стоит ввести наполеоновский кодекс?
Людвиг отшвырнул лупу, орхидея так и затряслась на тонком длинном стебле.
– В Баварии – никогда!
Я хихикнула.
– Позволишь простонародью голосовать?
Людвиг обернулся ко мне, лицо подергивалось.
– Женщине не дано разбираться в подобных вещах. Я не желаю это больше обсуждать. Если не возражаешь, я займусь орхидеями.
Вскочив с диванчика, я взъерошила ему волосы.
– Бедняжка, – сказала я, в шутку надув губы. – Ты же знаешь: я с тобой всего лишь играю.
На двадцать семь лет Людвиг подарил мне титул, и я официально стала зваться Мария, графиня Лансфельдская. Из соображений безопасности я стала появляться на людях в сопровождении двух лакеев в ливреях, будто королева или наследница престола. А если знатные дамы отказывались со мной здороваться, я приветствовала их отборными фразами на французском просторечии.
В конце декабря ко мне в дом явилась неожиданная гостья. Когда Сусанна принесла визитку, я едва поверила собственным глазам. Затем бросилась в прихожую встречать, и мы тепло обнялись. Отступив на шаг, мы оглядели друг друга, затем широко улыбнулись.
– Я так рада тебя видеть! – искренне сказала я, направляясь в гостиную.
А когда мы уселись, я вдруг смутилась.
– Наверное, ты пришла на меня поглазеть?
Новоиспеченная герцогиня Корнуолльская серьезно поглядела своими серыми глазами мне в глаза, дабы я не усомнилась в ее искренности.
– Я ни единой душе не сказала, что еду к тебе; даже мужу. И вернувшись в Лондон, тоже никому не скажу. Поверь: я не собираюсь подливать масла в огонь гадких сплетен.
Превратившись из герцогской любовницы в герцогиню, София смотрелась великолепно. И чувствовала себя соответственно; что бы я ни говорила, это не могло ее обескуражить. Отношения с герцогом Аргилльским сошли на нет вскоре после того, как герцог приезжал с ней в Париж, однако София не замедлила привлечь нового обожателя. Она была замужем без году неделя, но в ней уже чувствовалась куда большая уверенность, чем прежде. Казалось, она рождена, чтобы повелевать людьми; при этом уверенность и благополучие смягчили то выражение горькой умудренности, которое я видела в ней прежде. Очень дорогой темно-серый костюм, плащ и отороченная бархатом шляпка делали Софию невероятно элегантной и респектабельной дамой.
Как выяснилось, она совершает с мужем большую поездку по Европе и решила навестить меня по пути в Вену.
– Итак, мы обе очень недурно устроились, – заметила я.
Она улыбнулась:
– Я слышала, ты теперь графиня.
Я улыбнулась в ответ:
– Ты меня даже здесь обскакала. Что-то никак не припомню: должна ли немецкая графиня приседать в реверансе перед английской герцогиней?
– Моя дорогая Розана… – сказала она, неожиданно посерьезнев. – Я могу тебя так называть?
Я согласно кивнула.
– Я не могла не приехать, – продолжала София. – В газетах пишут такое, что мне за тебя тревожно.
– Что же тебя беспокоит?
– Ты наверняка понимаешь, что ведешь крайне опасную игру.
– А я-то думала: ты как раз меня одобришь.
– Нет, ты, похоже, не понимаешь. Твоя жизнь может оказаться в опасности. По всей Европе положение очень напряженное; народ может восстать.
– Не драматизируй, – усмехнулась я. – Меня любит и защищает сам король. Оглянись. Чего еще я могу пожелать?
– А как же счастье?
– Счастье! – У меня дрогнул голос. – Прямо не верится, что ты о нем говоришь!
– Ты понимаешь, о чем я, – настаивала София.
– Я уже попробовала счастья, помнишь? В сущности, дважды попробовала. Первая попытка лишила меня возможности вести нормальную почтенную жизнь. А вторая закончилась дуэлью в Париже. Вероятно, ты читала в газетах.
София печально кивнула:
– Я очень огорчилась, узнав о гибели Александра. Вы с ним так любили друг друга. Душа радовалась смотреть.
– Так, значит, ты в конце концов заимела мужа, – проговорила я негромко.
– Милейший герцог пожелал, чтобы я принадлежала только ему одному, – отозвалась моя подруга, самодовольно улыбнувшись.
– Я очень за тебя рада. Очень. Но такая жизнь совершенно не для меня. Когда мы жили с Александром в Париже, я порой мечтала, что однажды мы поженимся. Но то были всего лишь глупые мечты. Наверное, в глубине души я с самого начала это знала.
София помолчала, словно в нерешительности, потом снова заговорила:
– Мне бы очень хотелось, чтобы ты ко мне прислушалась. В Европе вовсе не так безопасно, как тебе, похоже, думается. Стоит только взглянуть на то, что творится в мелких княжествах.
Я позвонила, вызывая Сусанну, и попросила:
– Пожалуйста, давай сменим тему.
Потом мы пили чай, чувствуя себя неловко и не зная, о чем еще говорить. Звякали фарфоровые чашки, позванивали серебряные ложечки, а мы с Софией молчали. Наконец она поднялась, чтобы уходить. В дверях гостиной моя милая подруга обернулась:
– Будь осторожна, я прошу!
– Да вовсе не из-за чего обо мне беспокоиться, – заверила я, однако не сумела изобразить беспечную улыбку.
Мы попрощались, обнявшись, и я с трудом выпустила ее из объятий. Вернувшись в гостиную, прислушалась к стуку колес ее экипажа по мостовой. Внезапно меня захлестнула волна раздражения. Пусть София и стала герцогиней по браку – это не дает ей ровно никакого права учить меня жить. С какой стати она явилась сюда с разговорами и непрошеной заботой? Только сеет сомнения и нерешительность в моей душе.
В канун Нового года, вместо того чтобы попросту дождаться, когда Людвиг улизнет с семейного празднества во дворце, мне вздумалось самой хорошенько отпраздновать. Украсив дом отрезами шотландки и венками из ветвей остролиста и омелы, я позвала гостей – нескольких влюбленных в меня юных студентов. Угостила их обедом, подняла тост за счастливый Новый год. Затем мы перешли в гостиную, и тут они завели речь о моих выступлениях на сцене, начали поддразнивать. Глядя на их раскрасневшиеся лица и загоревшиеся глаза, я скинула туфли.
В приступе безудержного веселья я показала им фанданго в его настоящем, исходном виде. Мощь этого великолепного танца пронизала все мое тело, разочарования уходящего года зажигали каждый шаг. Я с силой мотнула головой, и прическа неожиданно рассыпалась, волосы хлынули на плечи, на спину. Я подобрала юбки. Пальцы мои стали поющими птицами, затем – удивительными цветами, нимбом окружившими мне голову. Я прикрыла глаза. На несколько драгоценных мгновений я вновь оказалась в Испании, в цыганской пещере, и будущее опять представилось в розовом свете. Снова у меня голова пошла кругом от взорвавшихся аплодисментов.
Студенты в восторге громко кричали и топали, затем подхватили меня, вскинули на плечи и торжественно понесли по гостиной. И тут я прямиком угодила головой в хрустальную люстру под потолком. Очнулась я на полу, с разламывающейся головой, с рассеченного лба текла кровь. Очень скоро история эта разлетелась по Мюнхену; говорили, будто моя одежда была растрепана, а студенты – вообще без штанов.
На следующей неделе я появилась в театре в новом платье темно-синего бархата, которое великолепно оттеняло мои новые роскошные бриллианты – на шее, на запястьях, в волосах. При малейшем движении я рассыпала сверкающие брызги света. Сидя в собственной ложе, я видела, как недовольна публика в зале.
Проведя в Мюнхене два года, я ощущала себя птицей в золоченой клетке. Куда бы я ни пошла, всюду на меня глазели и насмехались. А я замечала каждый взгляд, каждую ядовитую насмешку. «Пока страсть пылка, собирайте драгоценности», – то и дело всплывали в памяти поучения бывшей горничной Эллен, и я каждый раз с досадой гнала их прочь. Еще вспоминались куртизанки в итальянской опере, в Лондоне. Какими светскими дамами они казались, как глухи были к насмешкам и пересудам.
Из своей обитой бархатом ложи на верхнем ярусе я оглядела поднятые лица зрителей, их шевелящиеся губы, отлично зная, что именно говорят в зале. Я – вавилонская блудница в их почтенном обществе. Я – ведьма, околдовавшая их обожаемого короля. Празднование Нового года в моем доме и впрямь вышло шумноватым, однако впоследствии эту историю раздули невероятно. На сцену никто не смотрел, хотя балет был неплох. Пожав плечами, я бросила взгляд на королевскую ложу. Увы; даже мне самой пришлось признать: не осталось никакой надежды на то, что меня когда-нибудь примут при дворе. Я пощупала бриллиантовое ожерелье. По крайней мере, Людвиг меня не покинул. Золотые оправы были изготовлены в Париже, сами бриллианты – из Индии.
Поворачивая голову, я ощущала тяжесть сверкающих камней в роскошной диадеме. В зале шептались о том, какую уйму денег король потратил, чтобы мне угодить, а я безуспешно пыталась подавить улыбку. В королевской ложе, сидя рядом со своей венценосной супругой, Людвиг изо всех сил старался сохранить хладнокровие.
В тот замечательный вечер я ненадолго ощутила себя всемогущей. Глядя на поднятые лица в зале, я едва сдерживала смех. Раз уж мюнхенский архиепископ вздумал наградить меня титулом богини любви, я с радостью его принимаю. «В Мюнхене более нет Девы Марии, ее место заняла Венера», – так он говорил, а я искренне гордилась собой, и гневные слова архиепископа кружились над моей головой, будто нимб. Весь зал глядел на меня; все зрители думали и шептались обо мне. И впрямь: если ваш Богом данный король склоняется у моих ног, то кто же тогда я такая? Пусть рухнет прежний порядок, погибнет сговор королей, пусть дворянский титул перестанет что-либо значить!
Перед моим мысленным взором этот вечер уже был запечатлен в вечности. Я видела свои портреты в газетах, отпечатанных в типографиях по всей Европе; репродукции, продаваемые на газетных лотках. Мое изображение дарил посетителям концертных залов волшебный фонарь. Дрожащим светящимся миражом я парила над ночными столицами. Мой портрет был шедевром, написанным в стиле французского романтика Эжена Делакруа – исполненным в полный рост, маслом и темперой, источающим непреходящий свет. Через сто лет я буду украшать стены частного дома, и темно-синий бархат платья будет великолепно смотреться на фоне пурпурной обивки театральной ложи. За спиной сияет огромная люстра, и в ее свете прекрасное лицо, шея и горло остаются молодыми и гладкими, белыми как алебастр, и каждый бриллиант сверкает тысячью крошечных огоньков… Сегодняшний вечер будет длиться целую жизнь, летящее мгновение растянется в вечность. И что бы ни случилось после, куда бы я ни отправилась, я буду вновь и вновь его вспоминать.
Конец первого акта
ИНТЕРЛЮДИЯ
С приходом весны в Европе зарокотали первые признаки революции. В каждом городе, большом и малом, громче становился шепот недовольных. По всей Баварии зрели заговоры, то и дело вспыхивали мятежи. В кофейнях и пивных люди схватывались в яростных спорах. Стоило кому-то повысить голос, как вспыхивала потасовка, и тлеющее недовольство то и дело выливалось в грабежи и поджоги.
АКТ II
Сцена восьмая
Сине-фиолетовый кашемир
(порванный, забрызганный кровью, заляпанный грязью и навозом)
Глава 32
Ясным морозным утром в феврале 1848 года случилась перебранка на базаре, и мало-помалу вокруг ссорящихся торговцев собралась толпа народу. На другом конце города, где стоял на Барерштрассе красивый, похожий на маленький дворец особняк, служанка открыла дверь кухни, из которой наружу вырвалось целое облако пара, и через порог выскользнула непоседливая белая собачка по имени Зампа.
В гостиной, завешанной драпировками из зеленого «мокрого» шелка, сидела женщина, занятая делом. Она вырезала статьи из газет; стопка на столе постепенно худела. В пепельнице дымилась недокуренная черная самокрутка. У ног дамы лежали распотрошенные газеты – лондонские, парижские, берлинские.
Издалека – сквозь высокие окна с металлическими решетками, из-за кованых чугунных ворот с двумя стражниками в мундирах, из-за обсаженной тополями Барерштрассе – доносился едва слышный гомон далекой толпы.
Взяв затухающую самокрутку и затянувшись, я неожиданно устыдилась. Только что я представляла себя как героиню некой пьесы. Отчего-то вдруг слишком легко стало переноситься в вымышленный мир, смешивать вымысел с реальностью, верить тому, что пишут в газетах.
Я задумчиво оглядела газетные вырезки, сложенные на коленях.
– Ну, и кем же я буду сегодня?
В огромном венецианском зеркале, что висело над камином, я увидела собственное отражение. Спутанные темные кудри и густые, почти что мужские брови обрамляли бледное осунувшееся лицо. Пожалуй, если те самые люди, что шумят на улицах города, вдруг ворвутся сюда, их ждет большое разочарование… По зеркалу неожиданно поплыли темные облачка, отражение затуманилось, и я вспомнила молодую женщину с заплаканными глазами, с синяками на теле. В ушах прозвучал голос моей матери: «Ну а что же ты ожидала?» В зеркале Лола – или Элиза, или Мария – отшатнулась, словно от пощечины.
– Я – Мария, графиня фон Лансфельд, не забывай, – объявила я, однако эти слова вернулись глумливым эхом.
Открыв на чистой странице альбом в алом переплете, я потянулась за баночкой клея. Все утро я старалась не обращать внимания на доносящийся снаружи шум, однако он становился все громче, пробиваясь в сознание и действуя на нервы. Пусть Людвиг одарил меня титулом и богатством, не в его силах рассеять враждебность, которую испытывали ко мне жители Мюнхена.
Уже три дня я не могла выйти из дома, сидела в нем, как в заточении.
Я наклеивала последние вырезки, когда в гостиную ворвалась Сусанна, восклицая:
– Собака! Зампа опять убежала! Ach nein[50], мадам! Вам никак нельзя выходить. Bitte[51], я прошу вас!
Глава 33
Я всегда с радостью встречала перемены – будь то повороты в моей собственной судьбе, гроза или даже страшный лесной пожар, однако результат неизменно заставал меня врасплох. Вот и сейчас: в тот самый миг, когда я пыталась примириться с давшей трещину реальностью, это хрупкое здание неожиданно рухнуло. В течение одной-единственной недели все повернулось на сто восемьдесят градусов: лишь недавно я взирала на театральную публику из обитой бархатом ложи – а сейчас лежала беспомощно на земле, а меня рвала на части и топтала ногами озверелая толпа.
Конечно, я понимала, что мне нельзя и носу высунуть из дома. Сусанна умоляла меня остаться. Однако стоило мне услышать, что Зампа исчезла, я уже просто не могла сидеть сложа руки. На моей крошечной белой собачке был надет украшенный алмазами ошейник, и на серебряной пластинке выгравировано мое имя. Страшно подумать, что станется с бедняжкой, если она попадется взбудораженной толпе. Нет-нет, невозможно оставить ее на произвол судьбы! Вот уже неделю в городе беспорядки, все утро вдалеке слышны шум и крики. Низкий зловещий рев толпы, которая порой вдруг начинает петь, не предвещает ничего хорошего даже укрытому за стенами собственного дома человеку; что уж говорить о беззащитной собаке!
Вздрогнув, я открыла глаза, вскинула сжатые кулаки, готовая отбиваться и встретить ударом любого, кто осмелится напасть. В смятении огляделась. В камине догорали угли, на полу валялся гребень из слоновой кости. Сообразив, что нахожусь в собственной гостиной, я с облегчением откинулась на спинку кресла. Никаких сил нет… Что случилось? Сусанна брызгала мне в лицо лавандовой водой. В затылке болезненно стучало – как будто молоток бил по деревяшке. Шевельнувшись, я обнаружила, что голова тяжелая, будто налита свинцом. В ушах звенело. Внезапно я перепугалась: разве я не была снаружи? На Барерштрассе? Ведь надо было там что-то искать! Кожа покрылась липким потом, я едва могла вздохнуть.
Зампа! Я ведь разыскивала Зампу! Бежала по улицам со всех ног, звала, срывая голос, а сердце бешено колотилось, я задыхалась, я глохла…
– Зампа? – шепнула я.
Мокрый шершавый язык лизнул в щеку. Зампа, целая и невредимая, сидела в кресле возле меня, подняв уши, виляя хвостом; ее белая шерстка была чистой, как свежий снег. Подхватив собачку на руки, я вдруг заметила в зеркале грязную и жалкую фигуру – одежда разорвана в клочья, босые ноги в грязи. Это еще кто?!
И тут я увидела ее глаза – круглые от ужаса и отвращения. «Что вылупилась?!» – чуть не заорала я, прежде чем до меня дошло. Несколько раз сглотнув, я поборола желание заплакать. Это же я там, в зеркале. Жалкое существо, которое едва-едва унесло ноги, спасая собственную жизнь. Чумазая нищенка, убогая побирушка, которую любой приличный человек обойдет стороной. В спутанных волосах – грязная солома и, по-моему, комья навоза. Платье порвано и отвратительно воняет, один рукав разорван на плече, второго нет вовсе. Изорванные нижние юбки черны от грязи. На щеке наливается кровоподтек. А где туфли, чулки, моя замечательная кашемировая шаль?
Начали вспоминаться кошмарные видения: вздыбившаяся лошадь, хватающие меня руки, град сыплющихся ударов, сжатые кулаки, обнаженные в злобном оскале зубы, пробивающийся сквозь толпу конный жандарм. Я захлебнулась страхом. На улице рядом с домом раздавались крики, там дрались.
Взгляд стремительно обежал комнату: где ворвавшиеся враги? Задыхаясь, я с хрипом втягивала в легкие воздух. Дом был насквозь пропитан отзвуками царящей снаружи сумятицы, однако в гостиной был идеальный порядок, как будто здесь время вообще остановилось. Все вещи на своих местах, всё как положено. В дверях неловко мялась Сусанна, комкала фартук; от нее исходили тревога и волнение настолько сильные, что их, казалось, можно ощутить физически. Перед глазами появилось лицо Людвига; оно то виделось отчетливо, то расплывалось.
Баварский монарх схватил меня за руки, его губы шевелились быстро-быстро, и поначалу я не могла разобрать ни слова. Он весь дрожал и хватал воздух ртом, словно рыба на высыхающем речном дне. Морщины на его лице углубились, выглядел он каким-то высохшим и бледным, как покойник. Казалось, дотронься до него – и он окажется холодным, будто труп.
– Бог мой, они тебя чуть не убили! – восклицал Людвиг снова и снова.
Потом он что-то лепетал о республиканских заговорах, о министрах, подрывающих его власть, но смысл слов до меня едва доходил. Его пальцы цепко хватали меня за руку выше локтя, глаза тревожно всматривались в лицо. «Хоть бы они все ушли! – думала я. – Оставили бы меня в покое». Обняв Зампу, я зарылась лицом в ее шелковистую шерстку, а она принялась лизать меня в нос. Закрыв глаза я слушала как бьется ее крошечное сердечко. Если как следует сосредоточиться, вдруг удастся сделать так, что Людвиг исчезнет вместе со своей бесконечной болтовней.
Ночью я спала урывками, то и дело просыпаясь, а утром меня разбудили громкие вопли под самыми окнами, как будто за стенами особняка рыскал какой-то громадный прожорливый зверь. Огонь в камине погас, шторы были задернуты. Я позвонила, однако никто не явился на зов. Меня окатило холодом: а что, если я осталась совсем одна, и меня куда-то несет в чужом, враждебном мире? Я натянула платье, а избитое тело стонало каждой мышцей и косточкой. Шагая по пустым коридорам, я сама себе казалась привидением на покинутом корабле. Окна были закрыты, шторы плотно задернуты, однако рев толпы проникал в дом, эхом гулял по коридорам. Зампа бегала из комнаты в комнату, виляла хвостом и звонко лаяла. Напряжение и тревога стискивали мне грудь и горло, мешая дышать. На втором этаже я осторожно выглянула в окно – и тут же поклялась себе, что больше этого делать не стану. Барерштрассе бурлила, забитая народом; вокруг моего дома стоял полицейский кордон, однако толпа неотвратимо напирала. Ясно было, что кордон долго не продержится.
В гостиной я обнаружила записку от Людвига: он сообщал, что, к сожалению, вынужден вернуться во дворец. В кухне я нашла горстку оставшихся в доме слуг. Они сгрудились у печки; когда я попыталась отдать какие-то распоряжения, они лишь тупо на меня глядели, явно не понимая, чего от них хотят.
– Не беспокойтесь, – пробормотала я, поняв, что толку не добиться. – Я могу и сама это сделать.
Каждый час прибывал посланец с новостями. Людвиг распустил правительство, отправил в отставку всех министров. Студентов университета, которые не являются постоянными жителями Мюнхена, выселяют; им дано сорок восемь часов на то, чтобы покинуть город. Солдаты патрулируют улицы; вооруженная полиция охраняет королевский дворец.
Время растянулось, затем странным образом сжалось. Пришла ночь, следом наступило утро. День застал меня в гостиной, за плотно закрытыми шторами, в слабом островке желтого света от единственной масляной лампы. Я не знала, сколько часов так вот сижу, понятия не имела, сколько дней не покидала дом. Болели каждая мышца и косточка, даже кожа как будто была содрана, и все тело казалось сплошной ссадиной. К тому же его покрывали бог весть откуда взявшиеся синяки; на щеке тоже разлился лиловатый кровоподтек. Когда я последний раз ходила искать кого-нибудь из слуг, то обнаружила, что все они исчезли, я в доме одна, а вокруг вздымаются стены необитаемых и как будто бесконечных комнат.








