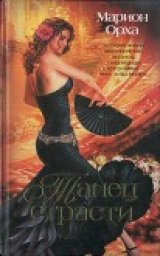
Текст книги "Танец страсти"
Автор книги: Марион Орха
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Как по-вашему: кто я? – спросила я у него. – Существо, подчиненное разуму или желаниям?
При взгляде на его нежные, почти девичьи, губы мне хотелось поцеловать их, попробовать каждую на вкус, кончиком языка провести по зубам. В камине догорали угли; часы на каминной полке пробили три.
Лист поднес мою руку к губам.
– На этот вопрос есть лишь один ответ, однако выбор за вами.
Он подсыпал в камин угля, а я расстелила на полу плед из шиншиллы. Он целовал мне уши. Я кончиками пальцев перебирала его волосы. Он расстегнул мне платье; я стащила с него блузу. На горле я ощущала его дыхание; под пальцами билась кровь в его жилах. Я тихонько коснулась губами его губ; он провел кончиком языка мне по губам, заставил их приоткрыть. Очутившись в его объятиях, я как будто погрузилась в озеро жидкого света. Мы ввалились в спальню, то и дело натыкаясь на мебель, которую я в спешке перетащила туда из гостиной.
На следующее утро мы уехали в Лейпциг, а оттуда – в Дрезден. Поскольку Лист оплачивал счета, я на время перестала тревожиться о деньгах – и быстро договорилась о выступлениях во всех ведущих театрах. Драгоценности в шкатулке остались целы, и я начала копить средства для поездки в Париж. (Тут вся хитрость в том, чтобы создать впечатление, будто в деньгах вовсе не нуждаешься. Потому что стоит лишь окружающим почуять твое отчаяние – и все, можешь ложиться помирать в придорожную канаву.)
Каждое утро мы с Ференцем просыпались в номере роскошного отеля, на кровати с балдахином; простыни были смяты, мы и во сне обнимали друг друга. Каждый вечер он играл для восторженного зала, а я танцевала в придворном театре. Днем, когда Ференц упражнялся в игре, я укладывалась под фортепьяно и подолгу лежала, окутанная звуками музыки. Порой я сама пела ему испанскую народную песню или наигрывала на гитаре какой-нибудь танец. Влюбленные, порывистые, полные творческих идей, вдохновленные собственной любовью – мы как будто сошли со страниц одной книги; Ференц был моим companero[40], моим братом, моим близнецом. Не прошло и недели, как он уже твердо вознамерился побывать в Испании. Ференц сочинял бесчисленные вариации испанских песен, а я принялась составлять маршрут путешествия, желая непременно посетить свои любимые места.
Впрочем, через полмесяца мой восторг стал потихоньку выдыхаться. Хоть и гениальный композитор, Лист был человеком слабым. Искры, порождавшие страсть и вдохновение, проскакивали между нами очень недолго – и вскоре начали затухать. Те самые качества, которые поначалу казались нам привлекательными друг в друге, стали вызывать раздражение. А золотистый свет, который источал Лист, легко можно было принять за обыкновенное самодовольство.
Однажды я прервала его игру на фортепьяно, и он в раздражении велел мне уйти из комнаты.
– Я не потерплю тиранию! – вскричала я.
А он в ответ рассмеялся и вытолкал меня за дверь.
– Я требую, чтобы со мной обращались как с равной, – заявила я. – В ином случае я лучше останусь одна сама по себе.
– Мне равна только музыка, – ответил он.
В гневе, я с грохотом захлопнула дверь и выбежала из гостиницы.
Лист начал проводить за игрой долгие часы, с утра до самого вечера, и я чувствовала себя глубоко обиженной. Порой я становилась рядом в изящной позе, облокотившись о фортепьяно, и пыталась соблазнить еще недавно пылко влюбленного Листа. Но как-то раз я прошла через комнату нагая, а он даже не заметил. И я поняла, что настала пора с ним расстаться.
Лист провел в Дрездене пять недель, и его программа концертов была исчерпана; теперь его ждали в Северной Пруссии. Я же направлялась в Париж. Бумажник мой опять приятно и обнадеживающе раздулся, и я посчитала, что средств хватит до поры, пока я не устроюсь в театр и начну получать регулярное жалованье.
В последнее утро, что провели вместе, мы заказали завтрак в постель. Смакуя кофе с маковым пирогом, мы обменялись подарками. Я вручила Листу сборник испанских песен и нарисованную от руки карту Испании; в ответ получила набор серебряных струн для гитары и несколько писем к влиятельным парижанам.
Среди писем, адресованных критикам и журналистам, я нашла один незаклеенный конверт, на котором значилось имя сочинителя Александра Дюма. Лист улыбнулся:
– Потом прочтешь.
Снова сделавшись центром своей собственной вселенной, я ощутила невероятное облегчение. Карета со стуком катилась по мощеным улицам, а я принялась раскладывать вещи на сиденьях и в конце концов заняла ими все свободное место. На окраине Дрездена я увидела худенькую девчушку в разваливающихся деревянных сабо, которая продавала палочки из солодового сахара. Мне вспомнилась другая девчонка в Бате – такая же худенькая, со слезящимися глазами, – которая якобы продавала крошечные букетики цветов, а на самом деле торговала совсем другим. Велев кучеру остановиться, я купила одну сладкую палочку, а затем высыпала в грязную ладошку горсть серебряных талеров. Уезжая, я оглянулась. Глаза у девчушки сияли от изумления и радости. Быть может, это доброе дело мне зачтется? Посасывая липкую оранжевую палочку, я размышляла о будущем. После Санкт-Петербурга Париж был второй культурной столицей Европы. С рекомендательными письмами от Ференца Листа я твердо рассчитывала на успех.
Карета выехала из города, и я наконец открыла конверт, адресованный Александру Дюма.
Глава 27
Рядом со зданием Гранд-опера в Париже на каштанах лопнули первые почки. В самом театре, возле сцены, находился люк, ведущий к мрачному подземному озерцу. Волнуясь перед выступлением, в своей уборной я трепетала, как едва оперившийся птенец на высокой ветке. Все мое будущее зависело от одного-единственного танца: я могла взмыть к небесам на волне успеха, а могла с треском провалиться (оказаться на дне пропасти?). Я поглядела на облупленные, крашенные желтой краской стены, на старое зеркало с осыпающейся амальгамой, на грязный пол в разноцветных пятнах. А ведь я могу сейчас уйти – вот просто подняться и выйти за дверь. За крошечным оконцем виднелись распускающиеся почки на каштановой ветке, ярко зеленели показавшиеся кончики листьев; прямо под ногами – я буквально чувствовала это кожей – сквозь пол поднималась сырость от стылой черной воды подземного озера.
В самый первый день, когда я пришла в театр репетировать выступление, сторож показал мне люк у сцены и позвенел связкой ключей.
– Много лет назад здесь утопилась прима-балерина. Я теперь очень слежу за ключом.
– Бедняжка! – вскричала я. – Господи, зачем она это сделала?
– Потому что поняла: ей никогда не стать воистину великой. – Сторож скорбно покачал головой. – Ну, известно же, что за народ эти танцовщицы.
Сейчас, глядя на себя в старое зеркало, я в тысячный раз поправила костюм. Парижская Гранд-опера – не просто театр, а главный театр мира. Здесь выступала Мари Тальони; на его сцене Фанни Эльслер исполняла свою знаменитую качучу. «Смелее!» – сказала я себе. В театре сегодня аншлаг: даже в проходах поставлены дополнительные стулья.
Когда подняли занавес, зал взорвался восторженными аплодисментами. Я недвижно застыла на середине сцены – пышные серебристые юбки, узкий корсет, кружевная мантилья ниспадает с высокого гребня в волосах. Заиграла скрипка, и я вскинула над головой руки. Защелкали кастаньеты, затем, вторя им, – ритмичные каблуки. Я тихонько закачалась всем телом, представляя себе теплые солнечные лучи, ласкающие кожу, и волшебный аромат цветущих апельсиновых деревьев. Я была женщиной, что танцует для любимого мужа. Я была алой розой, что распускает на заре лепестки. Тело мое изгибалось, руки танцевали, рассекая воздух. В сердце вспыхнул огонь, по жилам покатилась волна желания. Три смелых шага – и я оказалась у самой рампы. Сверкая глазами, положив ладони на покачивающиеся бедра, я бесстрашно скользила по сцене.
Первоначальное радостное волнение зала угасло, зрители сначала притихли, затем начали ерзать в креслах, перешептываться все громче. Расслышав этот невнятный шумок, я сбилась с настроения, встревожилась.
И вдруг с ноги слетела шелковая туфля. Я остановилась, не закончив пируэт. По залу прокатились смешки. Окинув пылающим взглядом партер и ложи, я стремительно нагнулась, подобрала злосчастную туфлю и швырнула ее молодому офицеру, сидевшему в одной из лож. Зал пораженно смолк. С пылающим лицом, не желая сдаваться, я сбросила с ноги вторую туфлю и дотанцевала босиком – шелестя развевающимися юбками, яростно кружа по сцене. Человек десять с отвращением покинули зал. Несколько зрителей поднялись на ноги с криками «Бис!». В эффектном финале я крутанула кистями, взмахнула босой ногой – и поклонилась залу. На сцену упали три жалкие розы, раздались жидкие аплодисменты.
На следующий день пошли всяческие кривотолки. Одна газета писала, что я швырнула офицеру подвязку, другая – что я разделась на сцене догола. Покатилась молва, что мне больше уже никогда не выступать в Гранд-опера. Я, разумеется, возражала; но слухи, как известно, не переспоришь.
Свое огорчение я излила, отправившись в тир с новым другом, Александром Дюма. Еще в Индии один британский сержант научил меня управляться с пистолетом, и стрелок из меня вышел отменный. Стреляя быстро, почти не целясь, я пулями изрешетила центр мишени. Дюма был поражен. На следующий день о моем подвиге написала газета «Ла Пресс», а еще через неделю о нем уже знала вся Европа.
Итак, провал моего выступления в Гранд-опера – не мелкая досадная неудача, а полное фиаско. Вслух яростно это отрицая, в душе я сознавала, что именно так оно и есть. Дело в том, что я – не Эльслер и не Тальони, и ничего с этим не поделаешь. Да разве могу я сравниться с великими балеринами, которые обучались своему искусству с самого раннего детства? И хотя я настойчиво твердила, что мои танцы исполнены истинно испанского духа, я ни за что не рискнула бы выступать перед настоящей испанской аудиторией. Что ж: я метила слишком высоко – придется подыскать себе площадку пониже.
Осенью я обратила внимание на молодого человека с серо-зелеными глазами – Александра Дюжарье, близкого друга Дюма. Он был порывист, стремителен в движениях, остроумен, улыбчив и недурен собой. В свои двадцать лет он уже являлся владельцем «Ла Пресс», самой читаемой парижской газеты. Высокий, худой, темноволосый, с густыми бровями и мужественным подбородком, в салонах французской столицы он был весьма заметен.
Мы с ним были схожи: оба мы, каждый по-своему, сами лепили свою судьбу. В первый раз оказавшись наедине, мы подняли друг за дружку бокалы с шампанским.
– Вы – карьеристка, – улыбнулся Александр.
– А вы – парвеню[41]! – засмеялась я.
Среди прочих многочисленных поклонников Александр выделялся тем, что ухаживал чрезвычайно нежно. Если другие забрасывали меня букетами роскошных роз, то он дарил букетик трогательных фиалок. Однажды он принес одну-единственную маргаритку, в другой раз – лист, от которого осталось лишь тонкое кружево прожилок. Спустя несколько недель после нашего знакомства я переехала в квартиру, соседнюю с квартирой Александра.
Романист Дюма не одобрил поведение друга.
– Разумно ли это? Зачем заводить любовницу, а потом держать ее под боком, точно жену?
В доме 39 по улице Лафит у нас с Александром началась новая жизнь. Мы с ним отлично дополняли друг друга: где я была напориста, он медлил; когда я волновалась, он оставался спокоен. Мне с ним было так хорошо, что впервые за последние полтора года я утратила бдительность и перестала следить за тем, чтобы неизменно оставаться благородной испанкой – донной Монтес. Когда в результате моей беспечности выплыла неприглядная правда, Александр только весело посмеялся. В тот день мы были у меня, отдыхая после обеда; шторы были задернуты, в камине пылал огонь, два бокала мадеры в свете лампы казались полны жидкого янтаря.
– На самом деле я не вдова, – созналась я, – а разведенная жена.
– Да будь у тебя хоть десять мужей, мне было бы все равно, – объявил Александр.
– А в Пруссии меня обвинили в оскорблении действием офицера.
Он широко улыбнулся:
– Ma chere[42], ты этим прославилась.
Я прикусила губу. Затем продолжила:
– Но меня к тому же называют прелюбодейкой и мошенницей.
– Ты – женщина из плоти и крови. Какое же в этом мошенничество?
– Ты знаешь, что меня выгнали из Польши.
Александр схватил меня в объятия и пылко поцеловал в шею.
– Мы печатали об этом статью в «Ла Пресс». Ну, что тут скажешь? Их потеря – моя находка.
Я упорствовала в саморазоблачениях:
– Мой муж – британский капитан и служит в Индии, а вовсе не герой Испании.
– Тогда ничего удивительного, что ты от него ушла.
– Ты не принимаешь меня всерьез! – вспылила я. – Тебе вообще на меня наплевать!
В ответ Александр прижал меня к себе, целуя глаза, кончик носа.
Хотя я рассказала ему все, он поклялся, что его любовь безгранична. Александра даже ничуть не расстроило, что я оказалась не благородной испанкой, а наполовину ирландкой.
– Я люблю тебя, а не страну, где ты родилась.
Я перестала мечтать о будущем; теперь я наслаждалась настоящим – каждым днем, каждым часом. Мне нравилось смотреть на Александра, когда он спал; его длинные темные ресницы лежали на щеках. Я обожала наблюдать, как он – высокий, длинноногий – ловко пробирается в толпе. Когда он, еще полусонный, пил с утра кофе, у меня от нежности щемило сердце. А когда он в кафе, с чувством жестикулируя, рассуждал о политике, мне хотелось протянуть руку и погладить его узкие худые пальцы.
Однажды вновь собравшись в тир, я полагала само собой разумеющимся, что Александр захочет меня сопровождать. Однако он недоуменно спросил:
– С какой стати женщине браться за пистолет и стрелять?
Тут уже в свою очередь удивилась я.
– Я могу за себя постоять; а ты?
– Я не умею стрелять. И надеюсь, мне в жизни не придется это делать.
Взволновавшись, я принялась настаивать, что он непременно должен отправиться со мной в тир. Дуэли в то время случались нередко, особенно среди представителей «четвертого сословия». Я не сомневалась, что рано или поздно владельца популярной газеты вызовут на дуэль.
Когда мы прибыли, народ в тире расступился, пропуская нас. Незадолго до того шел сильный дождь, на земле стояли лужи, и все еще моросило. Пока господа целились, слуги держали над ними большие черные зонты. У одних стрелков были ружья, у других – пистолеты. В большом белом шатре двое сражались на шпагах. В воздухе висели густые клубы порохового дыма, и пахло мокрыми опилками; красно-белые мишени были испещрены следами пуль.
Александр не лгал, говоря, что совсем не умеет стрелять. Если каждый мой выстрел был точен, то Александр попадал в цель один раз из семи, да и то если мишень была в человеческий рост.
– Давай я тебя научу, – предложила я.
Он покачал головой.
– Хотя бы научись фехтовать, – попросила я, не на шутку встревоженная.
Он пожал плечами.
– Если меня вызовут, так тому и быть. Я готов принять неизбежное.
В ту зиму в Париж приехала София – за покупками. Мы с Александром отобедали в ресторане с ней и герцогом Аргилльским, который оказался совладельцем двух каких-то газет. За обедом мужчины много рассуждали об опасностях коммунизма – новой радикальной теории, которая оказывала немалое влияние на умы и в Лондоне, и в Париже. Я с изрядной долей самодовольства улыбнулась сидящей напротив Софии, которая выглядела такой ухоженной и красивой в своем льдисто-голубом шелковом платье с горностаевой оторочкой. У нее дернулся нос – а потом губы расползлись в неудержимой широкой улыбке.
На следующее утро она приехала в гости, и мы поздравили себя с тем, как ладно у нас складывается жизнь. Мы обе покинули рамки почтенного общества, однако же, вопреки всем зловещим предсказаниям, ничего страшного с нами не случилось. В среде художников, писателей и журналистов, с которыми мы общались, не слишком пеклись о нравственности. Мы с моей милой подругой были молоды, желанны и не обременены заботами. О чем еще нам было мечтать?
Расположившись в будуаре, мы с Софией чокнулись бокалами с шампанским. Время было раннее – часы едва пробили полдень, однако нас это не смущало, а шампанское так радостно играло в хрустале.
– Ну, и вот мы в Париже! – объявила София.
– В школе мы это себе представляли иначе. Как ты думаешь, сойдет?
– Более чем, – заверила моя подруга.
– Обе мисс Олдридж гордились бы, услышав, как великолепно мы тут говорим по-французски.
Я шутила, однако София вдруг спросила меня совершенно серьезно:
– Разве ты порой не чувствуешь себя несколько неуверенно?
– Уж не собралась ли ты замуж? – встрепенулась я.
– Об этом, конечно, речь не идет. У Чарльза уже есть жена. Однако замужество – один из способов обеспечить себе будущее. Ты-то как – не собираешься?
– Мне нравится думать, что когда-нибудь мы с Александром, возможно, поженимся.
София удивилась:
– Разве он не католик?
Я пожала плечами.
– В сущности, мы с ним об этом не говорили. Но я уверена, что Александр женился бы на мне, если б мог.
– Вряд ли мать ему бы позволила.
– Это мелочи, – от души улыбнулась я и вновь наполнила бокалы шампанским: – Давай выпьем за чудесное настоящее. За каждое бесценное мгновение!
Наши бокалы зазвенели, соприкоснувшись; София улыбнулась, однако в глазах таилась грусть.
Когда она ушла, я перебрала в памяти то, что мы сказали друг другу. Ну да, конечно, я могла бы спросить Александра насчет женитьбы прямо сейчас. Только зачем? Едва ли эта тема добавит нам радости; а мы и так совершенно счастливы, сказала я себе и решила не портить дело.
Следующей весной меня пригласили в труппу театра «Порт Сен-Мартен». На своей премьере я исполнила жизнерадостную польку, затем – роскошную чувственную мазурку. Зрители пришли в неистовство – они бешено аплодировали, кричали и топали. Сцену завалили цветами; ступить было некуда. Не напрасно я целый год брала уроки у крайне требовательного балетмейстера. Теперь я танцевала с большей четкостью, легкостью и грацией. Зрители оценили это сполна.
После выступления, в уборной, я послала воздушный поцелуй своему отражению в зеркале. Жизнь прекрасна! Вчера мы с Александром отметили устрицами и шампанским наши первые полгода, проведенные вместе. Поскольку я принята в труппу «Порт Сен-Мартен», могу рассчитывать на постоянный заработок. Мне уже вполне осязаемо представлялась долгая счастливая жизнь – словно разматывалась бесконечная шелковая лента, розовая и блестящая.
После окончания спектакля ко мне пришел Александр, желая поздравить с успехом. Я встретила его широкой улыбкой:
– Как мы это дело отметим?
– Извини, – огорошил он, – у меня встреча в «Трех прованских братьях». Деловая.
Моя улыбка померкла, однако я нашлась:
– Тогда я поеду с тобой.
Александр решительно помотал головой.
– Почему это вдруг нет?
– Я запрещаю, – ответил он, чем сильно меня озадачил.
– Если ты можешь встречаться с такой компанией, то и я, разумеется, тоже.
– Ты – выше их всех. Это в последний раз. Обещаю, что больше не оставлю тебя одну.
Делать нечего; пришлось его отпустить. Я понимала, что Александр имел в виду. Пусть репутация у меня скандальная, вовсе ни к чему вдобавок пятнать ее встречей с дамами полусвета. Усевшись к туалетному столику, я задумалась. Вот уже несколько недель подряд Александр какой-то не такой – напряженный, взвинченный, нервный. Что с ним, хотелось бы знать.
На следующий вечер за ужином у Александра так дрожали руки, что он с трудом держал вилку и нож. Я пыталась выспросить, в чем дело, однако он уклонялся от прямых ответов. Обычно он с удовольствием и очень забавно рассказывал о том, как провел без меня время, однако на сей раз был молчалив и мрачен. Когда я в конце концов сама догадалась, что стряслось, он не нашел в себе сил отрицать.
– Я же знала: надо было ехать с тобой! – вскричала я.
Александр налил себе новый бокал коньяку.
– Рано или поздно это все равно бы случилось.
– Ради бога, скажи, кто тебя вызвал, – взмолилась я. – Я не допущу дуэли.
Он насмешливо фыркнул:
– Это каким же образом, позволь спросить?
– Я сама стала бы драться за тебя, если б ты позволил!
Александр потянулся ко мне и обнял.
– Знаю: стала бы. Но этому крещению я должен подвергнуться сам.
Я принялась расспрашивать о подробностях – где должна состояться дуэль, каким оружием будут драться, – и тут он вспылил:
– Оставь меня в покое! Поговорим об этом с утра.
Привстав на цыпочки, я поцеловала его, желая спокойной ночи. Страшно не хотелось его отпускать. Он прижал меня к себе, погладил по волосам.
– Поверь: тут не о чем беспокоиться.
Наутро я проснулась в шесть часов. В семь я послала ему записку. В ожидании ответа подошла к окну. Ночью обильно сыпал снег, укутав землю чистейшим белым покрывалом. Мир казался неподвижным, спокойным. Несколько снежинок опустились, кружась, с неба, неслышно легли на подоконник. Наконец в дверь постучали. Я кинулась в коридор, ожидая увидеть Александра; однако мне вручил письмо его камердинер.
Вскрыв печать, я вдруг услыхала шум снаружи и снова кинулась к окну. По улице уезжала прочь карета моего любимого. На девственно-белом снегу остались темные следы колес и конских копыт.
Я пробежала глазами письмо. Рука, писавшая его, несомненно дрожала, скупые строчки на листе шли вкривь и вкось. «Я еду драться на пистолетах, – писал Александр. – В десять часов все закончится, и я примчусь тебя обнять, если только не…» Письмо выпало у меня из рук.
– Боже, помоги ему!
Я заметалась по городу, стучась во все двери, однако никто из знакомых не знал, где должна состояться дуэль. Дюма, близкий друг моего Александра, и тот покачал головой.
– Во имя милосердия, скажите! – умоляла я.
– Такие дела должны идти естественным чередом, – упорствовал он.
– Хотя бы скажите, кто его противник.
Дюма не желал говорить. Однако я не уехала, пока не добилась хотя бы имени. Оказалось, что это некто Боваллон, театральный критик из «Глоб». В ту ночь, когда Александр поехал без меня в «Три прованских брата», они поссорились из-за карточного долга. Боваллон, известный своей меткостью в стрельбе из пистолета, бросил Александру вызов.
– Господи, – вскричала я в полном отчаянии, – Александр пропал!
В доме 39 по улице Лафит я вновь и вновь перечитывала его письмо. Когда церковные колокола прозвонили десять часов – в это время Александр с Боваллоном должны были стреляться, – я схватилась за сердце. Одиннадцать часов, затем двенадцать. Никаких известей. Я не находила себе места, бесконечно металась по комнатам. Я буквально видела, как противники поворачиваются друг к другу лицом, как один поднимает руку с пистолетом, затем другой. Один остается стоять неподвижно, другой падает на землю. Я отчетливо все это видела; слишком отчетливо. Я зажимала ладонями уши, зажмуривала глаза, но страшное видение не отступало.
В половине первого на улице послышался цокот копыт. Карета въехала во двор, а я сбежала по лестнице вниз и распахнула дверцу. Безжизненное тело Александра повалилось мне на руки; пальто было мокрым от растаявшего снега. Глянув на его лицо, я завыла в голос. Изо рта текла кровь: пуля вошла в щеку, оставив рваную кровавую дыру. Я прижалась лбом к его лбу; он был очень холодный. Я не желала отпускать Александра; его друзья силой оторвали меня от него.
Я так и осталась посреди двора, безнадежно и бесполезно вытянув перед собой руки. Платье было в крови, по щекам неудержимо текли слезы. Единственный мужчина, кого я по-настоящему любила, был мертв…
Я позволила увести себя наверх, в квартиру, но когда горничная стала уговаривать меня раздеться, я вцепилась в окровавленное платье. Потом начала кричать, рвать одежду, и она послала за врачом. Он заставил меня выпить опийной настойки, и спустя несколько минут я просто-напросто рухнула на пол. Не прошло и часа, как явились следователи по делу об убийстве Александра Дюжарье.
– Он мертв, мертв! – плакала я.
В церкви, во время заупокойной службы, ни мать Александра, ни его сестры даже не взглянули в мою сторону. Когда служба закончилась, Дюма попросил меня – ради семьи Александра – не присутствовать на похоронах. Стоя на ступенях лестницы, я беспомощно смотрела, как четыре белых коня увозят гроб.
Боваллона судили, и меня вызвали в суд как свидетеля. Я прятала лицо за черной вуалью и куталась в длинную черную шаль. Когда меня стали спрашивать об обстоятельствах, приведших к дуэли, я закричала:
– Я бы заняла его место!
Публика нервно засмеялась, однако смех быстро утих: я имела в виду именно то, что сказала, и все это поняли. Я кивнула на Боваллона:
– Если бы стреляла я, этот господин был бы мертв.
Я глядела на него в упор, и в конце концов Боваллон отвел взгляд. Пока не дошло до дуэли, он в течение нескольких месяцев пытался склонить меня к тому, чтобы я с ним переспала, и полагал, что рано или поздно непременно добьется своего. Я же попросту над ним смеялась. И Александру не стала рассказывать, боясь, как бы он не вообразил, будто я сама подала Боваллону надежду. А теперь, из-за того что я не приняла этого мерзавца всерьез, Александр был мертв.
Пуля Боваллона не только убила моего любимого – она чуть не погубила мою карьеру. Разве могла я танцевать, когда вся, казалось, состояла из тяжелых, едко-соленых слез? Через десять дней после похорон меня уволили из театра. Александр оставил мне семнадцать акций в каком-то предприятии, но на жизнь этого никак не хватало. Переехав в дешевую гостиницу, я пыталась избегать встреч со своими кредиторами и все больше зависела от доброты и участия друзей, которых становилось все меньше.
Среди тех, кто от меня отвернулся, был и Александр Дюма. Горюя о погибшем друге, он пустил в обиход новое выражение – «роковая женщина», утверждая, что дуэль произошла именно из-за меня. Я отчаянно нуждалась в деньгах. Когда один из почитателей предложил мне поездку по курортам с минеральными водами – сначала в Бельгии, затем в Германии, – я согласилась.
В день отъезда из Парижа я приехала на кладбище. Стояло чудесное весеннее утро, воздух был чист и свеж. Стоя у могилы Александра, я вспоминала наш с ним последний вечер, его дрожащие руки, его фатализм и то, как он прижимал меня к себе, прощаясь. Мы пробыли вместе чуть больше полугода – шесть месяцев со времени нашей первой встречи, первого робкого поцелуя. Я вспомнила, как впервые проснулась рядом с Александром, как смотрела на него, сладко спящего. Неужели все хорошее должно быть отобрано, разрушено, убито? Пожалуй, Дюма прав: моя любовь несет в себе проклятие. Я положила на могильную плиту белую розу. А потом, с сухими глазами и сердцем, готовым рассыпаться на мелкие осколки, я распрощалась с Парижем.
Глава 28
После гибели Александра я непрерывно куда-то ехала, меняя спутников почти столь же часто, как экипажи. Рекомендательные письма мне больше не требовались; часто даже не приходилось называть свое имя. Меня узнавали по черной мантилье и трем красным камелиям в волосах. Я по-прежнему называла себя танцовщицей, однако нередко отменяла выступления, а то и вовсе разрывала контракт. Я стала похожа на озерцо, которое вычерпали до дна, не оставив ни капли прозрачной живой воды. Я как будто вообще разучилась танцевать – сердце билось медленно и вяло, руки и ноги одеревенели, пальцы превратились в нелепые придатки, которые с трудом шевелились. Ну как тут воспевать радость жизни, восторг любви? Едва вкусив недолгого счастья, я потеряла его из-за страшной в своей нелепости дуэли. Да, я могла бы исполнять танец скорби – умирая на сцене от горя и бессильной ярости, да только кто стал бы платить за такое зрелище деньги?
Из Остенде я поехала в Гейдельберг, затем – в Гамбург. Из Штутгарта двинулась через Баварию; вдалеке сияли снежными вершинами Альпы. Глядя на них, я вспоминала индийские Гималаи. Шесть лет назад я уехала от мужа, не имея ни малейшего представления о том, что меня ждет впереди. Я попыталась вспомнить, какая я была в то время, однако не сумела, а в памяти живо вставала бедная Эвелина: она плакала в своей гостиной, а мальчишка-индус как ни в чем не бывало приводил в движение опахала под потолком, и ветер разносил бумаги по всей комнате. Пожалуй, если вкус к актерству не присущ мне от рождения, а был благоприобретен, то произошло это в Северной Индии. Когда за мной постоянно наблюдали слуги в доме, легче было изображать человека, которого все хотели видеть. Эвелина была честно, искренне и трогательно сама собой; пытаясь воскресить в памяти миссис Элизу Джеймс, я видела лишь пустую оболочку, а не живого человека. Не удивительно, что я сбежала.
В первый день своего пребывания в Мюнхене я неторопливо прогуливалась по улице со своей крохотной белой собачкой по имени Зампа. Стоял октябрь, дул резкий ветер, от которого зябли пальцы. Кругом, куда ни глянь, черные одежды священников и монахов; чуть не на каждом углу – церковь, монастырь или церковная школа. Не успела я выйти из своей гостиницы, как люди начали меня узнавать. Две дамы демонстративно перешли на другую сторону улицы, стайка мальчишек выкрикивала мне вслед непристойности, какой-то мужчина схватил меня за руку, другой громко прошептал мое имя, сообщая его спутнику.
Я рассердилась, затем принялась нарочито покачивать бедрами на ходу.
– Ну что, как Мюнхен пахнет – лучше, чем выглядит? – поинтересовалась я у Зампы, которая обнюхала дерево, столб, еще один столб. – Может, нам лучше попытать счастья в Австрии? Говорят, Вена – вторая столица Европы.
За спиной я услышала торопливые шаги.
– Фрейлейн Монтес! – окликнул запыхавшийся мужчина. – Я хотел бы с вами поговорить.
Вокруг меня вечно вились журналисты. Стоило приехать в город, как тут же газеты живописали мою биографию. Во время суда над Боваллоном было зачитано письмо Александра, из которого явно следовало, что мы с ним были любовниками; затем оно широко цитировалось по всей Европе. В газетных статьях мною либо восхищались, либо жестоко клеймили. Поклонники уверяли, что охвачены страстью, обожжены моим прикосновением, растоптаны шелковыми туфлями. Женщины с упоением читали о моих подвигах, вслух при этом громко возмущаясь. Авторы не самых глупых статей вопрошали: что станется с миром, если женский пол начнет поступать согласно своим порывам и желаниям? Что до меня самой, то внимание прессы меня поддерживало, питало и вдохновляло.
– С какой целью вы прибыли в Мюнхен? – спросил догнавший меня журналист.
– Чтобы наделать шуму, – ответила я с улыбкой.
– Вы будете танцевать?
– Только если на этом будет настаивать сам король!
Я вырезала из газет все посвященные мне статьи – как хвалебные, так и ругательные – и хранила их в двух красивых альбомах, обтянутых красной и синей замшей. Когда на душе становилось тоскливо, я листала эти альбомы, чтобы подбодрить себя либо подготовиться к борьбе с окружающим миром.








