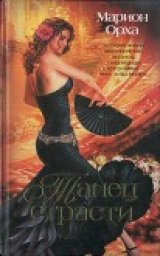
Текст книги "Танец страсти"
Автор книги: Марион Орха
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
На столе передо мной стоял пузырек синего стекла. Порой я брала его в руки, а затем, подержав, ставила обратно. Сквозь толстое стекло внутри дразняще поблескивала густая тягучая жидкость – настойка опия. Доза эта была смертельна. Я приобрела пузырек в Париже, после того как Александра убили на дуэли. С той самой поры синяя бутылочка так и ездила со мной с места на место. А сейчас я с самого раннего утра сидела у стола, размышляя.
Когда угасли последние лучи дневного света и сгустились ранние зимние сумерки, я в очередной раз поглядела на синий пузырек. Теперь это уже вопрос времени. Последний гонец, который принес новости, ввалился в дом с кровавой раной на голове. Королевская семья – пленники во дворце; полиция утратила контроль над городом; тысячи людей перекрыли всякое движение на улицах. У меня в доме из еды осталось немного: тарелка с марципанами, жареная утиная ножка и полупустая бутылка шампанского. Все это стояло рядом на подносе, однако я к еде не притрагивалась.
Без особой охоты я потянулась за марципаном, однако стоило лишь попытаться откусить твердый сладкий кусочек, как челюсть пронзило болью. Тогда я положила на пол утиную ножку и стала смотреть, как голодная Зампа отрывает от нее кусок за куском. Если толпа до меня доберется, порвет на части с точно таким же жадным удовольствием. Поднеся к губам бутылку, я сделала осторожный глоточек. Шампанское давно степлилось и выдохлось, а больная челюсть тут же снова дала себя знать.
Снаружи крики сделались еще громче, что-то тяжко ударилось во входную дверь. Я взяла пузырек с опием, вынула пробку.
Пусть ворвутся и найдут меня мертвой.
Густой дух морфия поплыл в воздухе, соблазняя: «Выпей!» Глубоко вдохнув, я представила себе, как засыпаю вечным, беспробудным сном. Да и кто, в конце-то концов, обо мне пожалеет? Людвиг, мать, миссис Ри? Для каждого из них, несомненно, горе будет подкрашено чувством облегчения. Те двое мужчин – единственные, кто по-настоящему меня любил, – Александр и майор Крейги, уже мертвы. Я подумала обо всех тех, кто печально или с неодобрением покачает головой и скажет, что я уже много лет назад сама выбрала свою судьбу: Томас, Джордж, Эллен. Ференц Лист мог бы поднять в мою честь кособокий бокал. Одна школьная подруга – София – пролила бы искреннюю слезу.
Зампа вдруг залаяла, ухватила зубами подол и настойчиво потянула. Снаружи в окна летели камни. Я посмотрела на свою крошечную, нежно любимую собачку, с ее длинной шелковистой шерстью и доверчиво глядящими глазами. Она приехала сюда со мной из самого Парижа; я не могла бросить ее на произвол судьбы. Аккуратно заткнув пробкой синий пузырек с опием, я сунула бутылочку в карман платья и вслед за Зампой двинулась вверх по лестнице.
На втором этаже я открыла стеклянные двери и вышла на балкон. Передо мной лежала запруженная народом Барерштрассе. Глядя вниз, на поднятые лица, я ощутила, как что-то внутри меня покачнулось, заскользило – и хрустнуло, сломавшись. Если очень-очень хорошо сосредоточиться, то рев толпы я превращу в аплодисменты. В ту минуту я стала маленькой девчушкой, которая танцевала для Ситы, моей индийской няни. Я стала школьницей, разучивающей вдвоем с Софией вальс. Затем – танцовщицей на сцене, перед полным залом. Наверное, так чувствует себя королева, глядя сверху вниз на своих подданных, подумалось мне. Мир вокруг заколыхался, поплыл; ревущая людская толпа качнулась вперед, охраняющие дом полицейские принялись отталкивать народ обратно, а у меня возникло совершенно нереальное чувство, будто я присутствую на каком-то турнире или маскарадном шествии, что устроено исключительно в мою честь. Сунув руку в карман, я нащупала бутылочку с опием; стекло холодило кожу. Другой рукой я подняла пустой бокал в печальном приветствии, затем насмешливо поклонилась толпе.
Народ осатанел. Грянул такой мощный вопль, что меня буквально отбросило с балкона, я ударилась спиной в стеклянные двери.
– Raus mit Lola![52] – орали внизу. – Да здравствует республика, долой шлюху!
Крепче сжав флакончик в кармане, я поглядела в раскинувшееся над городом темно-синее вечернее небо. Далеко-далеко внизу люди сновали, будто крошечные кукольные фигурки на доске; мятежники пытались прорваться в ворота, полицейские отбивались штыками. Затем солдаты открыли огонь, в воздухе поплыл пороховой дым. На неверных ногах я ушла в дом, затворив стеклянные двери; в них тут же что-то ударилось, дождем посыпались осколки. Спустя час пришло последнее известие от Людвига: он просил меня срочно бежать из страны.
На следующий день я очнулась от какого-то странного забытья и обнаружила, что нахожусь в незнакомой убогой комнатенке на чердаке. Я сидела, забившись в угол, скорчившись, прижав колени к подбородку, а в груди громко бухало сердце. В полутьме я огляделась. Голые доски пола, узенькая кровать под линялым покрывалом, на стенке – крючок, на котором висит черное платье Сусанны и ее белый фартук. На полу почему-то валяется мой лакированный веер, привезенный из Испании. Шум и крики на улице были так сильны, что могло показаться: я угодила в пасть к какому-то огромному чудовищу, которое беспрерывно ревет. Между полом и плотно задернутыми занавесками просачивались тонкие ниточки дневного света. С великой осторожностью выглянув в окно, я увидела, что на улице идет пальба, есть раненые, какую-то девушку ненароком зашибли камнем, и она упала прямо под ноги толпе. На чугунные кованые ворота взобрался угольщик, потряс в воздухе веревочной петлей, и толпа одобрительно взвыла. Отшатнувшись, я тяжко осела на пол.
На шее у меня и так уже виднелось кольцо лилово-желтых синяков – память о поисках Зампы, когда я в последний раз решилась покинуть свой особняк. Тело опухло, кожа натянулась, и я болезненно вздрагивала от малейшего прикосновения.
Однажды мне довелось видеть, как вешали преступника. Когда он закачался в петле, его кишечник и мочевой пузырь опорожнились, а язык вывалился изо рта – огромный, вздувшийся, темный.
Одной рукой поглаживая горло, другой я потянулась к пистолету, который лежал рядом на полу. Оглушительный шум снаружи отзывался в доме, точно рев урагана, даже стены дрожали. В животе что-то сжалось в тугой комок; я была не в силах шевельнуться. От страха онемели пальцы рук и ног, потом вдруг отчаянно зачесались уши, затем – нос. Я не могла оторвать взгляд от досок пола. Я прислушивалась, пытаясь уловить какие-нибудь звуки в доме – стон лестничных ступеней под тяжелыми шагами, скрип открываемой двери. Перепуганная Зампа жалась к ногам и скулила.
Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре. Две пары босых, не слишком чистых ног шагали по голым доскам чердачной комнатки: одна пара – большая, другая – совсем крохотная. Брайди учила меня ходить. Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре. Четыре босые ноги шлепали по полу, от одной стены нашей комнатенки до другой, затем обратно. Я очень старалась не упасть. Большая теплая ладонь Брайди крепко сжимала мою ладошку; только она меня и держала. Стоило Брайди выпустить мою руку, как я шаталась и падала. Раз, два, три, четыре; раз, два, три, четыре. Сквозь рев толпы и выстрелы, сквозь плач Зампы мне чудился топоток босых ног, и я невольно скользила взглядом по полу от стены к стене, а затем обратно.
Повести вроде моей всегда оканчиваются трагически; печальные исходы можно встретить в дешевом романе или в душещипательной газетной статье. Мне послышался звук разлетающейся в щепы двери, потом я услышала свой собственный истерический смех. Безумие какое-то! И вдруг, совершенно неожиданно, я поняла, что надо делать. И впрямь: что мне терять? Жизнь, дом, драгоценности? Какое они имеют значение? Какое значение имеет хоть что-нибудь?!
Едва ступив за порог, я с жадностью глотнула свежего морозного воздуха. Было утро, легкая туманная дымка поблескивала в первых осторожных лучах солнца. Вдалеке виднелись снежные вершины гор, кольцом окружавших Мюнхен. За воротами толкали друг дружку, пытаясь пробиться ближе, благородные господа, ломовые извозчики и кузнецы. На каменных плитах виднелись лужицы запекшейся крови. Куда ни глянь, всюду – злые лица, разинутые в крике рты, вскинутые над головой кулаки.
Из-за ограды полетели вывернутые из мостовой булыжники. Мальчишки полезли через ограду.
– Raus mit Lola! – хором орали в толпе.
– Смерть испанке! Смерть шлюхе!
С пистолетом в руке я прошла от входных дверей к фонтану во дворе, поднялась по его мраморным ступенькам.
– Вот я. Убейте, коли посмеете!
Толпа чуть притихла, уставилась на меня. Я с вызовом глядела на них. Бросила с насмешкой:
– Ну, давайте зверствуйте!
Море лиц, искаженных ревностью, отвращением, яростью.
– Чего ждете?! – завопила я пронзительно.
Полетел один камень, затем другой. Мимо.
– Промазали!
Следующий камень попал в плечо; еще один царапнул щеку. Вскинув пистолет, я прицелилась в угольщика, который сжимал веревку с петлей на конце. Он стоял так близко, что я отчетливо видела, как он дышит. А еще я видела нацеленные дула мушкетов, зажатые в кулаках булыжники, качающуюся петлю. Значит, вот как окончится моя жизнь: бьющие в лицо камни, чьи-то руки, рвущие на мне юбки, сотня топчущих меня ног…
Я тщательнее прицелилась, в последний раз глубоко вздохнула и спустила курок. И в тот же миг меня что-то ударило, я опрокинулась назад, пуля ушла в воздух. Я ощутила, что падаю в чернильную мглу. Попыталась вырваться, однако меня что-то душило, невозможно было вздохнуть. Сверху навалились густые черные тени, и я почти с облегчением подумала: скоро это закончится. Больше уже ничто не причинит боль. Борьба наконец завершится. Меня окутала темнота, накрыла тяжелым плащом, не давая шевелиться, не позволяя дышать.
Глава 34
К тому времени, когда я наконец выпуталась из вонючей конской попоны, в которую меня плотно завернули, решение уже было принято – не мной, а за меня. Военные офицеры похитили меня на глазах у толпы на Барерштрассе и кинули в ожидающий экипаж. Когда мы мчались прочь из Мюнхена, по окраинам города, мне вручили конверт с билетом на пароход и документами. Несомненно, Людвиг спас мне жизнь; однако он уступил давлению и изгнал меня из страны навсегда. Мог бы и вовсе не утруждаться, оставил бы толпе на растерзание. У причала на берегу Констанского озера ожидал моего прибытия пароход, названный в честь короля.
День был серый, бесконечно-унылый, дождливый. Хотя время едва перевалило за полдень, уже темнело. Ступив на сходни, я приостановилась, глядя на ледяные волны, плещущиеся у борта. Двое сопровождавших офицеров вздумали было взять меня под локоть и направить дальше, однако я не позволила себя подталкивать и потребовала, чтобы мне еще раз показали бумаги. Высылают. Меня высылают! Слезы навернулись на глаза. Нет, это не ужасная ошибка: вот, внизу страницы, стоит отчетливая подпись Людвига. А чтобы я ни минуты не сомневалась, он вдобавок вложил письмо, в котором указывал, чтобы я ожидала его в Швейцарии. Я глянула на широкую свинцовую гладь озера. Вдалеке белели снежные вершины Швейцарских Альп. Дождь леденил мне щеки, пронзительный ветер вздувал юбки.
Невзирая на мои мольбы, бедняжка Зампа, платья и драгоценности остались в Мюнхене. Со мной был один только маленький потертый саквояж, с которым я путешествовала с самого детства. В нем лежала единственная смена одежды, дневники – всего три из многих тетрадей, а также драгоценная брошь в виде экзотической бабочки и кольцо с красным поддельным камнем.
Пароход отвалил от причала, где стояла молчаливая кучка зевак. Мужчины сняли шапки, одна из женщин перекрестилась. В каюте я разложила на койке свое скудное имущество, затем скинула свою пропахшую потом, с ошметками налипшей грязи одежду. Осторожно присела на краешек койки – обнаженная, напуганная и одинокая. В душе ныла горькая обида, я ощущала себя всеми покинутой и совершенно беззащитной.
В Швейцарии я поселилась в пришедшем в запустение бывшем дворце императрицы Жозефины; ютилась я там среди поломанной мебели и пыльных, отсыревших мебельных чехлов. Спустя месяц привезли мою любимицу – маленькую Зампу, а еще через две недели в двух окованных железом сундучках прибыли драгоценности. Запершись в спальне, я проверила содержимое сундучков, а потом надела бриллиантовую диадему, ожерелье и браслет, которые подарил Людвиг. Изучая отражение в зеркале, я размышляла о своем положении. Людвиг по-прежнему мне что-то обещал, однако он не мог выехать из Баварии. Малейший слушок о том, что он намеревается меня навестить, тут же вызывал в стране новые волнения.
Обнаружив в шевелюре седой волосок, я поспешно его выдернула. Итак, мне двадцать восемь лет. Разведена. Уже больше двух лет не выступала на сцене. Все мои сценические костюмы, туфли, кастаньеты, гитара, ноты – все осталось в Мюнхене. Семьи у меня нет, а врагов значительно больше, чем друзей. Особняк на Барерштрассе разграблен и разорен. За пределами Баварии у меня нет дохода, нет сбережений, почти нет имущества. Что сталось с моими бесценными сокровищами – с альбомами, куда я вклеивала газетные вырезки, с испанской шалью, с лакированным веером? Я вспомнила свою прекрасную хрустальную лестницу, свою гардеробную, полную красивых платьев, свою ложу в театре. Может, все это было лишь иллюзией? Или просто мечтой? Я на краткий миг узрела богатство и благополучие – и тут же его лишилась.
Вглядываясь в зеркало, я уже не видела в нем танцовщицу, и любовницы короля там тоже не было. На дне собственных глаз мне виделась маленькая растерянная девчушка. Из зеркала глядела Элиза Гилберт, семи лет от роду, которую услали далеко-далеко от дома, и к воротнику пальто приколот лоскуток с ее именем и фамилией. Я сорвала с шеи бриллиантовое ожерелье. Что проку в славе, положении в обществе, богатстве, если в душе я так и осталась этой несчастной брошенной девчонкой? Отвернувшись от зеркала, я швырнула бриллианты в шкатулку и в сердцах захлопнула крышку.
Вспомнилось, как я готовилась уезжать из Англии: преисполненная надежд, я крепко сжимала билет на пароход в Гамбург. А в ушах прозвучали слова Эллен, моей ушлой горничной: «Надувайте народ без меня. Хотите – верьте в собственные выдумки; а я боюсь даже думать, что с вами станется».
Глава 35
В Мюнхене, в тихом тупичке, над лавкой торговца скобяными товарами, помещалась кладовка; к ней вела крутая шаткая лестница, а дверь оказалась чуть-чуть приотворена. Комнатка была забита сундуками и ящиками с ржавыми дверными ручками и петлями, всюду висела паутина и лежала пыль. На ступеньке прислоненной к стене стремянки, так, чтобы удобно было смотреться, стояло треснувшее, с отбитым куском, зеркало. Посреди комнаты, на вбитом в потолок крюке, висел изысканно украшенный бисером костюм танцовщицы.
Серебристая ткань переливалась и поблескивала, пышные юбки ниспадали от узенькой талии, словно лепестки огромного цветка. Белый полупрозрачный чехол был завернут наверх, чтобы можно было свободно любоваться лифом и роскошными юбками. На полу стояли серебристые шелковые туфельки, порядком потертые на пятке и носке. Привязанная серебряной лентой, тут же висела белая мантилья, отделанная серебряным кружевом.
В скудном свете, просачивающемся сквозь крошечное оконце, на ткани играли мелкие искры. Тянущий из двери сквозняк шевелил серебристые юбки, и чудилось, будто лиф расправляется, принимая форму человеческого тела, наполняясь энергией и жизненной силой. В этой унылой, пыльной комнате чудесный костюм таинственным образом ожил, словно в него оделся некто невидимый, словно запечатленные в ткани воспоминания неожиданно возродились в новой, осязаемой форме. Сквозняк принес с собой неуловимую человеческим ухом музыку, и костюм принялся под нее танцевать, колыхаться и струиться складками серебристой материи.
На полу лежали кипы подвергнутых цензуре и запрещенных газет. В некоторых из них все упоминания о Лоле Монтес были полностью вымараны, в других ее имя по-прежнему сияло в заголовках.
На улице, возле скобяной лавки, бывшая горничная Лолы Сусанна бросила кругом себя опасливый взгляд, вытащила из кармана ключ и отперла дверь. У ее ног стоял старый потертый чемоданчик. Прежде чем дом Лолы на Барерштрассе был окончательно разграблен, Сусанне удалось кое-что спасти.
Конец второго акта
ИНТЕРЛЮДИЯ
Революция – штука таинственная, почти алхимическая; она удивительным образом куда-то гонит людей, окрыляет либо лишает их разума, вселяет желание уничтожать все, что попадется на пути. Представьте себе смерч или торнадо; революция подобна им. За одну-единственную ночь смиренная кроткая швея может превратиться в грозную воительницу, измученный до полусмерти шахтер вдруг потребует перемен, а у простой служанки неожиданно поселятся в голове идеи, никак не соответствующие скромному ее положению в обществе. Колесо всенепременно поворачивается; убывающая луна опять прибывает. Танцовщица кружится, колышет воздух – колышет его с каждым поворотом тела, с каждым движением рук.
АКТ III
Сцена девятая
Стопка тетрадей, оклеенных лоскутками
Глава 36
Пьесу «Жизнь Лолы Монтес» впервые играли на сцене Бродвейского театра на Манхэттене. Конечно же, Лола играла саму себя. В конце-то концов, это была ее жизнь. Она лично сочинила и поставила пьесу, сама подбирала костюмы. По ее знаку открывался и закрывался занавес; в одно мгновение она сделалась ведущей актрисой в своем собственном спектакле. Каждый вечер она заново проживала свою прошлую жизнь. Зрительный зал широко простирался, залитый теплым светом свечей в канделябрах, сияющий позолотой и жильчатым мрамором. Из-за кулис на сцену выбегал кордебалет в пышных нарядах; в зале сверкали драгоценностями дамы. На премьеру пришло более трех тысяч человек.
Замерев посреди сцены, Лола чувствовала, как напряженное ожидание в зале растет, как оно превращается в молчаливое, едва сдерживаемое неистовство. Ей не нужно было подогревать зрителей голосом или движением – ей нужно было лишь стоять неподвижно и ждать. В своих пышных юбках и черной мантилье Лола являла зрителям удивительную смесь пылких чувств и сдержанности, первобытных страстей и драматичного напряжения. От нее веяло непокорностью, несогласием, революцией; ощущением порохового дыма и пылающих факелов; восхитительным намеком на то, что прежде невозможное отныне станет возможным.
Лола вскинула над головой кастаньеты. Быстрый деревянный стук раскатился по залу, и зал откликнулся громким вздохом, как будто до сих пор зрители все как один сидели, затаив дыхание.
На американской сцене и вне ее, в театре и на страницах газет Лола была царицей. Ее выступление более не было пикантным дополнением к опере или балету, Лола стала гвоздем программы. Речь больше не шла об одном-двух танцах в антракте: Лола стала актрисой и играла главную роль, и при этом начинала и завершала представление танцем. Все складывалось просто чудесно; в течение одного вечера Лола была и графиней, и танцовщицей.
Через две недели после успешной премьеры она отбросила свой «испанский» акцент и с великой охотой принялась строить собственную жизнь совершенно по-новому. Ей даже начал нравиться собственный, до нелепости странный голос, хотя он по-прежнему неважно звучал со сцены. В Америке, куда съезжались люди из самых разных уголков Европы, не было нужды в истинно испанской «подлинности». В зависимости от настроения Лола объявляла, что в ее жилах течет испанская, ирландская либо шотландская кровь – в различных сочетаниях и пропорциях. Подобно тысячам людей, приехавших в Америку до нее, она ухватилась за возможность начать жизнь с самого начала. Зачем оставаться в неподвижности, если именно движение все меняет? Из хаоса появляется жизнь, застой же приводит к смерти, вызывает медленную томительную скуку. Европа ничего не могла дать сверх того, что дала. Лола же была ненасытна: ей хотелось нового, неизвестного, неоткрытого, ей нужны были новые люди и впечатления. Она жила и видела непрерывный сон о том, какой может быть жизнь – более насыщенной, яркой, сияющей. «Реальность» оказалась чем-то вроде ненужного наследства, она была похожа на бронзовую вазу, которой давно не касалась хозяйская рука; эта реальность требовала, чтобы ее отмыли и как следует начистили, а еще лучше – оставили как есть и позабыли.
В первые несколько дней Лола всюду слышала ирландскую речь. Уроженцы Слайго, Дублина, Вексфорда, Корка. В порту она как-то раз обернулась, заслышав знакомый ирландский выговор, и увидела супругов, которые торговали каштанами и печеными яблоками. Лола шагнула к ним, желая расспросить, откуда они приехали, как вдруг вспомнила, где уже встречала эту пару. В поместье, принадлежащем отцу Томаса Джеймса, двое несчастных тащились по дороге с тележкой, нагруженной скудными пожитками, а за спиной у них пылал дом, из которого их выселили. Та худая изможденная женщина, босая, с диковатым взглядом, отводила глаза. Эта же стояла, уперев руки в пухлые бока, и глядела Лоле прямо в лицо. Лола виновато улыбнулась и двинулась дальше. По пути в гостиницу она вдруг заметила женщину, невероятно похожую на Брайди. Лола чуть не позвала ее, да вовремя придержала язык. Женщина приблизилась, и Лола хорошенько ее рассмотрела: пухлая улыбчивая дама шагала в коричневых башмаках, опираясь на руку преуспевающего торговца. Казалось, в Нью-Йорке полным-полно приезжих ирландцев. В клетчатых жилетах, в шалях из шотландки и в начищенных новых башмаках, эти новоиспеченные американские ирландцы были горды, шумливы и дерзки.
В Америке все было новым, тут каждый словно рождался заново. На этой земле в первую очередь имели значение слова «здесь» и «сейчас». Из Нью-Йорка Лола двинулась по северо-восточным штатам, по пути оттачивая и улучшая свой спектакль. Американским зрителям требовалось нечто, отражающее их собственный опыт и переживания. Поначалу Лола исполняла тирольский танец, баварский народный танец, венгерский чардаш, испанскую качучу, а затем поняла: национальность и происхождение не значат ровным счетом ничего, здесь требуется некое сочетание всего европейского в целом. Америка желала получить нечто вроде картины, которую можно воспроизводить снова и снова, продавая бесчисленные репродукции. Театральные роли игрались и забывались, а один-единственный танец мог вдруг превратиться в эмблему, сделаться символическим. Американцы жаждали чего-то нового, свежего – того, что способно было ошеломить новизной, однако при этом имело глубокие корни.
Лола представила им свой собственный «Танец с пауком». Движения она взяла из олеано – ту самую яростную чечетку, от которой мужчин пробирала дрожь тайного мазохистского удовольствия, а женщины вздрагивали от мысли, что другая женщина, оказывается, может не только чувствовать ярость или презрение, но даже способна показать это другим. Древняя, освященная веками тарантелла получила новое имя и сделалась сенсацией.
Смертельно ядовитый паук заползает в одежду молодой невинной девушки. Страшась за собственную жизнь, она отчаянно трясет юбки, пытаясь избавиться от паука. Наконец он падает наземь, и девушка яростно его топчет. Затем, в порыве бесконечного торжества и облегчения, она радуется спасению.
Это был грубый, первобытный, страстный танец, одновременно незамысловатый и полный скрытого смысла. В Бостоне газеты ратовали за бойкот, в Филадельфии заранее писали, что это зрелище не подходит уважаемым дамам, в Коннектикуте было предъявлено первое обвинение в непристойном поведении, в Пенсильвании несколько джентльменов последовали за своими дамами, которые сочли нужным покинуть зал. Часто Лола танцевала перед аудиторией, состоявшей из одних только мужчин; а в Нью-Орлеане, наоборот, было полно дам, которые засыпали сцену цветами. (Разумеется, женщины этого южного штата, у которых в жилах текла кровь испанцев и креолов, понимали, что такое огонь и страсть, однако речь сейчас не об этом.) Одной из любимых газетных вырезок Лолы была статья, опубликованная в «Альта Калифорния»; ее автор признавал, что непристоен вовсе не «Танец с пауком», а мысли, которые рождаются у зрителя.
«Мадам Монтес вытрясает из юбок паука, не являя взгляду даже лодыжки, не говоря уже о бедре! Вся пикантность зрелища – в догадках о том, что может происходить за закрытыми дверьми. Когда она с таким жаром топчет каблуком упавшего паука, в мыслях моих мелькают самые разные сладострастные и бесстыдные образы. Пусть во Франции арестовывают танцовщиц за исполнение польки! Здесь такого случиться не должно. Если вы забыли, я напомню: мы – американцы, а не европейцы. Следует ли нам запретить выступления мадам Монтес из-за того, что ее танец порождает у нас непристойные мысли, – или же нам следует откровенно признать, что она всего лишь затрагивает мысли и ощущения, которые в нас уже есть? Господа, я предлагаю второе».
Слухи о «Танце с пауком» катились впереди Лолы, газеты писали о ней задолго до ее приезда в тот или иной город. Лола сделалась полной противоположностью, более того – отрицанием женского изящества и утонченности, она стала темной тенью всех кротких и почтенных дам, что тихо склонялись над своим рукоделием. Посмотрев ее выступление, многие мужчины возвращались домой и косо поглядывали на жен: почему у нее так блеснули глаза? Что она хочет сказать этой приподнятой бровью, притаившейся в уголках губ улыбкой? Черт бы все побрал, но порой самая милая любящая супруга кажется слишком уж пылко влюбленной, как будто за ее очаровательной внешностью скрывается куда более сложная, многогранная правда. Бог свидетель: если дело так пойдет и дальше, женщины скоро потребуют себе избирательное право! По всей Америке дамы, с жадностью читавшие газеты, поспешно прятали их за диванные подушки или под рукоделие, услышав за дверью мужские шаги. В будуарах, на кухнях и в подвалах уважаемые хозяйки дома, служанки и белошвейки осторожно приподнимали юбки и пристукивали каблуками, каждая по-своему танцуя бесконечно разнообразный «Танец с пауком».
Лола выступала по всей стране, чуть ли не в каждом городе каждого штата, в больших городских театрах и в дешевых залах над салунами, где полы были посыпаны опилками. В построенном всего три года назад Сан-Франциско, где споры по-прежнему решались оружейной пальбой, ей не раз приходилось пускать в ход свой собственный пистолет и хлыст. В Сакраменто она вызвала публику в зрительном зале на дуэль.
Сакраменто ничем особенно не отличался от других, недавно выстроенных городов на границе продвижения переселенцев, и народ в зале вел себя ненамного шумнее, чем в иных театрах; но когда нескольким так называемым джентльменам хватило наглости поднять на смех «Танец с пауком» и мешать Лоле сосредоточиться, она велела оркестру замолчать и подошла к краю сцены.
– А ну идите сюда! – закричала она, указывая на розовощекого зачинщика; театральный зал был невелик, и нетрудно было рассмотреть, что главные злодеи сидят на лучших местах. – Отдайте мне свои штаны и заберите себе мои юбки; вас нельзя назвать мужчинами!
Публика пораженно смолкла, затем взорвалась смехом.
– Я буду говорить! – выкрикнула Лола.
К сожалению, зал хохотал не только над невежами, но и над ней самой. Вскоре в нее уже летели гнилые яблоки и тухлые яйца. Лола обвела взглядом море мужских лиц; зал дружно развлекался за ее счет.
– Я презираю вас, трусы! – закричала она, перекрывая шум. – И с радостью буду драться с любым, кто посмеет меня оскорбить! Ну-ка, что предлагаете – быть может, хлыст? Или пистолет?
Дирижер испугался и поднял палочку.
Никто не принял вызов Лолы.
Музыканты снова заиграли, выкрики Лолы уже невозможно было расслышать, и тогда она с неохотой заново начала танцевать. Когда на сцену упал букет брошенных роз, Лола раздавила цветы, наступив ногой. При этом смотрела она в зал, глаза гневно сверкали, и было совершенно ясно, кому она выказывает свое презрение. Зал взорвался бешеным ревом и криками, стал бросаться стульями, и Лола поспешно убежала со сцены. Из-за кулис она слышала свист и аплодисменты – того и другого в равной мере. Когда наконец был восстановлен порядок, она станцевала на бис; в зале было поломано немало скамей, а сквозь выбитые окна свистел ветер.
В тот же вечер под окнами гостиницы собралось несколько сот пьяных мужчин, которые сыграли Лоле «серенаду», стуча крышками кастрюль и сковородками. Высунувшись в окно, она потрясла кулаком; они в ответ орали и насмехались.
– Нам не нужна Лола Монтес! – голосили они под грохот посуды.
– Вы – не джентльмены!
– Ты – не леди!
– Приходите в театр завтра, – с вызовом крикнула Лола, – и можете оскорблять меня сколько хотите!
Когда наконец все разбрелись по домам, Лола обессиленно рухнула в кресло с бокалом бренди в руке. Бренди должно было придать ей сил.
– Боже мой! – сокрушенно проговорил импресарио. – Это катастрофа.
– Чепуха! – возразила она. – Сегодняшний скандал стоит больше тысячи долларов, вот увидите.
На следующий вечер зал был забит до отказа, в проходах стояли полицейские. А Лола принесла со сцены извинения публике; получилось очень изящно.
– Я всего лишь бедная беззащитная женщина, которую многие преследуют и обманывают. Простите, дорогие мои американцы; ведь вы столь же свято верите в выражение свободы, как и я; простите, если в запальчивости я не сдержала чувств. Разумеется, не следовало допускать, чтобы меня настолько вывела из себя жалкая горстка смутьянов. Когда я растоптала букет, я поступила так, продолжая древнюю традицию: паука нужно растоптать. Воистину, я никоим образом не желала обидеть или подвергнуть сомнению чувства достойных жителей Сакраменто, которые очень мне дороги. Дамы и господа, если вы желаете, чтобы я для вас танцевала, вам нужно всего лишь об этом сказать.
Зал отозвался громом аплодисментов и одобрительными криками, а потом Лолу дважды вызывали на бис.
До окончания ее выступлений в Сакраменто билеты раскупались все до единого, и больше не случилось никаких неприятностей. Горожанам мужского пола следовало бы испытывать благодарность: ведь на один бесценный вечер Лола освободила их от обязательств рыцарского поведения!
Конечно же, у Лолы бывали минуты задумчивой грусти, когда она размышляла, сомневалась, сожалела. Как любой другой, она порой ощущала себя беспомощной и беззащитной. Выпадали дни, когда она часами сидела без движения в комнате с зашторенными окнами, когда свет резал глаза и даже шепот горничной казался слишком громким и раздражал. Когда не хватало сил покинуть гостиничный номер, улыбнуться шальной улыбкой Лолы Монтес, снова стать Лолой.








