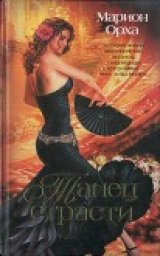
Текст книги "Танец страсти"
Автор книги: Марион Орха
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
А Томас говорил о венчании, как будто оно меня успокоит, умиротворит. Как будто я молчу лишь затем, чтобы заставить его жениться. Мне в ответ хотелось плюнуть ему в лицо. Однако в холодном свете дня было ясно, что выбора у меня нет. Вернуться я не могу. Нравится мне это или нет, Томас теперь – моя единственная семья.
Глава 10
Вечером накануне свадьбы я в последний раз примерила кремовое бальное платье. Увидев себя в зеркале, я едва удержалась от слез. Платье было чудесное, его следовало носить в мире роскошных балов и карет, в мире, где на цивилизованных улицах есть мощеные тротуары. В крошечной церквушке Ратбеггена, где должно состояться наше венчание, это платье будет смотреться просто нелепо. Я вспомнила свои радостные ожидания, надежды и мечты того дня, когда в этом платье появилась на своем первом балу в Бате. Затем я внимательно рассмотрела свое отражение. Пожалуй, теперь я выглядела старше и увереннее в себе. Замужество давало определенные преимущества, да и Томас, если забыть наши конкретные обстоятельства, не такой уж скверный жених. По крайней мере, он еще не стар, не лыс и имеет собственные зубы. Уже много дней, как он нежен и заботлив – помогает сесть в экипаж или выйти из кареты, поддерживает меня под локоть, берет за руку. В конце концов, он мог бы меня просто-напросто бросить, и что бы тогда со мной сталось? Порой, когда он улыбался или рассказывал забавную историю, я вспоминала, почему он в самом начале пришелся мне по душе. Жизнь – ряд грубых пробуждений, но это ведь лучше, чем жить в приснившемся мире, убеждала я себя. Я утерла слезы с глаз, затем аккуратно завернула роскошное бальное платье в бумагу и положила в сундук. Томас прав: надеть скромное платье из овечьей шерсти куда как разумнее; к тому же в нем гораздо теплее.
В день нашего венчания дождь хлестал густыми серыми струями, и мне пришлось бегом бежать от кареты через церковный двор, чтобы не промокнуть до нитки. В самой церкви почти не было цветов, лишь горшок с желтым утесником и белыми хризантемами, которые чаще увидишь на похоронах, чем на свадьбе. Венчал нас брат Томаса; его жена и ребенок были единственными свидетелями. Томас был в своем мундире, а я в синем шерстяном платье, под которое надела шерстяную же сорочку.
Торопливо шагая к алтарю, я вдруг осознала и прочувствовала всю драматичность события. Ведь мы же сбежали вместе, в конце-то концов! Что может быть романтичнее? У алтаря я улыбнулась Томасу, крепко сжала его руку. Викарий бесконечно чихал, и я с трудом подавляла неуместное хихиканье. Поклявшись друг другу в верности, мы с Томасом дрожали от холода в объятиях друг дружки. «Мой муж», – шептала я неслышно, наслаждаясь сочетанием двух коротких слов. Отпраздновали чаем и глазированным бисквитом. Хоть и вышло все очень скромно, я была довольна. Желай я свадьбы с сотней гостей и роскошным угощением, могла бы выйти за судью.
Родовое гнездо моего супруга находилось в Вексфорде, у подножия горы, которая полдня загораживала солнце. Дом был основательный, квадратный и назывался Бэлликристалл, хотя ни на какой кристалл ничуть не походил. Мой свекор был вдовцом; в доме постоянно бывали гости, но в сущности он жил один. Отсутствие хозяйки сказывалось: дом был порядком запущен, повсюду лежала пыль. Куда ни войди, в каждой комнате наткнешься на удочки, ружья, седла, сапоги.
Отовсюду съезжалась новая родня, чтобы поглядеть на супругу Томаса. Меня знакомили с родственниками и местной знатью; нас посетили мировой судья, викарий и даже врач. Порой всерьез казалось: сейчас кто-нибудь начнет осматривать мне зубы. Томас с огромным удовольствием сообщал всем и каждому, что я происхожу из достойной англо-ирландской семьи; я чувствовала, как постепенно вплетаюсь в паутинку местного общества, как меня принимают во взрослую жизнь замужней женщины.
– Это моя жена Элиза, – с гордостью объявлял Томас. – Ее мать из семейства Оливеров в Корке.
Люди кивали, приподнимали брови, обменивались удивленными взглядами.
– Не из тех Оливеров, что живут в замке Оливер?
– Из тех самых, – уверял Томас, сияя. – Дед Элизы по материнской линии – сэр Чарльз Сильвер Оливер.
Викарий крепко сжал мне руку, мировой судья поклонился, доктор погладил усы.
– Вот как оно, – промурлыкал он.
– Сэр Оливер был шерифом Корка, – самодовольно сообщил мой супруг. – Так же, как до него – его отец.
Томас излагал подробно, если гость не был близко знаком с обществом того самого Корка. В таких случаях он испытывал приступы невероятной скромности, и разговор очень быстро переходил на другое. О том, что моя мать – незаконнорожденная, Томас не сообщал, а о сомнительных предках моего отца ни разу не обмолвился ни единым словом.
Жизнь в Бэлликристалле неторопливо проходила в охоте и бесконечных чаепитиях. Женщины в семействе Джеймс были вялые, бледные и скучные, а мужчины готовы стрелять во все, что попадется на глаза. Совершенно не похожи на меня, как будто в наших жилах не текла одна и та же ирландская кровь. Когда мне случалось выезжать на лошади в одиночку, я часто встречала местных крестьян и с некоторым смущением видела, что как раз у них такие же черные волосы и синие глаза, как у меня.
Однажды я чуть не задавила молодую пару, которая шла по проселку навстречу. Мне пришлось натянуть удила и остановить лошадь, потому что они и не подумали отступить в сторону. Оба они были босые, какие-то совершенно дикие. У женщины на голове был платок, мужчина тащил корзину с дерном. У обоих были одинаково густые, блестящие волосы и яркие живые глаза. Они просто стояли и смотрели на меня, и пришлось сказать, чтобы они посторонились и дали проехать. Худые, одетые скверно, чуть ли не в нищенские лохмотья, они при этом казались непомерно гордыми. Пришпорив лошадь, я ускакала, но в душе еще долго жило непонятное беспокойство.
Для окружающих мы с Томасом ничем не отличались от любых других молодоженов. Если я порой впадала в уныние или Томас вел себя чересчур властно, никто ни о чем не спрашивал, не высказывал свое мнение. Между нами стояло воспоминание о той ночи, когда он мной овладел; я ни на минуту не забывала, что мне ничего не остается, кроме как подчиняться – и на людях, и наедине. Пока я была уступчива и послушна, Томас улыбался и был само очарование.
Не прошло и нескольких недель после нашего бегства из Бата, как Томас завел речь о предмете, в котором я оказалась совершенно несведуща. Выяснилось, что любовь и деньги сложным образом связаны друг с другом. Еще до того, как нам пожениться, Томас просил меня написать матери в надежде получить ее согласие. Второе письмо, тоже якобы от меня, намекало, что неплохо бы выделить мне кое-какие деньги. Когда мама отказала в благословении, Томас принялся открыто требовать.
– Твой отчим – майор, черт побери! Уж конечно, они должны дать тебе приданое!
Порой он начинал петь по-другому:
– Сокровище мое, ты привыкла жить в условиях, которых я при всем желании не могу обеспечить. Если б я мог осыпать тебя жемчугами и подарками, я бы так и сделал, ты знаешь. Было бы естественно, если б твои родители выразили желание нам помогать.
Неделя шла за неделей, и я постепенно осваивалась в новой жизни. Становились понятнее разговоры моих золовок и прислуги на кухне. В доме было неспокойно: до моих ушей доносились слухи о том, что скот крадут, на доверенных лиц нападают в дороге, на дверях конюшни появляются записки с угрозами. Однажды я в холле столкнулась с сестрами Томаса, Джейн и Амелией, которые несли поднос с едой в нежилое крыло дома. Я осведомилась, куда и зачем они направляются. Переглянувшись, они позвали меня с собой.
– Сестра, пойми, – сказала Амелия, – нам приходится сносить от мужчин знаки внимания, но некоторые женщины платят страшную цену.
– Приготовься, – добавила Джейн, – познакомиться с Сарой, женой Майкла Джеймса.
Комната Сары находилась в конце коридора, куда, как я думала, никто не заходит. Стоило Амелии открыть дверь, в нос ударила густая вонь. Комната была пропитана смрадом отхожего места. Увидев меня, жена Майкла Джеймса растерялась.
– Не волнуйся, – проговорила Джейн, – это всего лишь молодая жена Томаса.
Сара оказалась маленькой худенькой женщиной с острым личиком и нервными руками. Волосы у нее были светлые, с теплым медовым отливом, парчовое платье – нежного цвета в мелкую полоску. Не будь Сара такой худой, она была бы очень миловидной. Улыбнувшись принужденной вежливой улыбкой, она жестом предложила нам сесть.
– Извините, – сказала она смущенно, – тут ничего не поделаешь.
Пока мы вымученно вели беседу о последней моде в Бате, Сара то и дело проводила рукой по юбкам, приглаживая ткань, словно желала сказать: «Будь моя воля, я бы стерла этот ужасный запах».
– Я люблю своих детей, – призналась она. – Это меня и поддерживает.
– Но зачем же вы прячетесь? – выпалила я, не подумав.
Джейн коснулась моей руки, призывая молчать, Амелия покачала головой.
До сих пор я не имела представления о том, как рождаются дети, и от всей души пожалела, что об этом узнала. Как оказалось, случай с Сарой – далеко не единственный. В сущности, ей повезло, что она осталась жива. Когда она рожала второго ребенка, ее внутренние органы порвались; сколько бы она ни мылась, ее сопровождал запах мочи и испражнений. Муж регулярно присылал деньги, но редко ее навещал. Когда приезжали дети, они тоже очень скоро начинали испытывать отвращение. Бедная Сара жила совсем одна в нескольких пустых комнатах.
Когда мы уже собрались уходить, она схватила меня за руку:
– Томас – хороший человек. Но вам, Элиза, придется научиться всяким штукам, чтобы держать его на расстоянии. Вовсе незачем торопиться с детьми, что бы он ни говорил.
В ту ночь после близости с мужем я принялась особо тщательно мыться в надежде, что удастся смыть риск забеременеть. И ломала голову над словами Сары. Какие такие штуки смогут удержать Томаса на расстоянии? Он сладко спал, а я с силой терла бедра, пока не ссадила кожу.
Не могу сказать, что я была несчастлива с Томасом. Уютно устроившись в постели вечером, в тепле и безопасности под боком у мужа, я утром просыпалась – и он был тут же, и мне по-прежнему было уютно и тепло. Мне доставляли удовольствие семейные мелочи – отряхнуть ему плечи, опереться на его руку, вложить пальцы в его сильную ладонь. Он меня забавлял, удивлял и радовал приятными неожиданностями. Однако я думаю, по прошествии некоторого времени его охватило такое же беспокойство и жажда перемен, как и меня. Дома он был занят только охотой да приемами гостей, и, когда он заговорил о возвращении в Индию, я обрадовалась.
Конечно, я стала чувствовать себя спокойнее, привыкла быть с Томасом на людях. Я даже позволяла себе поддразнивать его, возражать и огрызаться. Однажды мы всей семьей играли в карты; у Томаса на руках был фул[7], и мой муж глядел победителем. Однако я выложила козырного туза и выиграла. Его отец засмеялся, Амелия подавила усмешку. Томас мгновенно пришел в дурное настроение, замкнулся, замолчал и весь оставшийся вечер дулся.
Я уже легла в постель, когда он явился в спальню, разделся, забрался на меня сверху и отбросил прочь книгу, которую я читала. Томас стоял надо мной на коленях, голый и возбужденный. Нагнувшись ниже, он потребовал, чтобы я взяла его мужскую плоть в руки.
– Делай, что сказано! – велел он.
Я отпрянула, но он схватил мою ладонь и положил, куда хотел. Я впервые коснулась этого его органа. Под рукой пульсировала кровь. Томас прижал пальцами мою руку и принялся двигать ее вверх-вниз.
– Не вздумай еще раз меня унизить, – проговорил он.
– Но это же была всего лишь игра, – возразила я робко.
– Сильнее, – велел он. И добавил: – В Индии женщины умеют удовлетворить мужчину ртом.
Я пришла в ужас, а он засмеялся.
– Ну, давай! – Он сунулся к самому моему лицу.
Отверстие на головке его члена уставилось, словно жадный глаз. В нем выступила беловатая капля, упала. Прежде чем Томас сумел добиться своего, я со всей силы его оттолкнула. И тут он закатил мне такую пощечину, что зазвенело в голове. Лицо у него подергивалось и кривилось.
– Научишься, – посулил он.
Натянув одежду, Томас вывалился из спальни, и спустя несколько минут я услышала удаляющийся конский топот. Я лежала, держась за щеку, которая так и горела. Вспоминала, как мы с Софией, смеясь, рассуждали о том, какие у нас будут мужья. Когда появился Томас, я подумала: «Если уж надо выйти замуж, то почему бы и не за него?» Наверное, все мужья так обращаются с женами. Придется каким-то образом научиться смирять свою гордость. Закрыв глаза, я попыталась уснуть. Такова жизнь в браке, и надо к ней привыкнуть. Нравится мне это или нет, Томас все равно попытается вылепить меня такой, как ему хочется.
Вернувшись утром, он был полон раскаяния, целовал мне глаза, щеки, кончик носа.
– Милая, мне очень-очень жаль. Ничего подобного никогда больше не случится. Мне нужно дело; я должен быть чем-то занят. Когда приедем в Индию, заживем превосходной жизнью, я обещаю. Ты будешь заниматься домом, а я буду работать.
Я поинтересовалась, где он провел ночь, однако Томас не объяснил.
Когда мы уезжали из поместья, на дороге я увидела знакомую чету молодых дикарей. Они посторонились к обочине, чтобы наша карета проехала. На тележке, которую вез мужчина, среди убогой мебели и нищенского тряпья были втиснуты двое чумазых ребятишек. Вдали горела соломенная крыша дома.
– Что случилось?
Томас повел плечами.
– Отец очищает поместье. Арендаторы приносят жалкие гроши; выгоднее разводить скот.
Проезжая мимо, я выглянула в окно кареты, ожидая увидеть гневные, дерзкие взгляды в ответ. Однако дикари отвели глаза. Я ощутила странное разочарование, словно хотела увидеть их ярость – чтобы они потрясали кулаками, кричали, бранились. Но женщина лишь натянула платок на лоб, а мужчина согнулся ниже, сдвигая с места свою тележку. На меня они даже не взглянули.
Глава 11
Запах Индии окутал меня, охватил теплыми объятиями, проник в ноздри, забрался во все поры. Наш корабль подплывал к порту Калькутты, и я глубоко дышала, задерживая дыхание после каждого вдоха. Запахи чеснока и табака смешивались с ароматом жасмина и духом коровьего навоза; в неподвижном горячем воздухе плыл запах перца и сандалового дерева. Когда мы сошли на берег, я улыбнулась Томасу, а он сжал мне руку. Мы ступили на причал, предвкушая приятную жизнь в Калькутте среди соотечественников; однако неожиданно выяснилось, что Томасу предстоит отправиться в Богом забытый уголок Северной Индии.
Готовясь к далекому путешествию, мы пытались увидеться с моим отчимом и мамой. После моего побега с Томасом мама возвратилась в Индию; за прошедшие с той поры два года я получила от нее лишь одно письмо. В Калькутте Томас целых полмесяца слал письма, оставлял визитки, просил что-то передать на словах. В конце концов отчим ответил, что он бы с удовольствием нас принял, но последнее слово – за моей матерью. За день до нашего отъезда она все же согласилась, чтобы мы нанесли ей визит.
В то утро я оделась с особым тщанием, в одно из платьев, что были сшиты для моего приданого.
Она приняла нас в гостиной и поздоровалась очень холодно. Я подошла, думая ее обнять, но мама выставила перед собой руку, не подпустив меня к себе.
Сердце у меня колотилось, готовое разорваться. Хотелось умолять о прощении, сжать маму в объятиях, смять ее платье, взъерошить ее безупречно уложенные волосы.
Услышав наши новости, она не потрудилась подавить усмешку.
– Это – повышение. Вы должны быть довольны. Твоему отчиму пришлось изрядно похлопотать за твоего супруга.
Я так и осела в кресле. Значит, это ее месть.
Томас проглотил вскипевший гнев, поднялся на ноги.
– Несомненно, мы перед вами в долгу, – произнес он. – Я оставлю вас на несколько минут одних.
Он вышел, и мама обратила на меня вопросительный взгляд.
Кашлянув от волнения, я нерешительно предложила:
– Быть может, мы могли бы стать друзьями?
– Давай не будем притворяться, – ответила она. – Ты пренебрегла моими желаниями себе во вред. И не получишь ни гроша ни от своего отчима, ни от меня.
Ее слова уязвили меня в самое сердце.
– Ты нарочно не хочешь меня понять.
Мама подняла отложенное рукоделие, решительно вонзила иголку в ткань.
– Тебя ждет муж.
Следующие четыре месяца мы провели, поднимаясь к верховьям Ганга на колесном пароходе. Река была три мили шириной; местами течение было настолько сильное, что оно сносило наш пароход, и тогда мы бросали якорь, а потом нас тащили на буксире. Днем пол каюты был испещрен узенькими полосками света, пробивающегося сквозь жалюзи. Ночами мы с Томасом лежали в полной истоме, липкой жаре, лениво поддразнивая друг дружку. Возможно, благодаря тому, что мы бесконечно куда-то плыли, а время как будто остановилось, я начала находить удовольствие в физической близости.
С нами вместе плыл сержант с женой-англичанкой. Эвелина была хрупкая женщина с мышиного цвета волосами и серыми глазами. Она впервые оказалась в Индии, и малейшее происшествие ее огорчало или пугало.
Однажды, когда мы пили чай, мимо проплыли остатки погребального костра. На плотике лежал почерневший труп, на одном краю уцелел кусок гирлянды из желтых цветов, над сложенными горкой благовониями курились дымки. Эвелина впала в истерику.
– Это невыносимо! – кричала она.
– Ну, Эвелина, не надо, успокойтесь, – утешала я, как могла.
Она так и не привыкла к жизни на реке. Обнаженный святой человек, ребенок-калека, дремлющий аллигатор – все приводило ее в смятение.
– Ну как они могут?! – вопрошала она, когда мимо проплывал очередной плотик с покойником.
– У них так заведено, – объясняла я. – Они считают Ганг священной рекой.
Эвелина была безутешна. Увидев нечто, оскорбляющее взор, она отворачивала голову. А для меня мало что изменилось. Я смотрела на окружающее глазами взрослой женщины, сохранив воспоминания ребенка. Приближаясь к Динапуру, где был похоронен отец, я думала о нем все чаще и чаще. Когда Томас предложил навестить его могилу, я отказалась, предпочитая воображать, будто отец лежит под бескрайними полями маков и маиса.
После Динапура мы миновали священный город Бенарес. По берегам тянулись храмы, воздух был насыщен благовониями и молитвами. У кромки воды толпились тысячи людей, до нас доносились жалобы и стенания, в самой воде у берега кишели живые и мертвые. Эвелина убежала в каюту и опустила жалюзи. Мне казалось, что мы достигли самого сердца Индии. Забрались так далеко, что, наверное, уже невозможно вернуться назад.
В Бенаресе я услышала шепот реки; она как будто говорила мне: «Прими свою судьбу».
Когда священный город остался далеко позади, река сузилась, и течение стало сильнее. Последнюю часть пути мы проделали по суше. В паланкинах мы плыли через поля стручкового перца и клещевины[8]. С детства помню, как носильщики пели на ходу, но в этот раз не звучали ни песни, ни смех. Носильщики были мрачны и тихи, а когда я смотрела на них, они отводили взгляд.
Мы прибыли в Карнал в мае, когда стояла изнуряющая влажная жара. Дом у нас был одноэтажный, из шести комнат с верандой; в нем были высокие потолки, а беленые стены – больше фута толщиной. Стоя на веранде, я видела вдалеке подножие Гималаев. Казалось, горный воздух добирается сюда, ко мне, и холодит кожу. Первым делом я купила растения, которые помнила с детства, и высадила их возле дома. Вскоре распустились первые желтые, красные, белые цветы, стремительно поползли, извиваясь, побеги. Не прошло и месяца, как цветы уже грозили оплести дом по самую крышу.
Находясь в доме, я не могла ни думать, ни дышать без того, чтобы за мной не наблюдали несколько пар глаз. Экономка, столовая прислуга, повара, поваренок, подметальщик, садовник, посыльный и горничная – все они пристально следили за каждым моим движением. Я ни на минуту не оставалась одна. Каждый из слуг имел свои собственные обязанности, и они искренне полагали, что моя роль столь же четко очерчена. Стоило мне сделать хоть что-нибудь, отдаленно напоминающее ручной труд, они приходили в замешательство, как будто я совершила нечто постыдное. Если я брала лампу и переносила ее в другой угол, слуга, в чьи обязанности входило подавать на стол, чуть приметно качал головой; если утром я одевалась без посторонней помощи, горничная обижалась.
Спустя несколько дней я уяснила, что все важные решения в доме принимает экономка – царственная Джасвиндер. Все в ней: тонкие запястья и лодыжки, поворот головы, ее снежно-белое сари – выдавало женщину, обладавшую природной грацией и величавостью. Именно она правила в доме, а вовсе не я. Мне приходилось то и дело себе напоминать, что я здесь – хозяйка; я решала, что приготовить на обед и ужин, и отдавала распоряжения, однако Джасвиндер отнюдь не всегда их выполняла.
– Если вам угодно, – говорила она, однако по легчайшему дрожанию ресниц я понимала, что она не одобряет мои приказания.
В первый месяц я тщетно пыталась установить в доме собственную власть. Если я не обращалась к Джасвиндер с отдельной просьбой что-то сделать, ничего и не делалось. Всяческие домашние беды следовали одна за другой, а она лишь беспечно наблюдала. Фортепьяно сгрызли термиты. Процессии этих огромных белых муравьев тянулись по дому, сжирая камышовые циновки на полу. В одну неделю я заказывала слишком много муки, в другую – слишком мало. Порой я неумышленно обижала слуг просьбами сделать что-нибудь, не входящее в круг обязанностей их касты. Кроме того, я ухитрилась велеть повару-мусульманину приготовить свинину, а говядину заказала индуисту. Если я ослабляла бдительность, соль и сахар исчезали бесследно.
– Почему меня не предупредили? – вопрошала я после досадных оплошностей.
– Мемсахиб[9] не спрашивала.
Вскоре я поняла, что в Индии домашняя жизнь строится при строгом соблюдении целого набора правил; беда была в том, что я этих правил не знала. Кончилось тем, что я стала во всем советоваться с Джасвиндер.
– Предоставьте это мне, – говорила она с легкой улыбкой.
Спустя несколько недель я уже полностью от нее зависела. Мне хотелось ей угодить, я очень старалась и все равно совершала мелкие оплошности, а она молча, дрожанием ресниц, меня укоряла. Лишь через несколько месяцев я поняла, что от меня требуется; и только когда я полностью отказалась от мысли, будто в доме от меня что-то зависит, все пошло как надо. Едва установилась должная иерархия, слуги успокоились. Они отлично справлялись с домашним хозяйством без меня, справятся и впредь. Одна белая мемсахиб мало отличается от другой, читала я во взглядах, которыми они обменивались.
В соседнем доме Эвелине приходилось еще хуже. Слуги ее пугали, москиты безжалостно кусали ее бледную кожу, ноги отекали и опухали в жаре.
– Хочу домой! – жаловалась она.
– Эвелина, пожалуйста, не плачьте, – просила я.
Я предложила ей не носить чулки – хотя бы в жаркий сезон, – но она пришла в ужас.
– Как можно?! Что люди обо мне подумают?
Она часами лежала на веранде, выливая кувшин за кувшином холодной воды на свои обтянутые чулками ноги.
Однажды я застала ее у письменного стола в слезах; Эвелина пыталась руками удержать разлетающиеся бумаги. Многочисленные письма и счета летали по всей комнате, ручки скатились на пол, несколько книг Эвелина уронила сама. Подвешенные под потолком опахала создавали изрядный ветер; мальчишка-индиец как ни в чем не бывало приводил их в движение, пока я не велела ему перестать.
– Все бумаги нужно придавливать, – объяснила я Эвелине, указав на кучку медных гирек в углу.
– А мне и в голову не приходило, – растерянно ответила она.
– Надо постараться держать слуг в руках, – продолжала я.
Тут она горестно вздохнула.
– Слуги меня ненавидят. И ночами я не могу спать из-за насекомых и всяких звуков. Лягушки, цикады, да еще какая-то птица все время пронзительно орет.
– Ме-нин-гит! Ме-нин-гит! – прочирикала я.
Эвелина испуганно утерла слезы.
– Боже, помоги мне!
– Разве это не то, что вы слышите? Это же крик птицы-менингитки.
Она обиженно поджала губы.
– Могли бы прямо так и сказать.
Как-то раз я нашла ее у стола, который целиком, с ней вместе был накрыт чехлом из кисеи. Эвелина сидела без чулок, поставив ноги в тазик с холодной водой.
– Элиза, не смейтесь, – попросила она. – Я не могу, когда меня кусают; а все прочее уже неважно.
Когда Томас возвращался домой, наша семейная жизнь опять же проходила на глазах у слуг; у нас почти не было возможности поговорить наедине, и мы беседовали с бесконечными недомолвками, помня про чужие уши. Томас стал нервный, настроение у него стремительно менялось. То он был приветлив со мной и улыбчив, то вдруг впадал в молчаливую хандру.
– В чем дело, Томми? – спрашивала я.
– Разве не ясно? – отвечал он.
Если он бывал груб и резок, я пыталась завоевать его расположение; когда он сердился, мне хотелось видеть его улыбку. Когда ему случалось быть в добродушном и веселом настроении, я всячески это настроение поддерживала и старалась вызвать его на разговор.
Он занимался вербовкой и обучением солдат-индусов; должность он занимал более высокую, чем прежде, но работа ему не нравилась. Томас являлся домой под вечер и без сил падал в кресло.
– Три побега, пропавшие сапоги, множество краж. Не сомневаюсь, что твой отчим меня наказывает.
– Тяжелый день?
– Чертовы туземцы! Они кивают и кланяются, но что бы я ни говорил – как об стенку горох!
Вечером, когда становилось прохладнее, он с другими офицерами выезжал на охоту и стрелял во все, что движется. Позже он складывал у моих ног трофеи; после удачной охоты Томас бывал совершенно счастлив.
– Ты погляди! – сиял он улыбкой. – Из этого выйдет настоящий пир, а?
Мы с Джасвиндер переглядывались. В том, что касалось моего супруга, мы с ней обычно бывали едины. Добытая куропатка или заяц даже с виду были жесткими, павлин выглядел растрепанным и тощим. Из опыта мы обе знали, что куропатка выйдет безвкусной, а павлин годен лишь в острый суп с пряностями.
– Посмотрите, что можно сделать, – шептала я.
Когда подавали ужин, Томас с аппетитом его наворачивал.
– Это моя куропатка? – спрашивал он. – Нет ничего лучше, чем добывать на охоте себе пропитание.
Вялыми дремотными днями я занималась рукоделием. На случай, если мама смягчится и пригласит меня навестить ее в Калькутте, я принялась нашивать на платья новые воротнички, менять нижние юбки. Потом вышила монограммы на постельном белье и носовых платках. Затем поняла, что следует украсить салфетки на спинках мягкой мебели и диванные подушки. Вскоре мир сузился до размеров пялец, на которых я вышивала. Главным моим достижением стало покрывало, разделенное на множество частей, каждая из которых была украшена своей картиной из индийской жизни. Начала я скромно, с видов гор и рек, затем начала вышивать храмы и диких зверей и птиц. Потом перешла к более драматическим событиям; иголка так и сновала туда-сюда. На моем покрывале индийский лев пожирал британского офицера, на талии почтенной дамы сомкнулись челюсти крокодила, слон уносил в джунгли юную девушку.
Прошло два года после свадьбы, когда Томас завел разговор о ребенке. Мы лежали в постели, проведя свободное утро в нежных ласках.
– Быть может, это как раз то, что тебе нужно, – сказал он, тихонько поглаживая мне живот.
Я хотела подняться, но он схватил за плечи и удержал.
– Полежи со мной. Пусть ребенок там укрепится.
Даже в глазах Джасвиндер читалась жалость.
– Все еще нет маленького сахиба? – спрашивала она. – Думаю, нужно давать сахибу больше рыбы и яиц.
– Но я не хочу ребенка, – возражала я.
– Конечно же, хотите. Все женщины хотят детей.
Томас заговаривал об этом все чаще:
– Может, с тобой что-то не так? Хочешь, отвезу тебя в Калькутту, к врачу? Пусть проверит, все ли в порядке.
Я отмалчивалась. Мне было всего лишь девятнадцать, и вот уж чего-чего, а ребенка я не хотела вовсе. Мало-помалу я поняла, что имела в виду бедная больная Сара, когда толковала о «штуках», которые могут удержать мужчину на расстоянии. Если я жаловалась на сильную головную боль, Томас порой оставлял меня в покое. Малейший намек на женское недомогание заставлял его бледнеть и уходить в свою спальню. Однако несмотря на все мои усилия, он все чаще и чаще оказывал мне внимание. Он проявлял свою любовь после охоты, после светского раута, если я танцевала с кем-то другим. И однажды, когда он вернулся с офицерской пирушки, случилось неизбежное. Я проснулась среди ночи, обнаружив Томаса в своей постели; он усердно трудился. Некий инстинкт подсказал мне, что я зачала. «Боже, – просила я, – пусть это окажется неправдой!» Однако в животе у меня как будто затянулся крошечный узелок, и я точно знала, что там укоренилось нечто живое.
Вскоре после этого начался дождливый сезон. Сначала небо посерело от пыли, затем в нем принялись громоздиться темные тучи; загрохотал гром, хлынули потоки дождя. Крыша протекала, и мы спали под огромными зелеными зонтами. Воздух кишел насекомыми, огромные мотыльки падали в еду. Однажды, когда за обедом муж Эвелины с важным видом разглагольствовал о туземцах, в рот ему залетел навозный жук. А после обеда я застала на веранде Томаса с женой капитана. Миссис Ломер была дородная дама тридцати пяти лет, с темным румянцем на щеках. Когда я их увидела, она вынимала стрекоз, запутавшихся у Томаса в шевелюре. Я мысленно усмехнулась. В ее-то возрасте – флиртовать? Вот уж нелепица какая.
По соседству зеленая плесень в одну ночь покрыла книги и обувь Эвелины. Картины на стенах гнили.
– Надо все убирать, – сказала я ей.
– Все? – переспросила она, чуть не плача.
Тот вечер не предвещал ничего необычного. Дожди прошли, и, стоя на веранде, я видела свежий, обновленный мир. Томас вернулся из офицерского клуба, раскрасневшийся после выпитого виски. Мы сели к столу; главным блюдом сегодня была курица, приготовленная в подливе из цесарки: в дело пошел бульон и сок, который цесарка дала при жарке, а само мясо никуда не годилось.
– Приятного аппетита, – пожелала я по-французски.
Томас проглотил несколько кусочков, потом вдруг помрачнел и принялся ковырять вилкой в тарелке.
– Ты морочишь мне голову, – проговорил он наконец. – Это не та птица, которую я поймал.
Растерявшись, я не нашлась с достойным ответом.
– Пожалуйста, не при слугах.
– Мне плевать на слуг! Это моя цесарка или нет?
– Томас, ну пожалуйста.
Он бросил на меня яростный взгляд, затем смел тарелку на пол. Она раскололась на две половинки, подлива забрызгала пол.
Мы оба поднялись на ноги; Томас тяжело дышал.
– Ты думаешь, это со мной что-то не так, да? – выговорил он.
– О чем ты?
– Ты прекрасно знаешь о чем.








