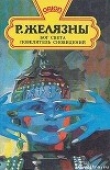Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Как просто и ясно было все в отправной точке. Каждой деревне были спущены нормы обязательных поставок: раз в неделю или в две полагалось сдавать определенное количество провизии – маниоки, домашней птицы, мяса антилопы, диких свиней, коз или гусей, – чтобы кормить гарнизон „Форс пюблик“ и рабочих, которые прокладывали дороги, вкапывали телеграфные столбы, возводили дебаркадеры и склады. Кроме того, каждая деревня должна была поставить определенное количество каучука в корзинах, сплетенных самими жителями из лиан. Наказания за недостачу варьировались. Если съестного или каучука оказывалось меньше, чем положено, провинившимся давали сколько-то ударов бичом – не меньше двадцати, а порой – пятьдесят или даже сто. Многие не выдерживали порки, истекали кровью и умирали. Туземцы знали, что, если они убегут – это случалось, впрочем, очень редко, – отвечать будут их близкие, которых посадят в пресловутые „дома заложников“, имевшиеся в каждом гарнизоне. Женщин там стегали бичом, морили голодом и жаждой, а порой подвергали и более изощренным пыткам: заставляли есть экскременты – собственные или тюремщиков.
Даже правила, установленные колониальной администрацией, не соблюдались ни частными компаниями, ни королевскими. Повсюду и везде система извращалась и попиралась и ухудшалась теми самыми солдатами и офицерами, которые призваны были обеспечивать ее действенность, потому что в каждой деревне и военные, и чиновники самовольно увеличивали квоты с тем, чтобы присвоить и потом перепродать излишки провианта и каучука.
Где бы ни побывал Роджер, жалобы вождей и старейшин звучали совершенно одинаково: если всех жителей отправить на сбор каучука, кто будет охотиться, выращивать маниоку и вообще кормить власти, начальников, надсмотрщиков, рабочих? Кроме того, ближайшие заросли каучуконосов уже истощались, приходилось каждый раз углубляться все дальше, в незнакомые и неприветливые края, где подстерегают леопарды, львы и змеи. Как ни старайся, нельзя выполнить все требования.
1 сентября 1903 года Роджеру Кейсменту исполнилось тридцать девять лет. „Генри Рид“ шел по реке Лопори. Накануне миновали селение Иси-Исуло, стоявшее на холмах, в предгорье Бонганданги. Этот день рождения запечатлелся в памяти Роджера навсегда, словно Господь Бог или Сатана пожелали, чтобы он убедился – жестокость человеческая безгранична: всегда можно пройти еще дальше и изобрести новые способы мучить ближнего.
День вставал хмурый и пасмурный, собирался шторм, но гроза так и не началась, хотя все утро воздух был насыщен электричеством. Роджер садился завтракать, когда к подобию причала, где ошвартовался „Генри Рид“, подошел долговязый и сухопарый, как персонаж Эль Греко, седобородый отец Юто, монах-траппист из миссии, которую орден открыл в Кокильятвиле. Глаза его горели то ли гневом, то ли изумлением, то ли страхом, а может быть, и тем, и другим, и третьим одновременно.
– Я знаю, чем вы занимаетесь в наших краях, господин консул, – сказал он по-французски, протягивая Роджеру костлявую руку. Сбивчиво, настойчиво и горячо, дрожа как в лихорадке и торопясь высказать то, что очень властно владело его мыслями, он продолжал: – Прошу вас, пойдемте со мной в деревню Валлу. Это всего лишь в полутора часах отсюда. Вы должны увидеть это своими глазами.
– Хорошо, mon рèге[10]10
Отец мой (фр.).
[Закрыть], – ответил Роджер. – Но прошу вас, сначала присядьте, выпейте со мною кофе и съешьте что-нибудь.
За столом монах объяснил, что обитателям этой миссии разрешено нарушать строгий устав затворничества ради того, чтобы помогать туземцам, „которые так нуждаются в этом здесь, в краю, где Сатана, кажется, выигрывает битву с Господом“.
У отца Юто дрожал не только голос: тряслись руки, трепетали веки – он моргал беспрестанно – и, вероятно, душа тоже ходила ходуном. На плечах у него была грубая сутана, влажная и вся в пятнах, а на ногах, исцарапанных и облепленных грязью, – ременные сандалии. Он рассказал, что живет в Конго уже десять лет и восемь из них регулярно наведывается в окрестные деревни. Взбирался даже на хребет Бонганданги, где однажды повстречал леопарда, который вместо того, чтобы напасть на него, уступил дорогу и завилял хвостом. Еще рассказал, что говорит на нескольких местных наречиях и тем снискал доверие туземцев, особенно – „этих мучеников из Валлы“.
Вскоре они пустились в путь по узкой тропе, вившейся меж деревьев; кое-где ее пересекали узкие ручейки. Где-то слышался щебет невидимых птиц, и время от времени над головами с криками пролетала стая попугаев. Роджер отметил, что монах идет по лесу уверенно, привычно и легко, словно имеет немалый опыт таких походов. По дороге он объяснял, что случилось в Балле. Поскольку деревня, и так сильно обезлюдевшая, не смогла ни выполнить поставки каучука, древесины и продовольствия, ни предоставить столько рабочих рук, сколько требовалось властям, из Кокильятвиля пришел отряд „Форс пюблик“ – тридцать солдат под командой лейтенанта Танвиля. Заметив его приближение, туземцы спрятались было в горах. Однако переводчики разыскали их и стали уговаривать вернуться. Ничего, мол, с ними не будет, начальник хочет всего лишь объяснить суть новых распоряжений и вообще договориться. Вождь согласился. Как только они показались в деревне, солдаты набросились на них, привязали к деревьям и стали хлестать бичами. Беременную женщину, которая хотела отойти по нужде, застрелили. Десять других оттащили в „дом заложников“. Лейтенант Танвиль дал африканцам неделю сроку на выполнение поставок, пригрозив в противном случае заложниц расстрелять, а деревню сжечь.
Когда же спустя несколько дней там появился отец Юто, глазам его предстало весьма плачевное зрелище. Чтобы выплатить недоимки, селяне продали сыновей и дочерей, а двое – своих жен бродячим торговцам, втайне от властей скупавшим и невольников. Траппист уверял, что продано было не меньше восьми человек, а может быть, и больше. Туземцы пребывали в страхе. Они послали людей купить каучук и съестных припасов, но опасались, что вырученных денег не хватит.
– Можно ли поверить, господин консул, что подобное происходит на этом свете?
– Можно, отец мой. Теперь я верю в самое жуткое и отвратительное. Нет зверя кровожадней, нежели человек: вот единственный урок, который преподало мне Конго.
Там, в деревне, никто не плакал, вспоминал потом Роджер Кейсмент. Не плакал и не жаловался. Казалось, Валлу поразило проклятие, превратившее жителей в призраков, которые, механически переставляя ноги, бродили туда-сюда, меж тридцатью островерхими хижинами, сложенными из жердей и крытыми пальмовыми листьями, и сами не ведали, кто они, где находятся, куда идут. Но свежие рубцы на спинах и ягодицах у этих бесплотных призраков сочились настоящей кровью.
С помощью отца Юто, бегло говорившего на языке племени, Роджер приступил к работе. Опросил каждого жителя и выслушал то, что уже много раз слышал и еще услышит. И в этой деревне его больше всего удивляло, что никто не задает самый главный вопрос: „Почему, по какому праву явились сюда чужеземцы и стали угнетать, мучить и терзать нас?“ У всех на уме было только сиюминутное – поставки и недоимки. Чересчур обложили, превыше сил человеческих собрать столько каучука и провизии, отдать столько рабочих рук. Они не жаловались, даже не упоминали про порки и „дома заложников“. Просили только, чтобы снизили квоты – тогда их можно будет выполнять, и начальство не рассердится.
Роджер переночевал в деревне. Наутро, собрав блокноты с записями, простился с траппистом. И решил изменить намеченный маршрут. Вернулся на берег Мантумбы, поднялся на борт „Генри Рида“ и взял курс на Кокильятвиль. Поселок был крупный, с беспорядочно проложенными немощеными улицами, с домиками, притаившимися под пальмами, с маленькими прямоугольниками огородов. Сойдя на берег, консул прямо направился в казармы „Форс пюблик“ – несколько крепких неуклюжих зданий стояло на довольно обширном пространстве за желтой жердяной оградой.
Лейтенант Танвиль оказался, как ему объяснили, в командировке. Роджера принял капитан Марсель Жюньё, командир гарнизона, в чьем подчинении находились все пикеты и отделения „Форс пюблик“ в округе. Это был высокий, сухощавый и жилистый человек лет сорока, дочерна загорелый и остриженный наголо. На груди у него висел образок Пречистой Девы, на предплечье виднелась татуировка с изображением какого-то зверька. Капитан провел посетителя в убогий кабинет, где на стенах висело несколько флажков и большая фотография короля Леопольда в парадном мундире. Предложил кофе. Усадил перед своим письменным столом, заваленным бумагами, уставами, картами и карандашами, на шаткий стульчик, при каждом движении гостя грозивший развалиться. Рассказал, что провел детство в Лондоне, где у его отца были торговые дела, и хорошо говорит по-английски. Кадровый офицер, он пять лет назад добровольно вызвался ехать в Конго, чтобы „сделать его своей отчизной, господин консул“. Он произнес эти слова с едкой насмешкой. И потом сообщил, что ждет сейчас производства в следующий чин и перевода в метрополию.
Капитан сидел перед Роджером с очень серьезным видом, ни разу не перебил его и, казалось, был целиком сосредоточен на том, что слышит. Лицо оставалось значительным и непроницаемым, какие бы ужасающие подробности ни приводил консул. А его рассказ был точен и тщателен. Роджер не забывал упомянуть, что именно слышал от других, а что видел собственными глазами – взлохмаченную бичом кожу на спинах и задах, показания тех, кто продал собственных детей, чтобы уплатить недоимки. Добавил, что правительство его величества будет, разумеется, уведомлено об этих безобразиях, но что сам он считает своим долгом от имени опять же британской короны, которую представляет здесь, уже сейчас заявить протест против бесчеловечного поведения „Форс пюблик“. Деревня Валла, превратившаяся в сущий ад, – пример показательный и характерный. Когда он замолчал, капитан после долгой паузы, храня прежнюю невозмутимость, слегка кивнул и сказал мягко:
– Как вам, наверно, известно, господин консул, „Форс пюблик“ не издает законов. Мы ограничиваемся тем, что исполняем их.
Даже тень беспокойства или досады не замутила безмятежную ясность его прямого взгляда.
– Я знаю, капитан, какими законами управляется Независимое Государство Конго. И в них ничего не сказано о том, что можно калечить африканцев, истязать их до смерти, брать в заложники женщин, дабы не дать их мужьям скрыться, и выжимать деревни досуха, так что матерям приходится продавать своих детей, чтобы уплатить недоимки по каучуку и продовольствию.
– И это все мы? – с несколько преувеличенным удивлением осведомился капитан. Потом покачал головой, подвигал рукой из стороны в сторону, и при этом движении татуированный зверек на запястье шевельнулся. – Мы ни от кого ничего не требуем. Мы лишь получаем приказы и заставляем повиноваться им, вот и все. Не мы устанавливаем квоты, господин консул. Не мы, а администрация или директора компаний-концессионеров. Мы – всего лишь исполнители; мы проводим политику, к которой никогда не имели ни малейшего отношения. И никто ни разу не поинтересовался нашим мнением. А если бы такое произошло, не исключено, что дела пошли бы лучше.
Он замолчал, словно задумавшись на миг о чем-то постороннем. Роджер видел, как за широким окном, забранным металлической решеткой, маршируют по прямоугольному плацу туземные солдаты – в полотняных штанах, но голые до пояса и босые. Унтер-офицер, по команде которого они поворачивали налево, направо и кругом, был в башмаках, форменной рубашке и кепи.
– Я проведу проверку. Если лейтенант Тонвиль превысил свои полномочия или не пресек самоуправство своих подчиненных, наложу взыскание, – проговорил капитан. – На солдат, разумеется, тоже, если они переусердствовали с телесными наказаниями. Вот и все, что я могу обещать вам. Все прочее – вне моей компетенции и относится к сфере правоприменения. Менять законы – дело не военных, а судей и политиков. Высшего эшелона притом. Полагаю, вам и это известно.
В его голосе вдруг прорезалась унылая нотка.
– Мне бы очень хотелось, чтобы этот порядок вещей изменился. И мне тоже совсем не по нраву все, что здесь творится. И то, что мы вынуждены делать, оскорбляет мои понятия и принципы. – Он прикоснулся к ладанке на груди. – И мою веру. Я настоящий католик. И там, в Европе, неизменно стремился поступать в соответствии с убеждениями. Здесь, в Конго, это невозможно, господин консул. И это правда, как ни печальна она. И потому я очень рад, что возвращаюсь в Бельгию. И ноги моей здесь больше не будет, уверяю вас.
Он встал из-за стола, подошел к окну. И, повернувшись к Роджеру спиной, довольно долго наблюдал в молчании, как, спотыкаясь, не в ногу и вразброд маршируют новобранцы.
– Но если так, вы ведь можете положить конец этим преступлениям, – пробормотал Роджер Кейсмент. – Ведь не для этого же мы, европейцы, приехали в Африку.
– Нет? Не для этого? – Капитан обернулся, и консул заметил, что он побледнел. – А для чего тогда? А-а, знаю-знаю – нести сюда цивилизацию, свет христианства и свободную торговлю. Неужели вы до сих пор верите в это, мистер Кейсмент?
– Уже нет, – не задумываясь, ответил Роджер. – Раньше верил – что было, то было. Верил всем сердцем. И много лет кряду верил горячо и искренне, как подобает мальчишке-идеалисту, каким был тогда. Да, я считал, что Европа пришла в Африку спасать жизни и души и цивилизовать дикарей. Теперь вижу, что ошибался.
Лицо капитана Жюньё изменилось, и Роджеру показалось, что из-под застывшей маски проглянуло что-то человеческое. И что тот смотрит на него с жалостливой симпатией, как на убогого.
– И эти грехи молодости я стараюсь искупить. За этим и приехал в Кокильятвиль. Потому и документирую как можно более подробно все преступления, которые творятся здесь во имя так называемой цивилизации.
– Желаю вам успеха, господин консул, – с насмешливой улыбкой ответил капитан. – Однако, если вы позволите говорить откровенно, боюсь, что вы его не стяжаете. Превыше сил человеческих преобразовать эту систему. Дело зашло слишком далеко.
– Я хотел бы осмотреть тюрьму и „дом заложников“, где вы держите женщин из Баллы, – резко, без перехода, сказал Роджер.
– Можете осмотреть все, что вам будет угодно, – кивнул капитан. – Ваше право. Но все же позвольте еще раз напомнить вам – не мы придумали Независимое Государство Конго. Мы лишь приводим его в действие. Иными словами, нас тоже можно счесть жертвами.
Тюрьма помещалась в сложенном из кирпича и обшитом досками сарае без окон; единственную дверь охраняли двое туземных солдат с карабинами. Внутри оказалось человек десять – среди них было и несколько стариков; полуголые пленники скорчились на полу, а двое были привязаны ко вбитому в стену кольцу. Роджера сильней всего поразили тогда не безучастные или удрученные лица этих живых скелетов, молча провожавших его глазами, покуда он проходил мимо, но смрад мочи и экскрементов.
– Мы пытались было приучить их, чтоб справляли нужду в ведра, – угадывая его мысли, сказал офицер. – Но они так и не привыкли. Предпочитают прямо на землю. Такой уж это народ. Вонь их не смущает. Может быть, они ее и не чувствуют.
Maison d'otages был размером поменьше и забит людьми до такой степени, что консул с трудом пробирался между полуголыми скученными телами. Здесь было так тесно, что иным женщинам негде было ни лечь, ни сесть, и приходилось оставаться на ногах.
– Это особый случай, – пояснил капитан Жюньё, указывая на них. – Обычно людей тут бывает поменьше. Сегодня вечером, чтобы могли поспать, переведем половину в казарму.
И здесь тоже нестерпимо воняло мочой и калом. Некоторые женщины были очень молоды, на вид – совсем девочки. И у всех был тот блуждающий, безжизненный, сомнамбулический взгляд, какой Роджер в этой своей поездке уже столько раз замечал у конголезцев. Новорожденный на руках одной из заложниц лежал так тихо, что казался мертвым.
– Какие у вас должны быть основания, чтобы отпустить их? – спросил консул.
– Это решаю не я, а судьи. Их здесь трое. Какие основания? Да одно: как только мужья погасят задолженность, так и смогут забрать своих жен.
– А если не погасят?
Капитан пожал плечами.
– Ну, одним удается выбраться, – сказал он, избегая взгляда консула и понизив голос. – А других отдают солдатам, и те на них женятся. Считай, повезло. Третьи сходят с ума, кончают самоубийством. Четвертые умирают с горя, от злобы, от голода. Вы же сами видели – есть-то им нечего. Но и в этом мы не виноваты. Провианта присылают так мало, что мне своих людей нечем кормить. Что говорить об арестантах? Иногда устраиваем среди офицеров небольшие складчины, чтобы немного улучшить рацион. Так и живем. Я бы первый хотел, чтобы все было не так. Если вам удастся что-нибудь изменить к лучшему, „Форс пюблик“ будет вам благодарна.
В Кокильятвиле Роджер Кейсмент нанес визиты трем бельгийским судьям, но приема добился только у одного. Двое других под благовидными предлогами отказали. Зато мэтр Дюваль, тучный и напыщенный господин лет пятидесяти, облаченный, несмотря на жару, в сюртук поверх жилета с часовой цепочкой и сорочки с крахмальными манжетами, провел его в свой скромно обставленный кабинет и угостил чаем. Выслушал учтиво, то есть не перебивая. Время от времени утирал обильно текущий пот давно уже мокрым платком. И со скорбным лицом кивал в такт тому, что рассказывал консул. Потом попросил изложить все это на бумаге. Для того чтобы, пояснил он, суд мог открыть дело и начать расследование всех этих прискорбных обстоятельств. Хотя, добавил он, с задумчивым видом взявшись за подбородок, было бы лучше, если бы господин консул направил свой отчет сразу в Верховный суд, находящийся сейчас в Леопольдвиле. Ибо под его юрисдикцией находится вся колония. Если делу будет дан ход, можно рассчитывать не только на то, что положение дел как-то изменится к лучшему, но и на компенсацию семьям пострадавших и им самим. Роджер Кейсмент заверил его, что так и поступит. И удалился в полнейшей уверенности, что мэтр Дюваль пальцем не пошевелит – как, впрочем, и Верховный суд. Тем не менее представить отчет он все же намеревался.
Уже под вечер, когда „Генри Рид“ готовился к отплытию, появился туземец и сообщил, что миссионеры-трапписты очень бы хотели видеть консула. В миссии Роджер застал человек шесть монахов и среди них – отца Юто. Дело же заключалось в следующем: они хотели, чтобы Роджер потихоньку вывез нескольких беглецов, который день прячущихся в монастыре. Все они были из Бонжинда, деревни в верховьях Конго, где „Форс пюблик“ провела карательную операцию столь же сурово, как и в Валле.
Обитель размещалась в крупном двухэтажном строении из камня, глины и дерева и снаружи казалась настоящей крепостью. Окна были закрыты наглухо. Настоятель по имени дон Жезуальдо, португалец родом, был уже очень стар, как, впрочем, и остальные монахи – такие иссохшие и изможденные, что тела их едва угадывались под белыми, с черными наплечниками, сутанами, перехваченными сыромятными кожаными поясами. Послушники были моложе. Но все, включая и отца Юто, напоминали живые скелеты, словно эта худоба была едва ли не отличительной особенностью здешних братьев-траппистов. Света в обители хватало, потому что лишь часовню, трапезную и спальню затеняла крыша. Имелись сад и огород, птичник, кладбище и кухня с большим очагом.
– В чем виноваты эти люди, которых вы просите меня вывезти отсюда втайне от властей?
– Виноваты в том, что бедны, – сокрушенно сказал дон Жезуальдо. – И вам самому это хорошо известно. Вы только что своими глазами видели в Валле, что значит быть неимущим, бесправным и – конголезцем.
Кейсмент кивнул. Разумеется, было бы милосердным деянием оказать траппистам просимую помощь. Тем не менее он колебался. Ему, дипломату, вывозить беглецов, сколь бы неосновательны ни были те причины, по каким их преследуют, было крайне рискованно: это могло бы скомпрометировать Великобританию и совершенно извратить задачу, которую он выполняет для Министерства иностранных дел, – сбор и передачу сведений.
– Можно мне будет взглянуть на них и расспросить?
Дон Жезуальдо согласился. Отец Юто вышел и почти тотчас вернулся с несколькими конголезцами. Их было семеро – четверо мужчин и три мальчика. Левая рука у каждого была отрублена или размозжена прикладом. Ребра и спины – в рубцах от бича; лица иссечены давними ритуальными шрамами. Их вожак, назвавшийся Мансундой, носил головной убор из перьев, а на шее в несколько рядов – ожерелья из звериных клыков. Отец Юто взялся переводить. Когда Бонжинда два раза подряд не выполнила поставки каучука – деревья в округе были уже истощены и давали очень мало латекса, – африканцы из „Форс пюблик“, размещенные в деревне, начали истязать жителей, рубить им руки и ноги. Вспыхнул восстание; одного стражника убили, другим удалось убежать. Несколько дней спустя нагрянул отряд „Форс пюблик“: сжег деревню, причем многие туземцы сгорели в своих хижинах, поубивал жителей, не разбирая, где мужчины, где женщины, а уцелевших увел в тюрьму и в „дома заложников“. Мансунда считал, что спастись удалось только ему и шести его товарищам. Если бы они попались „Форс пюблик“, их постигла бы участь остальных, потому что в Конго восстание туземцев неизменно каралось уничтожением всей общины.
– Ну, хорошо, отец мой, – сказал Кейсмент. – Я возьму их на борт „Генри Рида“ и увезу отсюда. Но – не дальше французского побережья.
– Господь вам воздаст сторицей, господин консул, – отвечал монах.
– Не знаю, не уверен, – сказал на это Роджер. – В данном случае мы с вами нарушаем закон.
– Закон человеческий, – поправил его монах. – И преступаем мы его именно потому, что хотим исполнить закон Божеский.
Роджер Кейсмент разделил с монахами их скудную и постную трапезу. И много разговаривал с ними за ужином. Дон Жезуальдо пошутил, что в честь гостя трапписты даже нарушили обет молчания, предписанный уставом ордена. Роджеру показалось, что Конго подавило и одолело этих людей, точно так же, как и его самого. „Почему же так получилось?“ – вслух недоумевал он за столом, вспоминая, с каким воодушевлением девятнадцать лет назад приехал в Африку и как убежден был тогда, что колониализм подарит конголезцам новую и достойную жизнь. Отчего же так вышло? Отчего стало возможным, что такое благое намерение обернулось таким чудовищным ограблением, такой умопомрачительной, поистине зверской жестокостью, творимой людьми, которые, называя себя христианами, мучили, пытали, убивали беззащитных туземцев, не щадя ни стариков, ни детей? Разве европейцы пришли сюда не затем, чтобы покончить с работорговлей и принести сюда религию справедливости и милосердия? И, право же, разве происходящее здесь во сто крат не хуже работорговли?
Монахи слушали его излияния не открывая рта. Может быть, вопреки словам настоятеля, они все же не решались нарушать обет молчания? Нет, это Конго повергло их, как и его, в столь глубокое смятение, что они не находят нужных слов.
– Пути Господни неисповедимы для нас, ничтожных грешников, – вздохнул дон Жезуальдо. – Но главное, господин консул, – не впасть в отчаяние. Не утратить веру. И то, что здесь появляются такие люди, как вы, придает нам бодрости и возвращает надежду. Мы желаем вам удачи в вашем деле. И будем молиться, чтобы Господь дал вам свершить что-нибудь для блага этого обездоленного народа.
Семеро беглецов поднялись на борт „Генри Рида“ на заре, когда пароходик, уже отойдя от Кокильятвиля на изрядное расстояние, причалил у излучины реки. Те трое суток, что они находились там, Роджер пребывал в напряжении и тревоге. Присутствие семи искалеченных туземцев он объяснил невнятно и туманно, и ему казалось – команда посматривает на них с подозрением. На траверзе Иребу судно подошло к французскому берегу Конго, и ночью, пока матросы спали, семь безмолвных теней скользнули на сушу и растворились в густых зарослях. Никто из матросов потом не спросил консула, куда делись пассажиры.
Вскоре Роджер Кейсмент почувствовал себя плохо. И дело было не только в угнетенном состоянии духа – сам организм стал сетовать на недостаток сна, укусы насекомых, безмерные физические усилия, – однако сказалось, разумеется, и оно: ярость быстро сменялась упадком, желание выполнить работу как можно лучше – ясным осознанием того, что его отчет мало на что сможет повлиять, потому что там, в Лондоне, бюрократы из министерства и политики наверняка сочтут, что ссориться с таким союзником, как Леопольд II, неблагоразумно, и публикация подобных сведений возымеет самые пагубные последствия для Великобритании, подтолкнув Бельгию в объятия Германии. Неужели нет у Британской империи интересов более значительных, чем защита полуголых дикарей, поклоняющихся зверям и змеям и еще не отказавшихся от людоедства?
Но Роджер, нечеловеческими усилиями перебарывая тоску и подавленность, головные боли, тошноту, ломоту во всем теле – он так исхудал, что должен был проделать несколько новых дырочек в ремне, – продолжал ездить по деревням, постам, заставам, факториям, опрашивать чиновников, служащих, туземцев, людей из „Форс пюблик“, сборщиков каучука, пытаться ежедневно сносить уже ставшее привычным зрелище исхлестанных бичами тел, отрубленных рук, как должное воспринимать леденящие кровь истории про убийства, вымогательства, похищения людей. Порою ему казалось, что страдание, которое испытывают все без исключения конголезцы, разлито в самом воздухе, пропитывает воды реки и зелень леса, придает всему вокруг какой-то особенный тлетворный запах, некий смрад, проникающий не только в ноздри, но и в самую душу.
„Мне кажется, милая моя Ги, что я схожу с ума, – писал он кузине Гертруде из Бонганденги в тот день, когда решил начать возвращение в Леопольдвиль. – Сегодня тронемся в обратный путь. По моим первоначальным планам мы должны были достичь верховьев Конго и задержаться еще недели на две. Но, по совести сказать, материала для отчета о том, что здесь происходит, у меня собрано с избытком. И я опасаюсь, что если продолжу исследовать, до какого предела зла и бесчестья могут дойти люди, то просто не смогу написать этот отчет. Я и так на грани безумия. И неудивительно: без ущерба для своего душевного здоровья, без риска надломить психику человек не может так надолго погружаться в этот ад. Иногда, по ночам, если мне не спится, я чувствую, что надлом уже произошел. Что-то сдвинулось в моем мозгу. Я живу в постоянной тоске. И если еще немного поварюсь во всем том, что меня окружает, сам в конце концов начну истязать конголезцев, убивать их, отрубать им руки между обедом и ужином – и это ни в малейшей степени не смутит мою совесть и не испортит аппетит. Ибо именно так происходит с европейцами в этой обреченной стране“.
Впрочем, значительная часть этого пространного письма была посвящена не Конго, а Ирландии. „Да, моя милая Ги, ты вправе счесть это симптомом моего безумия, но путешествие в глубины Конго открыло мне мою собственную страну. Ее положение, ее действительность, ее будущее. В африканских джунглях мне въяве предстало истинное лицо не только Леопольда II, но и меня самого, мое собственное „я“. Неисправимого ирландца. При нашей встрече ты сильно удивишься, Ги. И с трудом узнаешь своего кузена Роджера. Мне кажется, я, по примеру некоторых змей, поменял кожу, то есть и образ мыслей, и даже в известной степени – душу“.
Так оно и было на самом деле. Все то время, что „Генри Рид“ шел вниз по течению к Леопольдвилю, где ошвартовался наконец 15 сентября 1903 года, консул едва ли обменялся со своим экипажем хоть словом. Либо сидел взаперти в тесной каютке, либо – если погода позволяла – лежал в гамаке, подвешенном на корме, а в ногах калачиком сворачивался верный Джон, такой задумчивый и притихший, словно кошмар, накрывший хозяина, краешком коснулся и его.
Стоило Роджеру подумать о стране, где прошли его детство и юность, как он, охваченный могучей ностальгией, отрешался от конголезских ужасов, которые уже так сильно поколебали его душевное равновесие и разрушили психику. Он вспоминал свои первые годы, проведенные в имении под нежной опекой матери, учение в Бэллименской школе, приезды в замок, по коридорам которого бродила тень Гэлгорма, прогулки с сестрой Ниной по равнинам Северного Антрима, столь непохожим на африканские, вспоминал, какое блаженство дарили ему походы по отрогам гор, кольцом окружавших Гленшеск, любимейшую из девяти долин этого графства, эти овеваемые ветрами вершины, откуда он иногда видел орлов, плавно парящих на раскинутых крыльях, и пик, будто бросающий вызов небесам.
А разве Ирландия – не такая же колония, как Конго? Пора бы уж ему, Роджеру Кейсменту, принять наконец истину, которую в слепом негодовании отвергали его отец и столько других ирландцев из Ольстера. И почему же то, что плохо для Конго, вдруг окажется благом для Ирландии? Разве англичане не вторглись когда-то в этот край? Разве не присоединили его к Великобритании силой, не спросясь у покоренных и завоеванных коренных жителей, точно так же, как бельгийцы – у конголезцев? Со временем насилие смягчилось, но оттого Ирландия не перестала быть колонией, утерявшей свой суверенитет по воле более могущественного соседа. Пусть даже многие и многие ирландцы не желали видеть это. Что сказал бы капитан Кейсмент, услышав такие речи? Достал свой хлыст? А как отнеслась бы к таким воззрениям мать? Должно быть, была бы потрясена, что в своем африканском одиночестве сын ее превратился в националиста – если не по образу действий, то по убеждениям. И за дни этого пути, когда вокруг не было ничего, кроме бурых вод Конго с качающимися на них листьями, ветками и стволами деревьев, Роджер принял решение: как только вернется в Европу – тотчас обложится книгами по истории и культуре Эйре[11]11
Эйре – древнее, а в 1937–1949 гг. – официальное название Ирландии.
[Закрыть], совсем ему неизвестным.
В Леопольдвиле он провел только три дня и нигде не побывал. Не в том он находился состоянии, чтобы наносить визиты высшим чиновникам и знакомым и рассказывать – то есть лгать, разумеется, – о своем путешествии по среднему и верхнему течению Конго и о впечатлениях этих месяцев. Шифрованной телеграммой Роджер известил министерство, что собрал достаточно материала, подтверждающего факты бесчеловечного обращения с коренными жителями. И спрашивал, нельзя ли ему на некоторое время обосноваться в соседней португальской колонии, чтобы поработать над отчетом в спокойной обстановке, не отвлекаясь на исполнение рутинных консульских обязанностей. Кроме того, он отослал длинный формальный протест в Верховный суд с перечнем всех бесчинств, творимых в Валле, требуя провести следствие и наказать виновных. И лично отнес этот документ в приемную. Благопристойного вида чиновник пообещал доложить обо всем прокурору, мэтру Левервиллю, как только тот вернется с охоты на слонов.