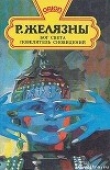Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Они слушали, что-то записывали, когда Роджер и Джозеф их об этом просили, но в ответ не произносили ничего существенного или хотя бы определенного. Ни по поводу вторжения, ни о доставке пятидесяти тысяч винтовок и боеприпасов к ним. Все это предстояло решить в зависимости от глобальной стратегии. Германская империя с сочувствием и пониманием относится к надеждам, которые питает ирландский народ, и имеет намерение поддержать их законные устремления. Дальше этого так и не пошло.
Джозеф Планкетт, ведя такую же бешено насыщенную жизнь, как и сам Кейсмент, пробыл в Германии почти два месяца, после чего пересек швейцарскую границу и через Италию и Испанию отправился на родину. Ничтожное число записавшихся в Ирландскую бригаду не огорчило его. Напротив – скорее даже обрадовало. Почему?
– Чтобы служить в бригаде, волонтерам придется нарушить присягу, которую они дали Британской империи, – объяснил он Роджеру. – Я всегда выступал против того, чтобы наши земляки шли служить в английскую армию. Но если уж пошли, то клятву, принесенную перед Богом, нельзя преступить. Это – грех и бесчестье.
Патер Кротти слушал этот разговор молча. Он за весь вечер, проведенный с ними, ни разу не вмешался и внимал поэту, говорившему без умолку. А потом доминиканец сказал Кейсменту так:
– Да, разумеется, этот юноша – особенное существо. И по уму, и по своей преданности делу, которую принято называть „беззаветной“. И верует он наподобие тех первых христиан, которых в римских цирках бросали на растерзание львам. Но есть в нем что-то и от крестоносцев, которые отвоевывали Гроб Господень, убивая нечестивых иудеев и мусульман, не щадя ни женщин, ни детей. То же исступление, тот же культ крови и смерти. Признаюсь тебе, Роджер: такие люди, пусть даже это они делают историю, не столько восхищают меня, сколько пугают.
Чаще всего в эти дни Роджер и Планкетт обсуждали, можно ли начать восстание, не дожидаясь, пока рейхсвер вторгнется в Англию или, по крайней мере, подвергнет бомбардировке порты на побережье Ирландии, где базируются британские боевые корабли. Планкетт считал, что можно и нужно: мировая война предоставляет шанс, упускать который было бы непростительной глупостью. Роджер был уверен, что действовать в одиночку, на свой страх и риск – это самоубийство. Сколь бы ни были отважны и упорны националисты, военная мощь Британии раздавит их. Потом неизбежно начнутся беспощадные репрессии. Освобождение Ирландии отодвинется еще на полвека.
– Следует ли понимать вас так, что, если начнется революция, а вторжение не последует, вы не примкнете к нам?
– Примкну немедленно. Но знайте – это будет бессмысленное самоубийство.
Планкетт поглядел ему прямо в глаза долгим взглядом, и Роджеру почудилась в нем жалость.
– Вы позволите мне говорить без обиняков, сэр Роджер, – сказал Джозеф негромко и значительно, как человек, обладающий неоспоримой истиной. – Мне кажется, вы чего-то не понимаете. Речь ведь не идет о победе. Разумеется, мы проиграем. Речь о том, чтобы держаться. Сопротивляться. Сколько-то дней или недель. И погибнуть так, чтобы наша смерть, пролитая нами кровь сделали патриотизм ирландцев силой неодолимой. Речь о том, чтобы на место каждого погибшего становилась сотня революционеров. Разве не так было когда-то с христианством?
Роджер не нашелся что ответить на это. Несколько недель после отъезда Планкетта прошли в напряженных и непрестанных трудах. Он продолжал настаивать, чтобы германские власти освободили ирландских военнопленных, которые по возрасту, состоянию здоровья, интеллектуальному и профессиональному уровню, а также – по безупречному поведению заслужили это. Такой жест вызовет в Ирландии самый благожелательный резонанс. Немцы поначалу упорствовали, но постепенно стали прислушиваться к его доводам. Составили списки, стали обсуждать кандидатов. И наконец германское командование приняло решение отпустить на свободу сотню пленных – бывших ученых, учителей, студентов, предпринимателей, не получивших в лагере взысканий. По целым часам и суткам шли ожесточенные споры, от которых Роджер, то и дело переходивший от просьб к угрозам, вконец обессилел. Помимо этого, встревоженный вполне реальной опасностью того, что „волонтеры“ пойдут за Планкеттом и Пирсом и выступят прежде, чем Германия решится атаковать Британские острова, он снова и снова требовал, чтобы Министерство иностранных дел и Адмиралтейство сказали – будет ли послан транспорт с оружием, обещанные пятьдесят тысяч винтовок? И получал уклончивые ответы до тех пор, пока на очередном совещании не услышал от графа Блихера обескураживающее:
– Сэр Роджер, вы не вполне отчетливо представляете себе масштабы. Вглядитесь в карту, и вам станет очевидно, сколь ничтожно место Ирландии в пространстве геополитики. Германская империя с живейшим сочувствием относится к вашей борьбе, но иные страны и регионы представляют для нее значительно больший интерес.
– Иными словами, господин граф, оружие мы не получим? Германия отказывается от плана вторжения?
– И то и другое – пока в стадии проработки. Если бы решающее слово было за мной, я бы отказался. В обозримом будущем, по крайней мере. Но решать не мне, а военным экспертам. Окончательный ответ мы дадим очень скоро.
Роджер написал длинное письмо Джону Девою и Джозефу Макгэррити, в очередной раз приводя свои доводы против восстания, не согласованного по времени с наступлением рейхсвера. И просил обоих употребить свое влияние на „волонтеров“ и членов „Республиканского Братства“, чтобы удержать их от безрассудных действий. Одновременно обещал приложить все усилия, чтобы добиться присылки оружия. Но завершал послание на драматической ноте: „Я потерпел поражение. Не вижу смысла оставаться здесь. Разрешите вернуться в Соединенные Штаты“.
В эти дни обострились его хвори. Артритные боли ничем не удавалось снять. Частные простуды с высокой температурой часто укладывали его в постель. Он исхудал и страдал бессонницей. В довершение бед и словно бы для того, чтобы доконать его, в газете „Нью-Йорк уорлд“ появилась заметка, без сомнения инспирированная британской контрразведкой: сообщалось, что он, сэр Роджер Кейсмент, находится в Берлине и получает огромные суммы от германского правительства на подготовку восстания в Ирландии. Он отправил в редакцию протест: „Я работаю не на Германию, но для Ирландии“, – но его не напечатали. Американские друзья отговорили Роджера подавать в суд, уверяя, что исход его будет предрешен, а „Гэльский клан“ не намерен тратить деньги на тяжбы.
Но в мае 1915-го немцы уступили настойчивому требованию Роджера отделить тех, кто записался в Ирландскую бригаду, от остальных заключенных Лимбургского лагеря. Двадцатого числа пятьдесят добровольцев, сполна испытавших на себе враждебность прежних товарищей, были переведены в маленький лагерь, размещавшийся в Цоссене, предместье Берлина. По такому случаю патер Кротти отслужил торжественную мессу, а потом было устроено нечто вроде застолья, где пели ирландские песни, и в этой сердечной обстановке Роджер несколько воспрянул духом. Он объявил солдатам, что на будущей неделе они получат новое обмундирование, сшитое по его собственным эскизам, а вскоре прибудет сколько-то ирландских офицеров, которые будут руководить обучением. Все они, завершил Роджер, рядовые первой роты Ирландской бригады, войдут в историю как первопроходцы и застрельщики великого деяния.
Вскоре после этого он отправил еще одно письмо Джозефу Макгэррити, где описывал открытие Цоссенского лагеря и, признаваясь, что в предыдущем послании чрезмерно поддался унынию, просил прощения. Тогда он был весь во власти мрачных мыслей, но сейчас начал судить о происходящем с большим оптимизмом. Приезд Планкетта, открытие лагеря взбодрили его. Он намерен и впредь работать с Ирландской бригадой. При всей своей малочисленности глубоко символичную роль, которую она может играть на европейском театре военных действий, недооценивать нельзя.
Летом того же года он уехал в Мюнхен. Остановился в „Баслер-Гоф“, скромной чистенькой гостинице. Баварская столица действовала на Роджера не так угнетающе, как Берлин, хотя здесь он вел жизнь одинокую и замкнутую. Ему по-прежнему нездоровилось, боли и простуды принуждали подолгу оставаться в номере. Но это не сказывалось на его работоспособности. Он пил много кофе и беспрерывно курил сигареты из черного табака, отчего комнату заволакивало дымом. Регулярно сносился со своими партнерами из МИДа и Адмиралтейства и ежедневно посылал патеру Кротти длинные письма, заполненные размышлениями о духовности и религии. Ответные письма перечитывал по многу раз и хранил как сокровище. Однажды попробовал помолиться. Он уже давно не делал этого: по крайней мере, не делал так вот – сосредоточившись, пытаясь открыть Богу сердце, поведать о своих сомнениях, тревогах, о боязни заблуждений, прося милосердия и руководства в дальнейших действиях. Иногда набрасывал краткие заметки о том, как Ирландии в будущем избежать ошибок и, воспользовавшись опытом других стран, не допустить коррупции и угнетения, как сократить дистанцию, отделяющую богатых от бедных, могущественных – от немощных. Но тотчас спохватывался – что ему делать с этими записями? Не стоит отвлекать ирландских друзей мыслями о будущем, если они так глубоко погружены в настоящее, так полно захвачены и увлечены им.
В конце лета, немного оправившись, Роджер отправился в Цоссен. Волонтеры уже щеголяли в новых мундирах и кепи с ирландской кокардой. Лагерь содержался в порядке и функционировал исправно. Однако полсотни солдат держали взаперти, и от безделья они томились унынием, как ни старался капеллан Кротти подбодрить их. Он устраивал спортивные соревнования, конкурсы, читал лекции, проводил диспуты. Роджеру показалось, что настал самый благоприятный момент, чтобы дать им стимул.
И, рассадив их вокруг себя полукольцом, рассказал, что можно сделать, чтобы выйти из Цоссена и получить свободу. Если сейчас нельзя сражаться в самой Ирландии, то почему бы не вступить в бой где-нибудь еще, где идет та же битва, ради которой и создавалась бригада? Мировая война охватила даже Ближний Восток. Германия и Турция пытаются отнять у Великобритании ее владения в Египте. Почему бы им, ирландцам, не принять участие в этой борьбе против колониализма и не принести Египту независимость? Численность бригады пока невелика, она не сможет действовать как отдельная войсковая часть, но будет национальным ирландским формированием.
Этот план раньше уже обсуждался с германскими военными и был принят ими. Согласились и Джон Девой, и Макгэррити. Турция была готова включить бригаду в состав своей армии на условиях, предложенных Роджером. После долгих споров тридцать семь ирландцев решили отправиться воевать в Египет. Остальные попросили дать им время на размышления. Впрочем, и тех и других несравненно сильнее волновало нечто гораздо более насущное: военнопленные из Лимбургского лагеря пригрозили, что сообщат об отступниках британским властям, и те лишат их оставшиеся в Ирландии семьи пенсий, положенных всем, чьи ближайшие родственники находятся на фронте или в плену. Если это произойдет, их отцы, матери, жены и дети умрут с голоду. Что скажет по этому поводу сэр Роджер Кейсмент?
Для него было совершенно очевидно, что британцы непременно пойдут на это и по отношению к нему самому. Вглядываясь во встревоженные лица вокруг, он сумел лишь заверить солдат, что их семьи не будут брошены на произвол судьбы. Если правительство перестанет выплачивать пенсии, патриотические организации возьмут это на себя. В тот же день Роджер написал в „Клан“, прося создать фонд помощи семьям, которые могут пострадать от таких действий. Сам он, впрочем, иллюзий не питал: деньги, попадавшие в казну „волонтеров“, ИРБ и „Клана“, шли прежде всего на закупку предметов первой необходимости – то есть оружия. В тоске и смятении он твердил себе, что по его вине пятьдесят бедных семейств будут голодать, быть может, заболеют туберкулезом и не переживут наступающей зимы. Доминиканец пытался успокоить его, теперь на Роджера его резоны не подействовали. И еще одна тревога прибавилась к тем, что не терзали его, – все недуги его обострились от этого. Было плохо не только физически – он чувствовал, что теряет душевное равновесие, как случалось в самые трудные периоды в Конго и Амазонии. Казалось порой, что его голова обращается в извергающийся вулкан. Неужели он теряет рассудок? Вернувшись в Мюнхен, он продолжал слать в США и в Ирландию письма, требуя организовать помощь семьям добровольцев. Поскольку письма эти, чтобы сбить со следа британскую разведку, шли кружными путями, через несколько стран, где меняли конверты и адреса, то и ответы запаздывали на месяц или два. Хлопоты его были в самом разгаре, когда прибыл наконец Роберт Монтейт и взял на себя все чисто военные вопросы. Капитан, сочетавший с редкостной порядочностью жизнелюбие и высокий дух авантюризма, привез и официальное обещание – если семьи волонтеров будут лишены пенсий, ирландские революционеры немедленно подадут им руку помощи.
Едва оказавшись в Германии, Монтейт немедленно приехал в Мюнхен знакомиться с Кейсментом, к которому питал давнее восхищение и потому обращался с подчеркнутой почтительностью. Он не ожидал увидеть его в столь бедственном состоянии. По словам Монтейта, никто в Ирландии даже не подозревает, что здоровье Роджера подорвано до такой степени. Но Кейсмент запретил ему распространяться на эту тему и вместе с ним вернулся в Берлин. Представил капитана чиновникам германского министерства иностранных дел и Адмиралтейства. Монтейту не терпелось поскорее взяться за дело и начать военную подготовку бригады, чье будущее видел в самом радужном свете, чего никак нельзя было сказать о Роджере, ибо тот в глубине души считал, что затея его провалилась. Но в течение тех шести месяцев, что Монтейт провел в Германии, он – как и патер Кротти – был для Кейсмента просто Божьим благословением. Оба они не давали ему погрузиться в беспросветность уныния и подавленности, от которых порой бывало недалеко и до безумия. Монах и капитан были совсем разными людьми, и каждый, как не раз говорил себе Роджер, воплощал в себе грань ирландского национального характера – воителя и святого. Общаясь с ними, он часто вспоминал свои разговоры с Патриком Пирсом, когда тот отождествлял алтарь и оружие, уверяя, что при слиянии двух ипостасей – мистика-мученика и воина-героя – высвобождается та духовная и физическая сила, которая и разобьет цепи, сковывающие Эйре.
Да, эти двое были непохожи друг на друга, но оба от природы были наделены такой чистотой, великодушием и преданностью высокому идеалу, что Роджер, видя, что они не тратят времени на колебания настроения, на праздные умствования и бесплодные самокопания, стыдился порой за свои душевные метания и бесконечные сомнения. Каждый из них, раз вступив на свою стезю, шел ею и с нее не сворачивал и не страшился возникающих препон, потому что был уверен: в конце пути непременно увидит, как восторжествует Бог над силами зла, а Ирландия – над своими угнетателями. „Учись у них, уподобляйся им и будь как они“, – повторял Роджер как заклинание.
Роберт Монтейт был очень близок к Тому Кларку, которого попросту обожествлял. И о его табачной палатке на углу Грейт-Бритн-стрит и Сэквилл-стрит, где размещался подпольный штаб ирландских националистов, говорил как о святилище. По словам капитана, именно оттуда старый лис, выживший после стольких лет заключения в английских тюрьмах, определял всю революционную стратегию. Разве не достойно это восхищения? Стоя за прилавком своей лавчонки в центре Дублина, этот пожилой, малорослый и тщедушный, согбенный годами и недугами человек, отдавший всю жизнь борьбе за Ирландию, отбывший за нее пятнадцать лет тюремного срока, сумел создать „Ирландское Республиканское Братство“ – военно-политическую тайную организацию, чья сеть охватила всю страну, – и не попасться в руки британской полиции. Роджер осведомился у капитана, в самом ли деле ИРБ так сильно и разветвлено, как об этом говорят.
– У нас есть роты, взводы, отделения, которыми командуют офицеры, – с восторгом отвечал тот. – Есть свои арсеналы, своя система связи, шифров и паролей. – Не думаю, что найдется в Европе другая армия, которая была бы столь же боеспособна и столь же четко сознавала, что и когда ей надлежит делать.
Опять же по словам Монтейта, все было готово. Остановка только за германским оружием: как только оно будет получено, немедленно начнется восстание.
Капитан без промедления взялся за дело – начал обучать и муштровать полсотни цоссенских добровольцев. Он несколько раз посещал Лимбургский лагерь, пытаясь преодолеть предубеждение остальных ирландских военнопленных по отношению к бригаде. Удалось уговорить еще нескольких человек, но подавляющее большинство по-прежнему относилось к этой идее с открытой враждебностью. Однако не было на свете силы, которая заставила бы капитана пасть духом, опустить руки, отчаяться. Его письма к Роджеру, снова уехавшему в Мюнхен, были исполнены воодушевления: им были проникнуты все рассказы о жизни крошечного отряда.
Когда спустя несколько недель Роджер вернулся в Берлин, они обедали в маленьком ресторанчике, где любили сходиться румынские беженцы. Капитан вдруг расхрабрился и, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть Роджера, сказал ему:
– Сэр, не считайте, что я вмешиваюсь не в свое дело, и простите, если то, что я скажу, покажется вам дерзостью. Но поверьте – так больше продолжаться не может. Вы представляете слишком большую ценность для Ирландии и для нашего общего дела. Заклинаю вас – во имя тех идеалов, ради которых вы сделали так много… Покажитесь врачу. У вас нервы не в порядке. Это бывает. И немудрено. Ответственность и заботы сделали свое дело. Вам нужна помощь.
Роджер в ответ пробормотал нечто уклончивое, а потом заговорил о другом. Однако слова капитана встревожили его. Неужели его душевное состояние так бросается в глаза, что даже Монтейт, такой неизменно почтительный и сдержанный, осмелился заговорить об этом? Роджер запомнил это и вскоре решился посетить доктора Оппенхайма, жившего за городом, среди рощ и ручьев Грюнвальда. Врач был уже стар и внушал доверие, ибо казался человеком опытным. У них было две долгие консультации, и Роджер описал ему свое состояние, пожаловался на бессонницу и страхи. Потом его подвергли подробнейшему опросу и заставили пройти мнемотехнический тест. И наконец доктор Оппенхайм сообщил, что ему непременно следует лечиться в санатории. В противном случае его уже начавшаяся душевная болезнь будет прогрессировать. Он сам позвонил в Мюнхен и договорился, что доктор Рудольф фон Хёсслин, его коллега и выученик, положит Роджера к себе в клинику.
Роджер отказался от госпитализации, но раза два в неделю несколько месяцев кряду приходил к нему на прием. Это помогло.
– Ничего удивительного, что после всего того, чего вы навидались в Конго и Амазонии, ваша психика пошатнулась, – говорил ему доктор. – Любопытно, что вы не испытываете тяги к самоубийству и не впадаете в буйство.
Рудольф фон Хёсслин, молодой еще человек, был вегетарианец по вкусам, меломан по склонности души и пацифист по убеждениям. Он выступал против этой – как и любой другой – войны и мечтал, что однажды по всей земле исчезнут границы, воцарится всеобщее братство – „кантианский мир“, как он любил повторять. Роджер выходил от него приободренный и успокоенный. Однако не был уверен, что ему в самом деле стало лучше. Ибо всякий раз, когда в жизни ему встречался такой вот добросердечный и душевно здоровый идеалист, он на какое-то время обретал былое равновесие.
Несколько раз он побывал в Цоссене, где, как и следовало ожидать, капитан Монтейт завоевал сердца всех новобранцев. Более того – благодаря его неустанным стараниям число их увеличилось еще на десять человек. Обучение и подготовка шли прекрасно. Но солдаты и офицеры лагерной охраны по-прежнему обращались с ними как с военнопленными: сурово, а порой – не без жестокости. Капитан сделал представление Адмиралтейству, прося, чтобы, как это было обещано Роджеру, ирландцам ослабили режим, разрешили время от времени выходить за пределы лагеря и они, например, могли выпить пива в местной таверне. Союзники они или нет? Почему же в таком случае к ним относятся, как к врагам? До сих пор, впрочем, Монтейт не получил ни малейшего отклика.
Роджер заявил протест. И устроил скандал командиру Цоссенского гарнизона генералу Шнайдеру, который сказал, что не может дать потачку тем, кто постоянно нарушает дисциплину, ибо в лагере происходят драки и даже отмечены случаи воровства. Монтейт все эти обвинения назвал ложью. Если и бывали инциденты, то лишь в тех случаях, когда охранники и надзиратели оскорбляли заключенных.
Последние месяцы в Германии Роджер вел постоянные и порой очень напряженные дебаты с правительственными чиновниками. И до самого его отъезда из Берлина ощущение, что его обманули, только нарастало. Берлин не был заинтересован в независимой Ирландии, никогда не рассматривал всерьез идею совместных действий с ирландскими революционерами, МИД и Адмиралтейство воспользовались его доверчивостью и простодушием, заставив мечтать о несбыточном. Тщательнейшим образом подготовленный проект, предусматривавший, что Ирландская бригада будет вместе с турецкой армией воевать против англичан в Египте, был остановлен – причем безо всяких объяснений – именно в тот момент, когда начал обретать реальные очертания. Циммерман, граф Георг фон Ведель, капитан Надольни и прочие офицеры, принимавшие участие в разработке этого плана, внезапно сделались неуловимы и начали избегать его. Под вздорными предлогами Роджера перестали принимать. Если же все-таки удавалось с кем-либо встретиться, немцы, неизменно ссылаясь на страшную занятость, говорили, что могут уделить беседе лишь несколько минут, Египет же – вообще вне сферы их компетенции. И Роджеру пришлось смириться и принять как данность, что Ирландская бригада – маленький символ борьбы ирландцев против колониализма – рассеялась дымом. И вслед за тем так же пламенно и неистово, как еще недавно Роджер восхищался Германией, он проникся к ней сперва горькой досадой, а потом и ненавистью – едва ли не большей, чем к Англии. В письме к нью-йоркскому адвокату Джону Куинну, пересказав обиды и унижения, которые пришлось вытерпеть от немцев, он писал: „Да, друг мой, я возненавидел их с такой силой, что предпочел бы окончить свои дни в британской петле, нежели здесь“.
От непреходящего раздражения и сквернейшего самочувствия ему пришлось вернуться в Мюнхен. Доктор Рудольф фон Хёсслин очень настоятельно советовал ему лечь в баварскую клинику санаторного типа и приводил сокрушительно убедительные аргументы: „Вы стоите на грани душевной болезни и не сможете избежать ее, если не отдохнете как следует и не отрешитесь от всего на свете. В ином случае вы рискуете лишиться рассудка или, в лучшем случае, навсегда, до конца дней своих превратиться в никчемное слабоумное существо“.
Роджер прислушался к его словам. И на несколько дней его жизнь обрела такой покой, что порой он сомневался – жизнь ли это? Снотворные заставляли его спать по десять-двенадцать часов. Потом он совершал долгие прогулки в соседней роще, где росли ясени и клены – по утрам было еще холодно, как будто зима наотрез отказывалась покидать эти места. Ему запретили курить и пить, посадили на строгую вегетарианскую диету. Ни читать, ни писать ему не хотелось, и он проводил целые часы без единой мысли в голове, и сам себе казался призраком, фантомом прежнего Роджера.
Этот сомнамбулический покой нарушил Роберт Монтейт, ворвавшийся к нему в одно мартовское солнечное утро 1916 года. Дело было столь важное, что капитан добился разрешения правительства посетить Кейсмента. Он был под столь сильным впечатлением от чего-то, что путался в словах и запинался:
– За мной в Цоссен прибыл курьер и доставил меня в Берлин, в Адмиралтейство. Там меня ожидала большая группа офицеров – и среди них два генерала. Сообщили следующее: „Временный комитет определил дату восстания – 23 апреля“. То есть через полтора месяца.
Роджер вскочил с кровати. Показалось, что вялость улетучилась в один миг, а сердце превратилось в барабан, раскативший частую дробь боевой тревоги. Говорить он не мог.
– Они просят прислать винтовки, карабины, пулеметы, патроны, – продолжал, захлебываясь от волнения, Монтейт. – Корабль, который доставит этот груз, должна сопровождать подводная лодка. Пункт выгрузки – Фенит в бухте Трали, в графстве Керри. Дата – Светлое воскресенье, около полуночи.
– Иными словами, германского наступления ждать не будут, – выговорил наконец Роджер. Он представил себе гекатомбу и красные от крови воды Лиффи.
– Курьер привез также инструкции для вас, сэр Роджер. Вы должны будете оставаться в Германии в качестве посла новой Республики Ирландия.
Роджер в тоске снова повалился на кровать. Товарищи не сочли нужным известить его о начале восстания прежде, чем германское правительство. Более того – приказывают ему оставаться здесь, покуда сами будут гибнуть, ввязавшись в безумную авантюру, что так по сердцу Патрику Пирсу и Джозефу Планкетту. Что же, они не доверяют ему? Иного объяснения нет. Зная, что он возражает против восстания, не согласованного по срокам с действиями рейхсвера, они сочли, что там, в Ирландии, он станет им помехой, так что пусть лучше сидит сложа руки в Германии в странной должности посла несуществующей республики, появление которой из-за этого восстания и неизбежных рек крови будет отодвинуто на еще сколько-то десятилетий, а скорей всего сделается и вовсе несбыточной химерой.
Монтейт молча ждал.
– Мы немедленно едем в Берлин, – сказал Роджер, поднимаясь окончательно. – Пока я буду одеваться, соберите мой чемодан. Мы выезжаем первым же поездом.
Так и было сделано. Роджер успел торопливо нацарапать несколько благодарных строк доктору Рудольфу фон Хёсслину. Весь долгий путь до Берлина он напряженно обдумывал положение, время от времени делясь мыслями с капитаном. И сумел выработать четкую линию поведения. Личные его проблемы отошли на задний план. Главным было теперь выполнить просьбу товарищей – добиться, чтобы немцы прислали оружие, боеприпасы и офицеров-инструкторов: весь свой ум, всю энергию он должен бросить на это. Затем – самому привезти транспорт с оружием в Ирландию и попытаться все же отсрочить выступление: мировая война может создать более благоприятный момент. В-третьих, во что бы то ни стало воспрепятствовать тому, чтобы пятьдесят трех добровольцев отправили в Ирландию. Если Королевский флот перехватит корабль, и они попадут в плен, британское правительство немедленно казнит их за переход на сторону противника. Монтейту будет предоставлена полная свобода самому решать, что делать. Но Роджер, зная его, не сомневался, что капитан вместе со своими товарищами умрет за дело, которому посвятил жизнь.
В Берлине они, как обычно, поселились в отеле „Эдем“. Наутро начались переговоры с немцами, проходившие в уродливом и несуразно огромном здании Адмиралтейства. Капитан Надольни встретил их у входа и провел в большую комнату, где сидели люди из МИД и военного ведомства. Среди знакомых лиц Роджер заметил и несколько новых. С самого начала было жестко и недвусмысленно заявлено, что германское командование отказывается посылать своих офицеров в качестве советников и инструкторов.
Зато по вопросу оружия и боеприпасов компромисса достигли быстро. В течение многих часов велись расчеты – как наиболее надежным способом доставить транспорт в указанную точку и в нужное время. И вот решили наконец, что груз пойдет на „Ауде“, отремонтированном и перекрашенном трофейном британском корабле, и под норвежским флагом. Ни Роджера, ни Монтейта и ни одного солдата Ирландской бригады на нем не будет. Этот пункт вызвал жаркие споры, однако немцы не уступили: присутствие ирландцев на судне может испортить всю игру, которая заключается в том, чтобы выдать его за норвежское, если же обман откроется, рейх будет скомпрометирован в глазах международного общественного мнения. Тогда Роджер и Монтейт стали требовать, чтобы их доставили в Ирландию одновременно с оружием, пусть и иным способом и на другом корабле. Несколько часов кряду длились дебаты – Роджер доказывал, что, если окажется в Ирландии, сможет уговорить руководителей восстания отложить его до тех пор, пока военный перевес не склонится в сторону Германии, что в этих более благоприятных обстоятельствах позволит Адмиралтейству осуществить совместную операцию флота и сухопутных сил. Наконец Кейсменту удалось настоять на своем; решили, что его и Монтейта отправят туда на подводной лодке, и сопровождать их будет один представитель Ирландской бригады.
Решение Роджера не допускать бригаду до участия в восстании неприятно поразило немцев. Однако он ни за что не хотел, чтобы эти пятьдесят три человека сложили головы на плахе, не получив хотя бы возможности погибнуть в бою. Еще и эту ответственность он на свои плечи взваливать не желал.
Седьмого апреля его уведомили, что субмарина готова к походу. По выбору Монтейта представлять бригаду должен был сержант Дэниэл Джулиан Бейли. Его снабдили подложными документами на имя Джулиана Биверли. Немцы сообщили Роджеру, что в назначенный день, после 22 часов, у северной оконечности острова Иништускерт в проливе Трали „Ауд“ не с пятьюдесятью, а всего лишь с двадцатью тысячами винтовок, десятью пулеметами и пятью миллионами патронов на борту будет ожидать лоцман на баркасе или катере, который обозначит себя двумя зелеными фонарями.
С 7-го и до выхода в море Кейсмент не сомкнул глаз. Он написал завещание, прося, чтобы в случае его смерти весь его архив был передан Эдмунду Морелю, „человеку исключительно благородному и справедливому“, с тем чтобы тот с помощью этих документов смог спасти его репутацию.
Хоть Монтейт, как и Роджер, не сомневался, что восстание обречено на провал, он не находил себе места от нетерпения. Кейсмент и Монтейт больше двух часов проговорили с глазу на глаз в тот день, когда капитан Бём на случай ареста вручил им ампулы с ядом – амазонским кураре, убивающим мгновенно. „Мой старинный знакомец, – с улыбкой заметил Роджер. – В Путумайо я видел, как туземцы стрелами, пропитанными кураре, парализуют в воздухе птиц“. Потом они с Монтейтом отправились в соседнюю пивную.
– Представляю, до чего вам тяжко уезжать вот так, не простившись с нашими добровольцами, ничего им не объяснив, – сказал Роджер.