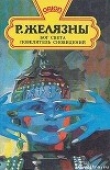Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Глава VII
– Вы меня ненавидите и даже не можете это скрыть, – сказал Роджер Кейсмент.
Смотритель, сначала оторопев, кивнул и скорчил гримасу, от которой пухлое лицо перекосилось. – Мне незачем что-то скрывать, – пробормотал он. – Однако вы ошибаетесь. Никакой ненависти. Только презрение. Изменники иного не заслуживают.
Они шли по выложенному закопченным кирпичом коридору в комнату свиданий, где ждал тюремный капеллан патер Кейси. Через зарешеченные оконца Кейсмент видел затянутое темными тучами небо. Что там, снаружи? Дождь льет на Кэледониан-роуд и Роман-уэй, по которой много столетий назад через леса, заваленные костями, шли первые римские легионеры? Он представил себе, как по соседству, на рынке в Излингтонском парке штормовой ветер рвет набухшие дождевой влагой навесы над палатками. И на миг позавидовал покупателям и продавцам, кутающимся в плащи и накрывающимся зонтами.
– У вас было все, – бурчал у него за спиной смотритель. – Ответственные дипломатические поручения. Награды. Король возвел вас в рыцарское достоинство. А вы продали нас немцам. Это ли не подлость? Это ли не самая низкая неблагодарность?
Роджеру показалось, что тот вздохнул.
– Всякий раз, как вспоминаю своего бедного сына, нашедшего смерть в окопах, думаю, что вы, мистер Кейсмент, – один из его убийц.
– Соболезную, – не поворачиваясь, ответил Роджер. – Знаю, вы мне все равно не поверите, но я пока никого еще не убил.
– И теперь уж не убьете, – изрек смотритель. – Хвала Всевышнему.
Они были уже у дверей комнаты для свиданий. Смотритель остался снаружи, рядом с дежурным. Свидания наедине разрешались только с капелланом, во всех иных случаях при беседах непременно присутствовал смотритель или надзиратель, а то и оба вместе. Роджер обрадовался, увидев тонкий силуэт священника. Патер Кейси шагнул к нему навстречу и протянул ему руку.
– Я послал запрос и уже получил ответ, – с улыбкой возвестил он. – Память вас не подвела. Вы и в самом деле были крещены в раннем детстве в приходе Рил, в Уэльсе. Об этом имеется соответствующая запись в церковной книге. При таинстве присутствовали ваша матушка и две ее сестры – ваши тетки. Вам нет необходимости возвращаться в лоно католической церкви, ибо вы пребываете в нем и никогда его не покидали.
Роджер Кейсмент кивнул. Стало быть, безмерно далекое, смутное воспоминание, сопровождавшее его всю жизнь, было истинным. Мать окрестила мальчика втайне от мужа, когда в очередной раз гостила у родных в Уэльсе. От сознания, что они с Энн Джефсон вступили когда-то в тайный заговор, его душа наполнялась ликованием. И еще сильнее делалось оно от согласия с самим собой, с матерью и с Ирландией. Как если бы его близость к католицизму была естественным следствием всего того, что он сделал и пытался сделать в последние годы, и даже – его заблуждений, провалов и неудач.
– Я читал Фому Кемпийского, отец мой, – сказал он. – Раньше мне не удавалось сосредоточиться на чтении. Но вот на днях сумел наконец. Несколько часов в день посвящаю его трактату „О подражании Христу“. Прекрасная книга.
– В семинарии мы много читали святого Фому, – кивнул патер. – Особенно – „О подражании Христу“.
– У меня становится легче на душе, когда удается проникнуть в его страницы, – сказал Роджер. – И кажется, будто из этого мира переношусь в другой, где нет забот и тревог, а действительность преображена чистой духовностью. Отец Кротти был совершенно прав, когда так настойчиво рекомендовал мне ее – тогда, в Германии. Правда, едва ли мог он представить себе, в каких обстоятельствах возьмусь я за его любимого Фому Кемпийского.
Не так давно в комнате для свиданий поставили небольшой диванчик. Роджер и Кейси сели. Их колени соприкоснулись. Патер уже больше двадцати лет служил капелланом в лондонских тюрьмах и проводил в последний путь многих приговоренных к смертной казни. Постоянное общение с обитателями тюремных камер не очерствило его. Он сохранил участливость, был внимателен и с первой встречи расположил Роджера к себе. Ни разу не позволил себе упомянуть о том, что могло бы ранить или задеть узника, скорее напротив – и вопросы задавал, и разговаривал удивительно бережно и деликатно. Рядом с ним Роджеру неизменно становилось легче. Всегда казалось, что, даже когда патер Кейси – долговязый, очень костлявый, белокожий, с седеющей острой бородкой – смеется, в глазах у него стоят непролитые слезы.
– Что же собой представлял этот отец Кротти? – спросил он. – Вижу, что там, в Германии, вы с ним сумели найти общий язык.
– Если бы не он, я просто сошел бы с ума за месяцы, проведенные в лагере в Лимбурге, – ответил Роджер. – Он был совсем не похож на вас – внешне, я хочу сказать, не похож. Много ниже вас ростом, плотный, краснолицый, а после первой кружки пива делался еще румяней. Впрочем, у вас с ним есть и кое-что общее. Я имею в виду великодушие.
Кротти, ирландский монах-доминиканец, был отправлен Ватиканом в германский лагерь для военнопленных, расположенный в Лимбурге. В те месяцы 1915–1916 годов, когда Роджер пытался сформировать из своих соотечественников Ирландскую бригаду, дружба с этим человеком оказалась просто спасительной.
– У него был стойкий иммунитет к унынию, – сказал Роджер. – Я вместе с ним навещал больных, прислуживал при совершении треб, молился. Да, он тоже был националистом. Хоть и не столь пламенным, как вы, отец мой.
Патер улыбнулся.
– Нет, не подумайте, что он пытался вернуть меня в лоно католичества. Всегда вел себя с редкостным тактом, чтобы не создалось впечатление, будто он хочет обратить меня. Это со мной случилось само, где-то вот здесь. – Роджер дотронулся до своей груди. – Помните, я ведь говорил вам, что никогда не был человеком религиозным. С тех пор как не стало моей матери, религия неизменно оставалась для меня чем-то вторичным и механически-формальным. И молиться я начал лишь в 1903 году, после трехмесячного путешествия в глубь Конго – помните, я рассказывал? Когда мне показалось, что при виде такого обилия страданий лишаюсь рассудка. В те дни я и понял, что без веры человек жить не может.
Он почувствовал, что голос его вот-вот дрогнет, и замолчал.
– Это отец Кротти открыл вам святого Фому?
– Он преклонялся перед ним, – кивнул Роджер. – И подарил мне экземпляр „О подражании Христу“. Но в ту пору читать было некогда. Дел было столько, что голова шла кругом. И я оставил книгу в Германии, в чемодане. На субмарину мы погрузились налегке, без багажа. Хорошо, что вы принесли мне другой экземпляр. Боюсь только, что дочитать не успею.
– Британское правительство пока еще не пришло ни к какому решению, – сказал на это патер. – Не следует терять надежду. За стенами этого учреждения – очень и очень много людей, которые вас любят и прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы прошение о помиловании было удовлетворено.
– Я знаю, знаю, отец мой… Так или иначе, мне нравится, что вы приуготавливаете меня… И я хотел бы, чтобы церковь приняла меня с соблюдением всех формальностей. Я хочу исповедаться. Причаститься.
– Для этого я и пришел сюда, Роджер. И уверяю вас, что вы уже готовы для всего этого.
– Мне не дает покоя одно мучительное сомнение, – сказал Кейсмент, понизив голос, словно их кто-то мог подслушать. – А что, если я обратился к Богу оттого, что мне стало страшно? Потому что, говоря начистоту, отец мой, мне и в самом деле страшно. Очень страшно.
– Господь мудрее и вас, и меня, – твердо произнес священник. – И мне кажется, Христос не усмотрит ничего дурного в том, что человек испытывает страх. Уверен, Ему и самому было страшно по пути на Голгофу. Чувство это присуще нам как ни одно другое. Все мы боимся, и это – в природе человеческой. Довольно иногда малой малости, чтобы ощутить свое бессилие и ужаснуться. Роджер, ваше приближение к вере – чисто. Я знаю это.
– Смерть никогда не пугала меня прежде. Я много раз смотрел ей в глаза. В Конго, в экспедициях по диким местам, где на каждом шагу подстерегали клыки и когти хищников. В Амазонии, где в реках кипят водовороты, а вокруг, по берегам – столько беглых. И сравнительно недавно – когда у берегов Трали в шторм высадился с субмарины на шлюпку, и казалось, что мы вот-вот пойдем ко дну. Много раз смерть была совсем близко. Но тогда страха не было. А сейчас – есть.
Он осекся и закрыл глаза. Вот уже несколько дней кряду накатывали на него волны ужаса: стыла кровь в жилах, замирало сердце. Все тело сотрясалось от дрожи. Он делал попытки успокоиться – но тщетно. Он слышал, как стучат у него зубы, и к острой панике примешивался стыд. Сейчас, открыв глаза, он увидел, что патер, склонив голову, сложил руки и молится, беззвучно и еле заметно шевеля губами.
– Прошло, – смущенно пробормотал Роджер. – Пожалуйста, простите меня.
– Не надо стесняться меня. Бояться и плакать – это в природе человеческой.
Роджер уже успокоился. В Пентонвиллской тюрьме стояла такая тишина, словно заключенные и надзиратели в трех ее огромных корпусах под двускатными крышами все разом умерли или уснули.
– Я благодарен вам, что не спрашиваете меня, соответствуют ли действительности те мерзости, которые, кажется, распускают обо мне.
– Я не читал об этом, Роджер. И когда кто-то пытается рассказать мне это, прошу его умолкнуть. Так что я даже не знаю, о чем идет речь.
– Да и я тоже, – улыбнулся Роджер. – Здесь нам не дают газет. Помощник моего адвоката сказал как-то – это настолько гнусно, что ставит под угрозу исход моего прошения о помиловании. Предел морального падения, нечто совершенно отвратительное и подлое, насколько я могу судить.
Священник слушал его, не теряя своего обычного спокойствия. Когда они в первый раз беседовали здесь, в тюрьме, он рассказал Роджеру, что его дед и бабка между собой разговаривали по-гэльски, но при детях переходили на английский. Патер Кейси тоже не сумел выучить древний ирландский язык.
– Да и лучше мне не знать, в чем меня обвиняют. Элис Стопфорд Грин считает, что эта акция предпринята правительством, чтобы сбить поднявшуюся в обществе волну поддержки.
– В мире политики ничего исключать нельзя. Из всего, чем занят человек на этом свете, политика – не самое чистое и светлое.
Послышался осторожный стук в дверь, потом она приоткрылась, и в щель просунулась массивная голова смотрителя:
– Осталось пять минут, отец Кейси.
– Начальник тюрьмы дал мне полчаса. Разве он вас не предупредил?
Смотритель изобразил удивление:
– В самом деле? Ну, раз вы говорите, значит, так и есть. Простите в таком случае, что помешал. Значит, у вас еще двадцать минут.
Голова исчезла, и дверь закрылась.
– Какие вести из Ирландии? – спросил Роджер так внезапно, словно решил резко сменить тему разговора.
– Расстрелы, судя по всему, прекращены. Общественное мнение – и не только в Ирландии, но и здесь, в Англии, было возмущено массовыми расправами. Сейчас правительство объявило, что все задержанные по делу о Пасхальном восстании предстанут перед трибуналом.
Роджер Кейсмент не слушал его. Он глядел в маленькое, забранное решеткой оконце. Видел только квадратик сероватого неба и размышлял над парадоксом: его судили и приговорили к смерти за провоз оружия, необходимого для восстания в Ирландии, тогда как на самом деле рискованное и отчасти бессмысленное путешествие из Германии к побережью Трали было предпринято ради того, чтобы попытаться избежать выступления, которое, судя по тому, как его готовили, было загодя обречено на неминуемый провал. Неужели это и есть История? Та, какой учат детей в школах? Та, какую пишут ученые? Более или менее внятное и связное, проникнутое идиллическими мотивами, приглаженное изложение того, что на самом деле – на деле суровом и жестком – было хаотической смесью замыслов, рисков, случайностей, интриг, непредвиденных совпадений, переплетением чьих-то многообразных и разнонаправленных интересов, порождавшим обмен движениями встречными и попятными вместе с невообразимой путаницей – и всегда оказывалось неожиданным, всегда разительно отличалось от того, что предполагалось или даже проживалось в реальности персонажами этого действа.
– Весьма вероятно, я войду в историю как один из тех, кто несет ответственность за „мятеж на Святой неделе“, – насмешливо сказала он. – Но мы-то с вами знаем: я прибыл сюда, рискуя жизнью, чтобы попытаться отсрочить его начало.
– Ну да, кроме нас с вами это никому не известно, – засмеялся патер, воздев палец.
– Теперь наконец мне лучше, – подхватил его смех Роджер. – И моя паника улеглась. В Африке мне приходилось видеть, как людей – и белых, и черных – внезапно охватывало отчаяние. В лесной чащобе, например, когда непонятно, куда идти дальше. Или когда оказывались на территории племени, которое наши проводники считали враждебным. Или когда на быстрине переворачивалась лодка. Или в деревнях, когда колдуны начинали ритуальные песнопения и пляски на радении. Теперь я знаю, что это умопомрачение вызывается страхом. Может быть, и мистики впадали в подобный транс? Может быть, в таком состоянии, когда замирают все телесные рефлексы и сам человек словно подвешен в воздухе, и происходит его встреча с Богом?
– Что ж, не исключено, – ответил патер. – Не исключено, что мистики проходят тот же путь, что и все, кому приходилось впадать в транс. Поэты, музыканты, маги.
Наступило продолжительное молчание. Время от времени Роджер искоса посматривал на священника и видел, что тот сидит неподвижно и с закрытыми глазами. „Он молится обо мне, – подумалось ему. – Он умеет сострадать. А как ужасно, должно быть, всю жизнь помогать людям, которым предстоит умереть на эшафоте“. Отец Кейси никогда не бывал ни в Конго, ни в Амазонии, но, должно быть, не хуже его понимал, каких головокружительных высот могут достигать жестокость и отчаяние.
– Я долго, много лет, был безразличен к религии, – проговорил Роджер очень медленно, словно обращаясь к самому себе, – но никогда не переставал верить в Бога. В самый общий, первичный принцип жизни. Да, разумеется, отец мой, я часто спрашивал себя в испуге и изумлении: „Как может допускать Он, чтобы творилось такое? Что же это за Бог, если Он терпит, чтобы столько тысяч мужчин, женщин, детей страдали и мучились так страшно?“ А ведь это и в самом деле нелегко понять, не так ли? А вы, столького навидавшись в тюрьмах, разве никогда не задаете себе этот вопрос?
Священник открыл глаза и слушал его, не возражая и не соглашаясь. Лицо его теперь приняло иное выражение.
– Эти несчастные, исхлестанные бичами, изувеченные люди, эти дети с отрубленными руками и ногами, умирающие от голода и болезней, – нараспев продолжал Роджер. – Эти существа, которых непосильной работой обрекают на смерть или убивают, не дожидаясь ее. Убивают тысячами, десятками, сотнями тысяч. И это делают люди, воспитанные в христианстве. Я своими глазами видел, как они идут к мессе, молятся, причащаются – до и после совершенных ими злодейств. Много дней кряду я боялся сойти с ума, отец мой. И не исключено, что там, в Африке и потом в Амазонии, я и впрямь лишился рассудка. И все, что происходило потом, натворил безумец, хоть он и сам об этом не подозревал.
Капеллан и на этот раз ничего не сказал. И продолжал слушать терпеливо и с тем участием, которое неизменно вызывало у Роджера благодарность.
– И вот что любопытно: именно там, в Конго, когда я совсем пал духом и постоянно спрашивал себя, как может Господь допускать подобные преступления, меня опять стала интересовать религия. Потому что единственными, кто сумел сохранить там здравый рассудок, были баптистские пасторы да еще несколько католических миссионеров. Не все, разумеется. Многие не желали видеть дальше собственного носа. Но были и такие, кто изо всех своих сил противостоял несправедливости. Они – истинные герои.
Он замолчал. Вспоминать Конго и Путумайо было мучительно – это переворачивало душу, порождало образы, от которых его охватывали тоска и тревога.
– Несправедливости, мучения, злодеяния… – тихо произнес капеллан. – Не испытал ли все это на себе сам Христос? Он лучше всех способен понять, что у вас на душе, Роджер. Конечно, и со мной порой творится то же, что и с вами. Полагаю, так бывает с каждым, кто верует. Кое-что так трудно поддается осмыслению. Наша способность понимать ограничена. Мы несовершенны, мы порочны. Но вот что я могу вам сказать. Подобно любому смертному, впадали в заблуждения и вы. Но в том, что касается Конго и Амазонии, вам себя упрекнуть не в чем. Вы вели себя отважно и великодушно. Вы открыли глаза многим и помогли исправить великие несправедливости.
„Все то доброе, что мне удалось сделать, ныне разрушено этой кампанией, устроенной, чтобы опорочить меня“, – подумал Роджер. Обычно он старался гнать от себя эти мысли. С капелланом ему было хорошо еще и потому, что в его присутствии он мог говорить лишь то, что хотел. Священник поразительно угадывал все, что было бы неприятно Роджеру, и умело избегал подобных тем. А иногда они подолгу сидели рядом, не произнося ни слова. И одно присутствие патера Кейси возвращало заключенному душевное равновесие, запаса которого хватало, чтобы еще несколько часов оставаться в кротком и покойном умиротворении.
– Если прошение о помиловании отклонят, вы будете рядом со мной до конца? – спросил он, не глядя на капеллана.
– Да, конечно, – отвечал тот. – Вы не должны об этом думать. Ничего еще не решено.
– Знаю, отец мой. Я еще не потерял надежду. Но мне делается легче, когда я знаю, что вы проводите меня. Это придаст мне сил. И жалок я не буду, обещаю вам.
– Хотите, мы вместе помолимся сейчас?
– Поговорим еще немного, если можно. Это будет мой последний вопрос касательно того, что меня ждет. Если меня казнят, можно ли будет увезти мое тело в Ирландию и захоронить там?
Он почувствовал, что капеллан колеблется. И, подняв на него глаза, увидел: немного побледневший Кейси качает головой. И это дается ему нелегко.
– Нет, Роджер. Если это все же случится, ваш прах предадут земле на тюремном кладбище.
– Значит, на вражеской территории, – пробормотал Кейсмент, безуспешно попытавшись пошутить. – В стране, которую я теперь возненавидел с такой же силой, как когда-то в юности любил.
– Ненависть ничего не дает, – вздохнул капеллан. – Англия может вести скверную политику. Но достойных и порядочных англичан – такое множество…
– Я знаю. И неизменно повторяю себе это всякий раз, как ненависть к этой стране переполняет меня. Но ничего не могу с собой поделать. Наверно, это оттого, что в юности я слепо верил в империю и в то, что Великобритания цивилизует мир. Знай вы меня в те годы, просто потешались бы надо мной.
Капеллан кивнул, а Роджер, усмехнувшись, добавил:
– Говорят, нет хуже новообращенных. Друзья всегда упрекали меня за это. За переизбыток страсти.
– Пресловутый ирландский норов, – с улыбкой ответил Кейси. – Помнится, в детстве, когда я безобразничал, мать говорила мне: „Ну, вылез бешеный ирландец…“
– Если хотите, вот сейчас мы можем помолиться, отец мой.
Капеллан склонил голову. Потом закрыл глаза, соединил ладони и очень тихо забормотал нараспев „Отче наш“, а потом „Аве Марию“. Роджер тоже опустил веки и стал беззвучно молиться. Какое-то время – машинально и бездумно, не в силах ни настроиться на нужный лад, ни отогнать крутящиеся в голове мысли. Но мало-помалу молитва захватила его. Когда смотритель, постучав в дверь, вошел и объявил, что осталось пять минут, Роджер был уже всецело сосредоточен на молитве.
Каждый раз в такие минуты он вспоминал о матери, видел перед собой тонкую фигуру в белом платье, в соломенной широкополой шляпе с синей, развевающейся в воздухе лентой. Мать шла под деревьями. Где? В Уэльсе? В Ирландии? В Антриме? На Джерси? Он не знал этого, но пейзаж был так же прекрасен, как улыбка, игравшая на лице Энн Джефсон. Как гордился маленький Роджер, когда, вселяя в него такую уверенность и радость, руку его держала нежная и мягкая рука матери! Молитва проливалась ему в душу целительным бальзамом, возвращала туда, где благодаря матери все в его жизни было прекрасно и счастливо.
Капеллан спросил, не надо ли что-нибудь передать на волю или принести, когда в следующий раз – через несколько дней – он придет сюда в очередной раз.
– Я хочу, отец мой, лишь снова увидеться с вами. Вы и не знаете даже, как благотворно действует на меня ваше присутствие и самый звук вашего голоса.
Они простились, пожав друг другу руки.
В длинном, сыроватом коридоре у Роджера неожиданно для него самого вдруг вырвалось:
– Я соболезную вам. У меня нет детей. Но думаю, что нет в жизни ничего ужасней, чем потерять сына.
Смотритель издал какой-то негромкий горловой звук, но не произнес ни единого членораздельного слова. В камере Роджер улегся на койку и взял в руки „О подражании Христу“. Однако сосредоточиться на чтении не сумел. Буквы прыгали перед глазами, и в голове, несясь безумной каруселью, вспыхивали и гасли какие-то картины. Снова появлялась и исчезала фигура Энн Джефсон.
Как сложилась бы его жизнь, если бы мать не умерла молодой, если бы она была жива и видела, как сын ее растет, взрослеет, мужает? Вероятней всего, тогда он не уехал бы искать приключений в Африку. Остался бы в Ирландии или, перебравшись, к примеру, в Ливерпуль, преуспел бы на службе и вел тусклое, пристойное и уютное существование в кругу семьи. И сам улыбнулся – нет, подобный образ жизни едва ли пришелся бы ему по нраву. То, что он предпочел, при всех издержках подходило ему несравненно больше. Он повидал мир, безмерно расширил свой кругозор, лучше понял жизнь, и человеческую природу, и суть колониализма, и трагедию стольких народов, так сильно поплатившихся за то, что заблуждались на этот счет.
Проживи Энн Джефсон дольше, он не открыл бы для себя печальную и прекрасную историю Ирландии – ту историю, которую никогда не преподавали в Бэллименской школе и до сих пор скрывают от детей и подростков Северного Антрима. Им до сих пор еще внушают, что империя, захватившая Ирландию, уничтожившая ее традиции, язык и независимость, оказывается, подняла до высот цивилизации эту варварскую страну, чье прошлое недостойно ни упоминаний, ни памяти, просветила ее и вывела к современному развитию. Все это он понял и усвоил в Африке, и если бы матери был отпущен иной срок жизни – никогда бы не провел там лучшие годы юности и ранней зрелости, не испытал бы такой гордости за страну, в которой родился, и такой жгучей обиды за то, что сделала с ней Великобритания.
А были ли оправданны те жертвы, что принес он за двадцать лет, проведенных в Африке, и семь – в Южной Америке, и год с лишним – в самом сердце амазонской сельвы, и еще около года, ознаменованного одиночеством, болезнями и чередой разочарований, в Германии? Деньги никогда не имели для него значения, но в самом деле – не глупо ли, что, так тяжко проработав всю жизнь, он остался бедняком? На его текущем счете лежат сейчас десять фунтов стерлингов. Он никогда не умел копить. И все, что получал, всегда тратил на других – помогал троим братьям, вносил немалые суммы в благотворительные и гуманитарные организации вроде Ассоциации за преобразование Конго и в ирландские националистические общества вроде „Гэльской лиги“ или „Школы Святого Энды“, куда на протяжении многих лет перечислял целиком свое жалованье. И для того, чтобы иметь возможность жертвовать, вел самую воздержанную и аскетичную жизнь: к примеру, подолгу снимал номера в самых дешевых пансионах, отнюдь не соответствовавших его положению (о чем обиняками давали ему понять сослуживцы по Министерству иностранных дел). Теперь, когда он потерпел крах, никто не вспоминает его взносов, даяний, подарков и прочего. Помнят только его поражение.
Но не это самое скверное. Здесь опять возникает этот нечестивый замысел, будь он проклят. Моральное падение, извращения, пороки, вся эта мерзость, столь присущая роду человеческому. Британское правительство очень хотело бы, чтобы, говоря о Роджере Кейсменте, вспоминали только это. Не подорванное тяготами африканской жизни здоровье, не желтуху, не изнурительные приступы малярийной лихорадки, не артриты, не геморрой и прочие неприятности, доставлявшие ему столько страданий и стыда с тех пор, как в 1893 году впервые пришлось удалить анальную фистулу. „Что же вы так долго тянули с этим? Три-четыре года назад это была бы пустячная процедура, а теперь довольно серьезное вмешательство“. – „Я живу в Африке, доктор, в Боме, а тамошний врач – запойный пьяница с трясущимися от белой горячки руками. Неужто было обращаться к нему, к человеку, который разбирается в медицине хуже какого-нибудь знахаря?“ И он мучился от этого чуть ли не всю жизнь. Несколько месяцев назад, в лагере под Лимбургом, у него было очередное кровотечение, и, накладывая швы, мрачный военный врач-немец действовал так грубо. Роджер был уже тяжелобольным человеком, когда принял решение взять на себя расследование зверств, творимых над сборщиками каучука в Амазонии. И, хотя знал, что это займет у него несколько месяцев и не принесет ничего, кроме новых неприятностей, все же не пошел на попятную, потому что считал, что обязан работать ради торжества справедливости. А ведь если его казнят, и об этом тоже никто не вспомнит.
А неужто патер Кейси в самом деле отказался читать о тех скандальных мерзостях, в которых Роджера Кейсмента обвиняет пресса? Какой хороший, какой понимающий человек этот капеллан… Если все же придется умереть, его присутствие поможет сохранить достоинство до конца, до последней секунды. Смятение охватывало Роджера с ног до головы. Не так ли происходило с теми несчастными конголезцами, которых укус мухи це-це погружал в сонное забытье, не давал двинуть рукой и ногой, пошевелить губами или хотя бы держать глаза открытыми? Может быть, и думать тоже? Но с ним дело обстояло иначе: на его несчастье, глубочайшая тоска лишь обостряла ясность рассудка, подхлестывала работу мозга, превращая его в подобие пылающего костра, жадно пожирающего ветви. А вот те страницы дневника, которые представитель Адмиралтейства передал журналистам и которые привели в такую ярость посланца адвоката Даффи, – подлинны или это фальшивка? Он подумал о том, какое важное, срединное место занимает глупость в природе всякого человека, а значит, и его, – Роджера Кейсмента. В пору своей дипломатической службы он отличался особой, щепетильной осмотрительностью: было принято считать, что консул и шагу не ступит, пока не взвесит, не просчитает предварительно всех возможных последствий. А вот теперь леденеет здесь, глупейшим образом угодив в ловушку, которую сам себе мастерил всю жизнь, словно бы для того, чтобы теперь дать своим врагам возможность утопить его в позоре и бесчестье. Он с удивлением и будто со стороны услышал собственный раскатистый хохот.