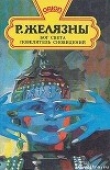Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
В июле Роджер вернулся в Лондон: ему предстояло пройти медицинскую комиссию, назначенную министерством, чтобы удостовериться, что представленные им резоны для увольнения со службы основательны. Роджер, который, несмотря на лихорадочную деятельность последних месяцев, чувствовал себя неплохо, полагал, что все это будет чистой проформой. Вышло иначе: врачи обнаружили, что артрит зашел далеко, затронув позвоночник и коленные суставы. Избавиться от него невозможно, но, если упорно лечиться и вести жизнь тихую, покойную и упорядоченную, можно остановить процесс. Если же болезнь будет прогрессировать, больного ждет неподвижность. Министерство приняло отставку и, учтя его состояние, назначило Кейсменту вполне достойную пенсию.
Перед возвращением в Ирландию он решил побывать в Париже у Герберта и Сариты Уордов, давно звавших его в гости. Роджеру радостно было повидаться с ними в тепле их дома – миниатюрной частицы Африки. Покуда Герберт показывал ему новые работы – скульптурные изображения мужчин, женщин, животных – и сыпал анекдотами, в голове Роджера безостановочно всплывали воспоминания о той эпохе, когда они вместе участвовали в экспедициях Стэнли и Генри Шелтона Сэнфорда. О том, сколь много узнал он от Герберта, слушая рассказы о его приключениях по всему миру, о колоритных людях, которых тот встречал в своих странствиях по Австралии. Герберт мало изменился за протекшие годы – был все так же остер умом, бодр и весел духом и в будущее смотрел с уверенностью и надеждой. Его жена, американка Сарита, получившая крупное наследство, была ему под стать – находила вкус в приключениях и богемной жизни. Супруги понимали друг друга без слов. Исходили пешком всю Францию и Италию. И сыновей воспитали в том же духе – привили им неугомонное любопытство к жизни и космополитическую широту взглядов. Сейчас оба учились в Англии и приезжали в Париж на каникулы. Дочь – Сверчок – жила с родителями.
Уорды повели его обедать в ресторан на Эйфелевой башне, откуда открывался вид на мосты через Сену и панораму парижских кварталов, а потом – в „Комеди Франсэз“, где в тот вечер давали мольеровского „Мнимого больного“.
Однако в те дни, что Роджер провел с четой Уордов, не все было так приязненно, благостно и дружелюбно. Они с Гербертом и прежде ожесточенно спорили о многом и расходились во мнениях и оценках радикально, однако это никогда не влияло на их добрые чувства: напротив, разногласия словно бы подпитывали и укрепляли их. На этот раз было иначе. Однажды вечером они сцепились так яростно, что Сарите пришлось вмешаться и заставить их сменить тему.
Герберт всегда относился к национализму Роджера с терпеливой и мягкой иронией. Но в тот вечер обвинил друга в том, что эту идею он воспринимает с чрезмерной, едва ли не фанатической пылкостью, не пытаясь поверить ее доводами рассудка.
– Если большинство ирландцев желает отделиться от Великобритании – то все прекрасно, светло и ясно. Но я не думаю, что Ирландия много выиграет от того, что приобретет собственный флаг, герб и президента. И ни одна из ее социальных или экономических проблем не разрешится благодаря этому. И, по моему мнению, гораздо лучше была бы автономия, за которую ратует Джон Редмонд и его сторонники. А ведь они тоже ирландцы, не так ли? И значительное их число возражает против твоих планов отделения. Хотя, по правде сказать, не это меня беспокоит. А твоя нетерпимость, Роджер. Раньше ты хоть пытался аргументировать. А теперь с пеной у рта проклинаешь страну, которая и для тебя, и для твоего отца и братьев была родной. Которой ты так самоотверженно и доблестно служил столько лет. И которая щедро воздала тебе по заслугам. Возвела тебя в рыцарское звание, удостоила высших своих орденов. Разве для тебя это ничего не значит?
– И что же – в знак признательности прикажешь превратиться в колониалиста? – перебил его Кейсмент. – Счесть благом для Ирландии то, что мы с тобой считали бедствием для Конго?
– Между Ирландией и Конго, сдается мне, разница большая. Может, на полуострове Коннемара британцы отрубают туземцам руки и бичами спускают шкуру со спины?
– В Европе методы колонизации – иные, более утонченные. Но не менее жестокие.
Последние дни в Париже Роджер старался в разговорах не касаться больше Ирландии. Не хотел, чтобы это пагубно повлияло на его отношения с Гербертом. И горестно признавался самому себе, что, несомненно, в будущем, когда его всерьез затянет политическая борьба, они с Гербертом будут неуклонно отдаляться друг от друга, пока дружба – самая тесная из всех, какие случались в его жизни, – не погибнет окончательно. „Неужто я и впрямь становлюсь фанатиком?“ – не раз и с тревогой спрашивал он себя.
Вернувшись в Дублин в конце лета, Роджер уже не смог возобновить занятия гэльским языком. Политическая жизнь в стране, оживляясь с каждым днем все больше, требовала его каждодневного участия. В ноябре 1912 года палата общин одобрила билль о „гомруле“, то есть о созыве в Ирландии парламента и предоставлении ей весьма значительной административной и экономической свободы – произошло то, за что так рьяно ратовала Ирландская парламентская партия Джона Редмонда. Однако спустя два месяца палата лордов отклонила законопроект. Зимой 1913 года в Ольстере – цитадели юнионистов, где тон задавало протестантское, англофильское большинство, – противники автономии во главе с Эдвардом Генри Карсоном развернули неистовую кампанию протеста. Созданная ими организация „Ольстерских волонтеров“, насчитывавшая более сорока тысяч членов, представляла собой немалую силу, готовую в случае надобности сопротивляться „гомрулю“ с оружием в руках. Сторонники Редмонда продолжали отстаивать автономию. Палата общин одобрила билль и во втором чтении, но палата лордов вновь наложила вето. Двадцать третьего сентября юнионисты преобразовали свой Совет во Временное правительство Ольстера, а иными словами – заявили о намерении отделиться от остальной Ирландии, если та все же добьется автономии.
Роджер Кейсмент – теперь уже под своим именем – начал писать в газетах националистического толка, резко критикуя юнионистов Ольстера. Постоянно предавал гласности дискриминацию, которой подвергалось в этих графствах католическое меньшинство – рабочих увольняли с заводов, муниципалитетам срезали ассигнования. „При виде того, что творится в Ольстере, – утверждал он в одной из статей, – я перестаю чувствовать себя протестантом“. И неустанно объяснял читателям, что деятельность „ультра“ разделит ирландский народ на два враждующих лагеря, что в будущем может привести к самым трагическим последствиям. И бичевал англиканских священников, своим молчанием поощряющих подобную политику.
Хотя в политических дискуссиях он весьма скептически отзывался о том, что „гомруль“ способен даровать Ирландии независимость, но в статьях все же высказывал надежду – если поправки не выхолостят суть закона, страна, получив собственный парламент, возможность избирать свое правительство и право распоряжаться своими доходами, окажется на пороге настоящей суверенности. Если это обеспечит процветание, так ли уж важно, что оборона и внешние сношения останутся в руках Лондона?
Как раз в эти дни он крепче сдружился еще с двумя ирландцами, посвятившими жизнь защите, изучению и распространению кельтского языка, профессором Оуином Макниллом и Патриком Пирсом. Роджер вскоре после знакомства проникся симпатией к этому непреклонному и неустрашимому воителю за честь отчизны и ее язык. Пирс еще подростком вступил в „Гэльскую лигу“ и посвятил себя литературе, журналистике и преподаванию. Он основал и возглавил две первые в стране двуязычные школы – мужскую, Святого Энды, и женскую, Святой Иты, – призванные отстаивать и развивать гэльский язык в качестве национального. Писал стихи и пьесы, памфлеты и статьи, доказывая, что, покуда не возрожден кельтский, нечего и говорить о независимости, ибо в культурном отношении Ирландия останется колонией. Пирс был в этом вопросе бескомпромиссен до такой степени, что Уильяма Батлера Йейтса, который впоследствии так восхищал его, в юности называл предателем за то, что тот писал по-английски. Пирс, которого не портила легкая косина, был человек застенчивого нрава, крепкого сложения и внушительного вида, обладал поразительной работоспособностью и умением завораживать толпу пылкостью своих речей. Если дело не шло о кельтском языке и о независимости, в кругу тех, кому доверял, он становился обаятельным, общительным, словоохотливым и остроумным, неистощимым на выдумки – он веселил друзей, изображая то старуху-нищенку, просящую подаяния в центре Дублина, то бесстыжую уличную девицу, прогуливающуюся у дверей таверн. Пирс был холост, жил монахом, деля квартиру с матерью и младшими братьями, не пил и не курил; никто не слышал, чтобы у него были возлюбленные. Самым близким ему человеком был неразлучный с ним брат Уилли, скульптор и учитель рисования в школе Святого Энды. На фронтоне этого здания, окруженного холмами Рэтфарнема, Пирс велел высечь слова героя древнеирландских саг Кухулина: „Если деяния мои запомнятся навсегда, мне все равно, сколько я проживу“. Ходили слухи, будто Пирс хранит целомудрие. Он не просто ревностно и неукоснительно соблюдал и исполнял все обряды, предписанные католической верой, но и умерщвлял плоть, доходя до таких крайностей, как власяница и частые посты. Роджер Кейсмент, в ту пору глубоко погруженный в неотделимые от политической жизни интриги, козни и ожесточенные дискуссии, не раз говорил себе, что, вероятно, стойкая симпатия, которую неизменно вызывал у него Пирс, объясняется тем, что он – один из очень немногих известных ему политиков, не лишенных юмора, не ищущих никакой личной выгоды, безразличных к власти и увлеченных лишь своими идеями и принципами. Впрочем, его беспокоило, что Патрик с упорством одержимого видит в ирландских патриотах современную версию первых христиан. „Подобно тому как кровь мучеников окропила семя христианства, так на нашей крови прорастет свобода Ирландии“, – писал он в одной из статей. „Красиво сказано, – подумал тогда Роджер. – Но есть в этом нечто гибельное“.
В нем самом политика пробуждала двойственные чувства. С одной стороны, она придавала его жизни неведомую до сих пор насыщенность и полноту – наконец-то он и телом, и душой служил Ирландии! – но с другой, он с постоянной досадой смотрел, как впустую тратится время на нескончаемые дискуссии, предваряющие, а зачастую – и парализующие любое соглашение, любое действие, как интриги, мелкая игра честолюбий и соперничество перемешиваются с высокими идеалами и повседневными задачами. Он слышал и читал, что политика, как и все, что так или иначе связано с властью, проявляет и все самое лучшее, что есть в человеке, – идеализм, самопожертвование, великодушие, и самое скверное – жестокость, честолюбие, зависть, обидчивость. Теперь же убедился, что так оно и есть. Сам он был лишен политических амбиций, и власть его не влекла. Может, Роджер не нажил себе врагов в националистическом движении именно поэтому, а не только благодаря своей громкой, едва ли не мировой известности, которую стяжала ему борьба за права туземцев в Конго и в Амазонии. Так он, по крайней мере, полагал, ибо к нему с уважением относились люди, друг друга не переносившие. Осенью 1913 года он поднялся на трибуну, впервые попробовав свои силы как политический оратор.
В конце августа он приехал в столь памятный ему по впечатлениям детства и юности Ольстер – с намерением объединить тех протестантов, которые не разделяли крайних взглядов пробритански настроенных радикалов во главе с Эдвардом Карсоном: рьяно ратуя против „гомруля“, они открыто, на глазах у властей, обучали военному делу своих боевиков. Роджер выступал на манифестации в ратуше Белфаста. В дождливый день 24 октября 1913 года перед аудиторией, состоявшей из пятисот человек, он произнес первую в жизни речь, которую, чтобы не сбиться от волнения, накануне написал и выучил наизусть. И Роджера не покидало ощущение, что, поднимаясь на эту трибуну, он делает решительный шаг и что отныне пути назад уже нет. И что с этой минуты жизнь его будет безраздельно посвящена делу, которое, по всему судя, сулит опасностей не меньше, чем конголезские джунгли или амазонская сельва. И его речь, в которой он с выношенным убеждением постарался опровергнуть мысль о том, что его соотечественников разделяют одновременно и вероисповедание, и политические взгляды (католики хотят обособиться, протестанты не мыслят себя вне Британской империи), и призывал к „союзу всех ирландцев, как бы ни разнились их идеалы и воззрения“, была встречена громом рукоплесканий. Элис Стопфорд Грин обняла его и шепнула на ухо: „Вот попомнишь мое слово… Предрекаю тебе большое будущее“.
Потом Роджеру будет казаться, что в последовавшие за этим восемь месяцев он только и делал, что поднимался на трибуны и произносил речи. Уже очень скоро он перестал готовить текст и, набросав несколько основных тезисов, импровизировал. Он изъездил Ирландию вдоль и поперек и постоянно принимал участие в дискуссиях, собраниях, „круглых столах“, встречах (иногда публичных, иногда – тайных) – и на протяжении многих часов, отказывая себе в еде и отдыхе, спорил, доказывал, убеждал, предлагал. Столь полное погружение в политическую жизнь порою радостно будоражило его, но порой порождало глубокую тоску. И в моменты душевного упадка Роджера снова терзали боли в пояснице и бедре.
В конце 1913-го и в начале 1914-го политическое напряжение в Ирландии усилилось. Противостояние сторонников автономии или полной независимости с одной стороны и ольстерских юнионистов – с другой достигло такого накала, что вот-вот грозило перерасти в настоящую гражданскую войну. В ноябре 1913-го в ответ на появление „Ольстерских волонтеров“ Эдварда Карсона началось формирование „Ирландской гражданской армии“, чьим вдохновителем был профсоюзный лидер Джеймс Коннолли. Заявленная цель этих военизированных отрядов состояла в защите рабочих от агрессии хозяев и властей. Первый командующий этой армией, капитан Джек Уайт, прежде чем обратиться к ирландскому национализму, много лет беспорочной службы отдал войскам Британской империи. О создании АИГ сообщалось в декларации, написанной Роджером Кейсментом, которого в эти дни направили в Лондон собирать средства для национального движения.
Почти одновременно с этим по инициативе Оуина Макнилла и при содействии Кейсмента возникли „Ирландские волонтеры“. Эта организация с момента своего появления опиралась на подпольное „Ирландское Республиканское Братство“, боровшееся за полную независимость страны. Руководил им Том Кларк – владелец безобидной табачной лавочки, служившей отличным прикрытием, фигура легендарная в кругах националистов. Он провел в британских тюрьмах пятнадцать лет по обвинению в терроризме. Потом попал в Соединенные Штаты, и уже оттуда лидеры „Гэльского клана“ (американской ветви ИРБ) направили его в Дублин с тем, чтобы он, как истинный гений подполья, наладил нелегальную сеть. И Том Кларк, в свои 52 года бодрый, неутомимый и точный, сделал это. Британская контрразведка так и не смогла выйти на его след. Обе организации тесно сотрудничали, хоть это и не всегда проходило гладко, и многие патриоты были членами и той и другой одновременно.
Роджер Кейсмент работал с профессором Оуином Макниллом и Патриком Пирсом над текстом декларации о создании „волонтеров“ и 25 ноября 1913 года присутствовал среди многих других в дублинской „Ротонде“ на первом их собрании. Как и предлагали они с Макниллом, „волонтеры“ с самого начала стали военизированной организацией, призванной набирать, обучать и вооружать своих членов, разбитых на взводы, роты и полки по всей Ирландии на случай боевых действий, которые, судя по тому, как накалялась обстановка, казались совершенно неизбежными.
Роджер с головой погрузился в эту деятельность. Так он познакомился, сблизился и крепко подружился с вождями „Ирландских волонтеров“: среди них было на удивление много поэтов и писателей – таких, как Томас Макдонах, драматург и университетский профессор, юный Джозеф Планкетт, который, несмотря на болезнь легких и врожденное увечье, излучал необыкновенную энергию. Он был столь же ревностным католиком, как Пирс, увлекался мистической литературой и был одним из создателей „Театра Аббатства“. С ноября 1913-го по июль 1914-го Роджер дни и ночи посвящал новому делу. Выступал на митингах и в крупных городах – Дублине, Белфасте, Лондондерри, Корке, Голуэе, Лимерике, – и в маленьких поселках и деревнях, и аудиторию его составляли то сотни человек, то лишь десяток. Он начинал свои речи очень спокойно („Я протестант из Ольстера и отстаиваю право Ирландии на суверенитет и освобождение от британского господства“), однако, постепенно распаляясь, впадал в полное неистовство. И почти всегда его награждали овацией.
Одновременно он разрабатывал стратегические планы „волонтеров“. И был одним из тех руководителей, кто упорно отстаивал необходимость вооружаться, ибо только оружие способно действенно поддержать борьбу за суверенитет, которая, как твердо был убежден Роджер, в конце концов непременно будет решена не политическими, но военными средствами. Денег на покупку оружия не было, и следовало убедить ирландцев, любящих свободу, быть к „волонтерам“ пощедрее.
Так родилась идея направить Роджера Кейсмента в Соединенные Штаты. Помимо собственных экономических ресурсов, у тамошней ирландской диаспоры имелась и возможность развернуть кампанию по сбору средств. Кому же было возглавить ее, как не самому известному в мире ирландцу? „Волонтеры“ решили согласовать этот проект с Джоном Девоем, лидером могущественного „Гэльского клана“, объединявшего многочисленную ирландскую общину США. Сам Девой работал в подполье еще с отрочества и по обвинению в терроризме получил пятнадцать лет тюрьмы. Но отбыл только пять. Потом завербовался в Иностранный легион и служил в Алжире. В 1903-м учредил в Соединенных Штатах газету „Гэлик Америкен“, установил тесные связи с представителями истеблишмента, что немало способствовало росту влияния „Гэльского клана“.
Покуда Девой изучал предложение, Роджер с прежним жаром занимался „волонтерами“ и их военной подготовкой. Он подружился с полковником Морисом Мором, генеральным инспектором этой организации, и сопровождал его в поездках по всему острову, проверяя, как идет обучение и насколько надежны тайные склады с оружием. По настоянию Мора Роджера ввели в состав главного штаба.
Несколько раз его отправляли в Лондон, где под председательством Элис Стопфорд Грин нелегально действовал комитет, занимавшийся не только сбором средств, но и тайными закупками в Англии и на континенте винтовок, револьверов, гранат, пулеметов и боеприпасов, которые потом столь же тайно ввозили в Ирландию. Там, на Гроувнор-роуд, в беседах с Элис и ее друзьями Роджер узнал, что скорая война – отныне уже не возможность, а стремительно надвигающаяся реальность: все политики и интеллектуалы, посещавшие салон Элис, были единодушно уверены, что Германия уже решилась, и вопрос уже не в том, будет ли война, а в том, когда именно она будет.
Роджер сменил квартиру, перебравшись в Малахайд, северное предместье Дублина, но из-за бесчисленных разъездов редко ночевал у себя. Вскоре ему сообщили, что Королевская ирландская полиция возбудила против него дело и что он взят под наблюдение. Это стало лишним поводом ускорить отъезд в Америку: Роджер счел, что там он принесет больше пользы националистическому движению, чем если останется здесь и попадет за решетку. Джон Девой уведомил его, что руководители „Клана“ приветствуют его появление в США. Все были уверены – он сумеет усилить приток и ускорить сбор пожертвований.
Роджер согласился, но отложил отъезд из-за подготовки некоего проекта, которым очень увлекся: 23 апреля 1914 года исполнялось 900 лет со дня битвы при Клонтарфе, где ирландцы под командованием Брайана Бору разгромили норманнов. Макнилл и Пирс помогали ему, но прочие руководители националистов считали юбилейные торжества зряшной тратой времени. Зачем, спрашивали они, расходовать силы на „археологию“, если современность представляет несравненно большую важность? Не стоит отвлекаться. Это мнение возобладало, и затея Роджера провалилась, как и другое его начинание – он затеял сбор подписей за то, чтобы на Олимпийские игры Ирландия выставила собственную национальную сборную.
Готовясь к отъезду, он, как и прежде, часто выступал на митингах, почти всегда – вместе с Пирсом, Макниллом и Макдонахом. Митинги проходили в Корке, Голуэе, Килкенни. В день Святого Патрика он взошел на трибуну в Лимерике, где состоялась самая крупная манифестация из всех, какие ему доводилось видеть в жизни. Ситуация в стране меж тем ухудшалась день ото дня. Вооруженные до зубов ольстерские юнионисты проводили парады и учения так открыто и даже демонстративно, что британское правительство вынуждено было принять меры и перебросить в Северную Ирландию армейские части и корабли. Случившийся в это самое время эпизод, который окрестили „Куррахским бунтом“, оказал сильнейшее воздействие на политические идеи Кейсмента. Дело было так: когда британские воинские части были приведены в боевую готовность, чтобы воспрепятствовать возможному вооруженному выступлению „ультра“, генерал Артур Пэджит, главнокомандующий войсками в Ирландии, уведомил Лондон – значительная часть офицеров местного гарнизона заявила, что потребует его отставки, если только он отдаст приказ действовать против „Ольстерских волонтеров“ Эдварда Карсона. Британское правительство уступило шантажу – никто из офицеров не был наказан.
После этого происшествия Роджер понял окончательно: „гомруль“ никогда не станет реальностью, потому что британское правительство, будь то кабинет, сформированный либералами или же консерваторами, его не допустит. Ожидания Джона Редмонда и всех, кто вместе с ним надеется на автономию, будут снова и снова обмануты. Для Ирландии это – не решение. Ей нужна не автономия, а независимость, обыкновенная, простая суверенность, которую никто не предоставит стране по доброй воле. Ее придется вырвать силой – силой политики или оружия – ценой огромных жертв и героических деяний. Так хотят Пирс и Планкетт. Так обрели свою свободу все народы, населяющие Землю.
В апреле 1914 года в Ирландии появился немецкий журналист Оскар Шверинер. Он собирался написать серию очерков о бедняках Коннемары. И разыскал Роджера, столь активно помогавшего им при эпидемии тифа. Они вместе отправились на полуостров, посетили рыбачьи деревни, осмотрели недавно открытые больницы и школы. Роджер немедленно перевел статьи Шверинера для „Айриш индепендент“. В беседах с этим человеком, сочувствовавшим его националистическим устремлениям, у Кейсмента возникла и укрепилась мысль, что в случае военного конфликта Великобритании с Германией последняя может способствовать независимости Ирландии. Получив такого могущественного союзника, его отчизна получит шанс добиться от империи того, чего едва ли сможет достичь собственными слабыми усилиями. В среде „волонтеров“ идею одобрили. Она многим приходила в голову и раньше, но неминуемость войны придала ей новое значение.
В этих обстоятельствах стало известно, что „Ольстерские волонтеры“ Эдварда Карсона тайно выгрузили в порту Ларн и ввезли в город 216 тонн оружия. С учетом уже имевшегося в их распоряжении это давало юнионистам огромный перевес над националистами. Роджеру пришлось ускорить сборы в США.
Но перед тем ему пришлось вместе с Оуином Макниллом отправиться в Лондон на переговоры с Джоном Редмондом, главой Ирландской парламентской партии, который вопреки всякой очевидности был уверен, что билль об автономии будет принят. И находил все новые доказательства доброй воли британского правительства. Редмонд, человек тучный, был на удивление подвижен да и говорил с пулеметной скоростью. И его безмерная самоуверенность только усиливала неприязнь, которую давно испытывал к нему Роджер. Почему он сумел завоевать в Ирландии такую популярность? Его главный тезис – автономия должна быть получена при сотрудничестве и дружеских отношениях с Англией – поддерживало огромное большинство народа. Но Роджер не сомневался, что народное доверие начнет падать по мере того, как общество убедится: „гомруль“ – не более чем мираж, который очень пригодился британскому правительству как средство расколоть ирландцев и, посеяв меж ними рознь, лишить возможности к сопротивлению.
Более всего во время их свидания раздражали Роджера утверждения Редфорда о том, что, если начнется война, ирландцы должны сражаться вместе с англичанами – это вопрос столь же принципиальный, сколь и стратегический: и, завоевав таким образом доверие и британского правительства, и всего общества, обретут желанную автономию. Кроме того, он требовал, чтобы двадцать пять представителей его партии были введены в Исполнительный комитет „волонтеров“, на что те в конце концов вынуждены были согласиться, желая сохранить единство. Но даже и эта уступка не заставила Редфорда изменить свое мнение о Кейсменте, которого он продолжал обвинять в „революционном радикализме“. Тем не менее Роджер написал ему два любезных письма, призывая действовать так, чтобы не вносить раскол в ряды ирландцев, каковы бы ни были временные, тактические расхождения. И уверял, что, если „гомруль“ станет реальностью, он, Роджер Кейсмент, первым поддержит его. Но если британское правительство, дрогнув перед ольстерскими экстремистами, так и не введет в Ирландии автономию, националистам придется избрать иную стратегию.
Роджер выступал на митинге в Кушендане 28 июня 1914 года, когда пришла весть, что в Сараеве сербский террорист застрелил австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда. Поначалу никто не придал особого значения этому событию, которое спустя всего несколько недель стало поводом для начала Первой мировой войны. Последнюю же свою речь в Ирландии Роджер произнес 30 июня. Он уже охрип от того, что приходилось столько говорить.
А через неделю он тайно отплыл из Глазго в Монреаль на пароходе „Кассандра“: его название стало символом того будущего, что ожидало Роджера. Кейсмент отправился в Америку под чужим именем. Мало того – отринув прежнюю привычку к франтовству, оделся как нельзя более скромно, сбрил бороду и переменил прическу. Впервые за долгое время он мог наслаждаться покоем. И еще – с удивлением отметил, что лихорадка последних месяцев загадочно и благотворно подействовала на его здоровье – артрит почти не мучил его. Боли прекратились, а если и возобновлялись, то были слабее, чем прежде. В поезде из Монреаля в Нью-Йорк он приготовил доклад для Джона Девоя и других лидеров „Клана“ о состоянии дел в Ирландии и о том, что „волонтеры“ остро нуждаются в средствах для покупки оружия, поскольку, судя по развитию событий, взрыва следует ожидать ежеминутно. Помимо того, начавшаяся война открывает для ирландских патриотов исключительные возможности.
Прибыв 18 июля в Нью-Йорк, Роджер остановился в скромном отеле „Бельмонт“, издавна облюбованном ирландцами. И в тот же самый день на раскаленном летней жарой Манхэттене произошла его встреча с норвежцем Эйвиндом Адлером Кристенсеном. Случайная? Тогда он думал, что да. Ему и в голову не приходило, что она могла быть подстроена британской контрразведкой, вот уже несколько месяцев следившей за каждым его шагом. И полагал, что принятых им предосторожностей оказалось достаточно, и ему в самом деле удалось выбраться из Глазго незаметно. Не мог он и предвидеть, как перевернет его жизнь встреча с этим 24-летним человеком, менее всего на свете похожим на того полумертвого от голода бродягу, каким пытался представиться. Он был едва ли не в лохмотьях, но Роджеру показалось, что он никогда в жизни не видел мужчину такой красоты и притягательности. Покуда новый знакомый уплетал предложенные ему сэндвичи, Роджер был сам не свой: сердце у него стучало гулко и сильно, и он ощущал жар в крови, какого давно уже не испытывал. Он, прежде столь чопорно следивший за своими манерами, столь строго соблюдавший правила хорошего тона, в тот день, в тот вечер несколько раз был готов пренебречь приличиями, поддаться побуждению и ласкающе прикоснуться к мускулистым, покрытым золотистой шерстью рукам Эйвинда или обхватить его за тонкую талию.
Когда выяснилось, что молодому человеку негде ночевать, он пригласил его к себе в отель. Снял ему маленький номер на том же этаже. Как ни вымотало его долгое плавание, в ту ночь он не мог сомкнуть глаз. С мучительным наслаждением Роджер воображал сильное ладное тело, скованное сном; разметавшиеся на подушке спутанные белокурые волосы; тонкое лицо, прилегшее щекой к ладони; поблескивающие в приоткрытом рту белые ровные зубы.
Знакомство с Эйвиндом подействовало на него так сильно, что на следующий день, во время первой встречи с Джоном Девоем, где предстояло обсудить много важных вопросов, воспоминания о юноше время от времени уносили его прочь из тесной, жаркой комнатки, где шли переговоры.
Впрочем, немалое впечатление произвела на него и беседа со старым опытным революционером, чья жизнь напоминала авантюрный роман. Семьдесят два прожитых года не убавили энергии, сквозившей в манере говорить, жестикулировать, двигаться, и так легко заражавшей всех, с кем он общался. Мусоля время от времени кончик чернильного карандаша, он делал пометки в блокноте и слушал доклад Роджера не перебивая. Но когда тот умолк, засыпал его уточняющими вопросами. Гостя поразило, какие исчерпывающие сведения имеет Девой обо всем, что происходит в Ирландии, – в том числе и о том, что старались держать в глубочайшей тайне.
Девой, закаленный долгими годами тюрьмы, подполья, борьбы, не производил впечатления человека сердечного. Однако внушал доверие – чувствовалось, что он искренен, честен и неколебимо тверд в своих убеждениях. И в эту встречу, и в последующие – за то время, что Роджер провел в Америке, их было немало – оба убедились, что их взгляды на Ирландию совпадают до миллиметра. Девой тоже считал, что время автономии минуло безвозвратно и теперь единственной целью патриотов должна стать исключительно независимость. И без вооруженных выступлений обойтись не удастся. Британское правительство согласится на переговоры лишь в том случае, если военные действия поставят его в положение столь сложное, что придется признать – предоставление независимости будет наименьшим злом. В неминуемой и близкой войне возникнет жизненная необходимость поддержать Германию: ее политическая и материальная помощь придадут действиям ирландских патриотов должную эффективность. Джон Девой сообщил, что в ирландской диаспоре нет единодушия по этому вопросу. Имелись в США и сторонники Джона Редмонда, хотя руководители „Клана“ разделяли мнения Девоя и Кейсмента.