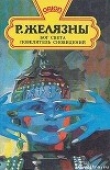Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
– Полагаю, что нет, – ответила она. – Когда роман только вышел, мы много говорили об этом на одном из моих вторников. Это ведь нечто вроде притчи: у Конрада получается, что Африка превращает в варваров явившихся туда цивилизованных европейцев. Твоя „синяя книга“ свидетельствует об ином. О том, что это мы, европейцы, принесли туда самое гнусное варварство. И потом… вот ты же провел в Африке двадцать лет и не стал дикарем. Наоборот, приехал оттуда более цивилизованным по сравнению с тем, каким отправлялся туда, веруя в имперские добродетели колониализма.
– Конрад пишет, что в Конго растленная суть человеческой природы выходит на поверхность. И у белых, и у черных. Ну а у меня от „Сердца тьмы“ начиналась бессонница. И я-то считаю, что там описано не Конго, и не реальная действительность, и не история, но ад. Конго, – лишь повод показать, сколь жестоко видится некоторым католикам абсолютное зло…
– Виноват, – прервал их надзиратель, поворачиваясь лицом. – Прошло уже пятнадцать минут, а свидание вам было предоставлено на десять. Прощайтесь.
Роджер протянул руку, но, к его удивлению, Элис крепко обняла его. И прошептала на ухо:
– Мы все, все сделаем, чтобы спасти тебя.
Он подумал: „За Элис раньше таких нежностей не замечалось… Должно быть, уверена, что прошение будет отклонено“.
По пути в камеру его обуяла тоска. Увидит ли он еще Элис Стопфорд Грин? Сколь много было в ней заключено для него! Никто не воплощал в себе так полно его страсть к Ирландии – последнюю в жизни страсть, самую бурную, самую упорную, страсть, которая пожрала его, а теперь, вероятно, обречет на гибель. „Я не жалею“, – повторял он про себя. За многие века угнетения Ирландия изведала столько страданий, столько несправедливости, что можно и пожертвовать собой ради святого дела избавления. Да, он проиграл. Провалился столь тщательно разработанный план: ради независимости Ирландии вступить в союз с Германией, поднять восстание одновременно с высадкой кайзеровских войск. И остановить уже вспыхнувший в Дублине мятеж тоже не удалось. И вот теперь Шон Макдермотт, Патрик Пирс, Том Кларк, Джозеф Планкетт и сколько-то еще других – расстреляны. Многие и многие другие будут долгие годы гнить в британских тюрьмах. „Что ж, по крайней мере, я подал пример“ – как с жестокой решимостью сказал в Берлине разгульный Джозеф Планкетт. Пример преданности, любви, умения жертвовать собой ради благородной цели, подобной той, которую преследовал он, Роджер Кейсмент, вступив в борьбу с королем Леопольдом в Конго, против Хулио Сесара Араны и амазонских торговцев каучуком. Ради справедливости, ради защиты тех, кто обездолен деспотизмом власть имущих. И сможет ли развязанная против него кампания в прессе, где его клеймят выродком и предателем, перечеркнуть все остальное? А какая, в конце концов, разница? Не ему решать, есть ли она, разница эта, последнее слово здесь – за Богом, который с определенного времени начал, кажется, сострадать ему.
Повалившись на нары, он закрыл глаза, и в памяти тотчас возникло лицо Джозефа Конрада. А согласись он подписать петицию – легче бы сейчас было Роджеру? Может, и было бы, а может, и нет. Что заставило поляка в тот вечер, когда они были у него дома в Кенте, произнести отчетливо и твердо: „Я был жалкой тварью, пока не попал в Конго“. Фраза произвела на Роджера сильное впечатление, хоть он и не вполне понял ее смысл. Что она означала? Не то ли, что увиденное, услышанное за эти полгода на берегах Средней и Верхней Конго, начатое там и брошенное, пробудило в душе Конрада глубочайшее, трансцендентного свойства беспокойство относительно человеческой натуры, и первородного греха, и зла, и Истории? Вот это Роджер мог понять. Конго и его самого очеловечило, если, конечно, быть человеком – равносильно тому, чтобы познать, до какого предела могут доходить алчность, жадность, косность, жестокость. Да, моральное растление – исключительная прерогатива человека: у животных такого не бывает. Конго открыло ему, что все это составной частью входит в понятие „жизнь“. Конго заставило его прозреть. Роджер мог бы повторить следом за поляком: „Я потерял невинность“. И некстати вспомнил, что попал в Африку в двадцать лет, еще оставаясь девственником. Разве справедливо, что газеты, если верить словам начальника Пентонвиллской тюрьмы, из всех представителей многообразного рода человеческого шельмуют его одного? Силясь перебороть постепенно овладевающее им уныние, он попытался представить, каким наслаждением было бы, не жалея ни воды, ни мыла, долго мыться в ванне, ощущая всем телом своим, как льнет к нему другое тело.
Глава VI
Он выехал из Матади 5 июня 1903 года по железной дороге – той самой, которую построил Стэнли и где сам он работал в молодости. И двое суток медленного пути до Леопольдвиля с упорством одержимого думал о своем спортивном достижении той поры: первым из европейцев он выкупался в Никисси – самой крупной реке на караванном пути между Маньянгой и заводью Стэнли. До этого Роджер, не задумываясь о последствиях, уже плавал в более мелких притоках Нижней и Средней Конго – в Квилу, Лукунгу, Мпозо и Лунзади, – где тоже водились крокодилы. Тогда обошлось. Однако Никисси была гораздо крупней – шириной метров сто – и с куда более стремительным течением, и из-за близости большого водопада изобиловала водоворотами. Туземцы предупреждали – это опасно, может уволочь и расшибить о скалы. И в самом деле – проплыв несколько метров, Роджер почувствовал, как встречными течениями его с силой тянет на стремнину, откуда, как ни барахтайся, выгрести не удастся. Он уже выбился из сил и наглотался воды к тому времени, когда все же наконец сумел поднырнуть под волну, вынесшую его ближе к берегу. Там он, уж как мог, уцепился за скалы и вскарабкался наверх. Ободрал себе грудь и бока, а сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди.
Начавшееся наконец путешествие длилось три месяца и десять дней. Впоследствии он будет думать, что оно преобразило его, избавило от иллюзий, заставило с небывалой прежде трезвостью думать о Конго, об Африке, о том, что такое люди и что есть колониализм, Ирландия, жизнь. С другой стороны, от обретенного опыта он сделался куда несчастней. И до конца дней своих в минуты душевного упадка часто говорил себе, что лучше было бы обойтись без экспедиции к Средней и Верхней Конго, предпринятой ради того, чтобы удостовериться: сведения о жестоком обращении с коренными жителями, постоянно присылаемые в Лондон церковными миссиями и журналистом по имени Эдмунд Д. Морель, который, похоже, целью всей жизни сделал критику Леопольда II и Независимого Государства Конго, – сведения эти соответствуют действительности.
А на первом этапе пути – от Матади до Леопольдвиля – его больше всего удивило, что прежде оживленные, заполненные народом деревни – и Тумба, где он провел ночь, и другие, рассеянные в долинах Нселе и Ндоло – ныне оказались почти безлюдны: лишь древние старцы, как тени, еле волоча ноги, бродили в пыли или, привалясь спинами к стволам деревьев, сидели на корточках с закрытыми глазами, словно уснули или уже умерли.
За три месяца и десять дней ощущение того, что пустеют те самые деревни и стойбища, где пятнадцать-шестнадцать лет назад он бывал, ночевал, продавал товары, возникало, как повторяющийся кошмар, вновь и вновь повсюду – и по берегам Конго и ее притоков, и во внутренних областях – там Роджер должен был опросить миссионеров, чиновников, солдат и офицеров „Форс пюблик“, получить свидетельства туземцев, благо мог объясняться с ними на языках лингала, киконго, суахили или – с помощью переводчиков – на их родных наречиях. Куда же исчезли люди? Память не обманывала – он ведь ясно помнил, как прежде бурлила здесь жизнь, как толпой обступали его, рассматривали, трогали ребятишки, женщины и мужчины – татуированные, с опиленными резцами, в ожерельях из звериных зубов, иногда в масках и с копьями в руках. Как могло все это улетучиться за столь краткий срок, куда сгинуло? Одни деревни вообще будто вымерли, в других число жителей сократилось вполовину, а в третьих осталась едва ли десятая часть. Кое-где ему удалось даже собрать точные цифры. Луколела, к примеру, когда он в 1884 году побывал в этом крупном поселении, насчитывала 5000 человек. Сейчас – 352. И большинство их пребывало в самом бедственном положении по возрасту или болезням, так что Кейсмент мог заключить, что работоспособных – не более 82. Куда девались четыре с лишним тысячи?
Чиновники колониальной администрации, служащие компаний, добывающих каучук, и офицеры „Форс пюблик“ в один голос объясняли: негры, ослабленные постоянным недоеданием, как мухи мрут от сонной болезни, оспы, тифа, воспаления легких, малярии и других напастей, буквально выкашивающих население. Это соответствовало действительности – эпидемии в самом деле были опустошительны. Особенно свирепствовала сонная болезнь, которая, как было установлено несколько лет спустя, переносится мухой цеце, поражает кровь и мозг, парализует конечности и погружает человека в беспробудный смертельный сон. Впрочем, на этом этапе своего путешествия Роджер Кейсмент продолжал задавать вопросы не для того, чтобы получить ответы, но чтобы убедиться – повторяемая всеми ложь была лишь исполнением инструкции. Ответ он знал и сам. Моровая язва, сгубившая большую часть жителей деревень по среднему и верхнему течению Конго, носила еще много имен – алчность, жестокость, каучук, бесчеловечность системы, безжалостная эксплуатация европейскими колонистами.
В Леопольдвиле он, чтобы не зависеть от властей и не согласовывать с ними своих действий, принял решение не обращаться к ним за помощью и передвигаться самостоятельно. С разрешения министерства он арендовал у Союза американских баптистских миссий пароходик „Генри Рид“ со всей командой. Оформление сделки затягивалось – так же, как закупка провианта и дерева для экспедиции. Роджеру пришлось задержаться в Леопольдвиле с 6 июня по 2 июля – на этот день назначено было отплытие вверх по реке. Но дело стоило того. Возможность свободно распоряжаться своим временем, причаливать и отчаливать когда и где ему заблагорассудится – все это открывало ему такое, чего он никогда бы не сумел узнать и выяснить, если бы зависел от благорасположения колониальных властей. И нипочем бы не удалось о столь многом расспросить самих африканцев, которые иногда и только убедившись, что его не сопровождает никто из бельгийских военных или представителей администрации, осмеливались приближаться к нему.
С тех пор как Роджер бывал здесь в последний раз, лет шесть-семь назад, Леопольдвиль сильно разросся. Заполнился домами, пакгаузами, миссиями, судами, таможнями, инспекторами, счетоводами, офицерами и солдатами, лавками и рынками, пасторами и патерами. И что-то с первой минуты не понравилось Роджеру в этом рождающемся городе. Нельзя сказать, чтобы его плохо принимали здесь. Напротив, с ним были радушны и сердечны все, кому он наносил визиты, – от губернатора и начальника полиции до судей и инспекторов, протестантских священников и католических миссионеров. И все охотно предоставляли ему запрашиваемые сведения, хоть они, как выяснилось несколько недель спустя, были неполны, неточны или откровенно ложны. Нет, какая-то давящая враждебность висела в воздухе, чувствовалась в самом облике города. Зато Браззавиль, столица Конго французского, стоящий на другом берегу, произвел впечатление не столь тягостное и даже гораздо более отрадное. Может быть, из-за просторных улиц или благожелательности его обитателей. Здесь не ощущалось чего-то подспудно зловещего, как в Леопольдвиле. За те четыре недели, что он провел там, договариваясь об аренде парохода, Роджер собрал много информации, но при этом его не покидало чувство, что никто не доходит до сути вещей и что люди с самыми лучшими намерениями что-то скрывают и от него, и от самих себя, словно боятся взглянуть в глаза правде – правде грозной и осуждающей.
Его друг Герберт Уорд будет потом уверять, что все это – чистейший предрассудок и что на восприятие Леопольдвиля задним числом наложились впечатления от увиденного и услышанного в последующие недели. Впрочем, в памяти Роджера сохранились не только неприятные воспоминания о пребывании в этом городе, основанном Стэнли в 1881 году. Однажды утром, прохладным и свежим, после долгой прогулки он вышел к дебаркадеру. И неожиданно для себя загляделся на двоих полуголых темнокожих юношей, которые, припевая, разгружали баркас. Тонкие и гибкие, еще совсем юные, в набедренных повязках, не скрывавших ляжек и ягодиц, они двигались легко и ритмично и казались воплощением здоровья, красоты, гармонии. Роджер долго любовался ими. Жалел, что не захватил с собой фотокамеру. Хорошо было бы запечатлеть этих мальчиков и вспоминать потом, что не все уж было так гадко и гнусно в обретающем очертания городе Леопольдвиле.
Когда же 2 июля 1903 года „Генри Рид“ поднял якорь и пересек бескрайнюю гладь заводи Стэнли, Роджер даже слегка расчувствовался, различив в прозрачном утреннем воздухе французский берег, крутыми песчаными откосами уходящий в воду, – это напомнило ему белые утесы Дувра. Над заводью, распластав огромные крылья, с надменным изяществом скользили ибисы. И почти целый день неизменной оставалась красота окружающего пейзажа. Время от времени переводчики, носильщики, лесорубы с восторгом показывали на отпечатавшиеся в прибрежном иле следы – там проходили слоны, гиппопотамы, буйволы, антилопы. Бульдожка Джон, ликуя, носился по палубе с пронзительным лаем. Но когда причалили к Чумбири, чтобы взять дров, внезапно изменил расположение духа и за считаные секунды успел укусить борова, козу и сторожа, охранявшего сад, что примыкал к маленькому домику Баптистского миссионерского общества. Роджеру пришлось улаживать эту неприятность подарками.
На второй день пути навстречу стали попадаться пароходики и баркасы, груженные корзинами с каучуком, который везли в Леопольдвиль. Зрелище стало привычным точно так же, как время от времени, но постоянно возникавшие над зеленью берегов телеграфные столбы и крыши хижин; обитатели, чуть завидев корабль, убегали и прятались в лесу. Впоследствии, если Роджер хотел выяснить у туземцев, как им живется, в чем они нуждаются, приходилось высылать вперед переводчика, чтобы объяснял – британский консул прибыл один, никого из чиновников бельгийской колониальной администрации с ним нет.
На третий день, в Болобо, где тоже имелась миссия Баптистского общества, Роджера впервые посетило предчувствие того, что ожидает его в дальнейшем. Познакомившись с миссионерами, он сразу отметил ум и энергию доктора Лили де Хейлз – эта высокая, аскетичного вида, но оказавшаяся очень говорливой дама провела в Конго четырнадцать лет, владела несколькими местными наречиями и руководила здешним госпиталем столь же умело, сколь неутомимо и увлеченно. Проходя с ней вдоль рядов топчанов, циновок и гамаков, где лежали больные, Роджер спросил, отчего у стольких так изранены ягодицы, спины и ноги. Мисс Хейлз поглядела на него снисходительно:
– Это жертвы моровой язвы, известной под названием „бич“, мистер консул. Люди, пострадавшие от хищника, что кровожадней льва и смертоносней кобры. Разве в Боме и Матади истязания не в ходу?
– В ходу, но не так свободно, как здесь.
Судя по нескольким огненным прядкам, выбивавшимся из-под косынки, у доктора Хейлз в юности была пышная рыжая грива, сейчас, вероятно, уже поседевшая. Зеленоватые глаза на костлявом лице, прокаленном солнцем так же, как шея и руки, смотрели живо и молодо, искрились неодолимой верой.
– А если угодно знать, почему у стольких конголезцев забинтованы руки и пах, могу объяснить и это, – не без вызова добавила она. – Потому что кисти и половые органы отрублены солдатами из „Форс пюблик“ или размозжены ударами. Не забудьте упомянуть об этом в своем отчете. В Европе, когда речь заходит о Конго, подобные факты предпочитают замалчивать.
Проведя несколько часов в госпитале Болобо, где через переводчиков Роджер опрашивал раненых и больных, за ужином он есть не мог. Пасторы из миссии – и мисс Хейлз среди них – зажарили в его честь цыпленка, но он отказался, сославшись на нездоровье. Потому что был уверен: если проглотит хоть кусочек, его вырвет прямо за столом, в присутствии радушных хозяев.
– Если все увиденное повергло вас в такое смятение, может, не следует видеться с капитаном Массаром? – сказал глава миссии. – Беседа с этим человеком… как бы вам сказать?.. это для тех, у кого луженый желудок.
– Я ведь за этим прибыл сюда, преподобный отец.
Капитана Пьера Массара из „Форс пюблик“ обычно следовало искать не в Болобо, а в Мбонго, где стоял его гарнизон и находился учебный лагерь для африканцев, которым предстояло стать солдатами этого корпуса, отвечающего за порядок и безопасность. Но сейчас капитан совершал инспекционную поездку, и его маленькая полевая палатка была разбита возле здания миссии. Пасторы пригласили его побеседовать с консулом, а того предупредили, что капитан славится своей исключительной вспыльчивостью. О нем ходили пугающие слухи, и среди прочего передавали за верное, что как-то раз он поставил троих строптивых африканцев в затылок друг другу и застрелил, потратив на всех одну пулю. От капитана можно ожидать чего угодно, а испытывать его раздражительный нрав – весьма неблагоразумно.
Он оказался коренаст и приземист – наголо стриженный, с квадратным лицом, с постоянной, будто замороженной улыбочкой на лице, открывавшей испятнанные никотином зубы. Маленькие, несколько раскосые глаза и высокий, почти женский голос. Миссионеры приготовили угощение – сок манго и печенье из маниоки. Сами они не пили, но не стали возражать, когда Кейсмент принес из своей каюты и выставил на стол бутылку бренди и бутылку кларета. Капитан церемонно поздоровался со всеми за руку, Роджеру же отвесил низкий поклон и называл его „ваше превосходительство господин консул“. Они чокнулись, выпили и закурили.
– С вашего позволения, капитан Массар, я бы хотел задать вам вопрос.
– Вы отлично говорите по-французски, господин консул. Где выучили?
– Начинал в отрочестве в Англии. Но главным образом – здесь, в Конго. Я ведь здесь уже много лет. Полагаю, у меня бельгийский акцент.
– Спрашивайте о чем хотите, – сказал Массар и отпил еще глоток. – Бренди, кстати, просто отменный.
Четверо пасторов сидели безмолвно и неподвижно, словно окаменев. Двое молодых, двое стариков, все – из Соединенных Штатов. Доктор Хейлз ушла в госпиталь. Начинало темнеть, и уже слышалось гудение ночных насекомых. Чтобы отпугивать москитов, разожгли костер – он мягко потрескивал, иногда дымил.
– Скажу вам, капитан Массар, совершенно откровенно, – очень медленно, не повышая голоса, начал Кейсмент. – Я видел в госпитале людей с размозженными кистями и отрезанными гениталиями, и мне кажется, что это – дикость неприемлемая.
– Так оно и есть, разумеется. Так оно и есть, – немедленно согласился офицер, недовольно морщась. – И даже еще хуже, господин консул. Это – расточительство. Искалеченные люди больше не смогут работать, а если и смогут – то плохо, и проку от них будет мало. Это настоящее преступление, если вспомнить, какая у нас ужасная нехватка рабочих рук. Попались бы мне те, кто это сделал, – спустил бы с них шкуру.
Он вздохнул и пригорюнился от сознания того, сколь высок уровень глупости, от которой страдает мир. Снова отхлебнул бренди и затянулся сигаретой.
– В каком законе или воинском уставе написано, что можно калечить туземцев? – осведомился Роджер Кейсмент.
Капитан Массар расхохотался, и от этого квадратное лицо утратило четкость очертаний, расплылось, а на щеках появились забавные ямочки.
– Ни в каком. Напротив – они категорически запрещают это, – сказал он, тыча рукой в воздух. – Но попробуйте втолковать этим двуногим скотам, что такое законы и уставы. Не знаете, с кем дело имеете? А должны были бы – ведь столько лет в Конго… Проще вразумить гиену или клеща, нежели конголезца.
И снова рассмеялся, но уже в следующую секунду лицо его вновь отвердело, и раскосые глаза почти исчезли в складках припухших век.
– Я объясню, что происходит, и, надеюсь, вы поймете, – начал он с утомленным вздохом, как бы заранее смирившись, что приходится говорить о вещах столь же очевидных, как то, что Земля круглая. – В подоплеке – очень серьезная проблема, – и снова со злостью ударил невидимого врага. – „Форс пюблик“ не может тратить боеприпасы впустую. Нельзя допустить, чтобы наши туземные солдаты расходовали выданные патроны на обезьян, змей или еще каких-нибудь тварей, которых пожирают иной раз сырыми. В наставлении сказано, что оружие разрешается применять только для самозащиты или по приказу начальника. Но негры, сколько их ни секи, приказам не подчиняются. И потому дано было на этот счет особое распоряжение. Понимаете, господин консул?
– Нет, капитан, пока не понимаю. О чем вы?
– О том, что всякий раз, застрелив человека, они должны отрубить у него руку или детородный орган, – пояснил тот. – В доказательство, что пулю истратили не просто так, не на охоте. Остроумно, правда? Казалось бы – это предотвратит зряшный расход боеприпасов. А?
Он снова вздохнул и отпил бренди. Сплюнул.
– Как бы не так! – опять наливаясь злостью, пожаловался он. – Потому что эти скоты придумали, как обойти приказ. Догадываетесь, каким образом?
– Ничего в голову не приходит, – сказал Роджер.
– Да проще простого! Они отрубают кисти или половые члены у живых! И уверяют, что стреляли в них, тогда как на самом деле промышляли обезьян, змей и прочую мерзость, которую употребляют в пищу. Ну, теперь понимаете, почему здесь в госпитале – столько безруких, оскопленных бедолаг?
Он замолчал и допил остававшийся в рюмке бренди. Помрачнел и надулся. Потом добавил угрюмо:
– Поверьте, господин консул, делаем что можем. Нелегкое дело, уверяю вас… Потому что здешние люди не только тупоумны, но еще и лживы от рождения. Врут, плутуют, обманывают, лишены всякого понятия о том, что такое убеждения или чувства. И даже от страха не становятся понятливей. Поверьте, господин консул, мы очень сурово взыскиваем с тех, кто отрубает у живых кисти и пенисы, чтобы ввести нас в заблуждение и по-прежнему тратить казенные боеприпасы на охоту. Приезжайте в расположение и сами в этом убедитесь.
Разговор с капитаном Массаром длился, пока не прогорел потрескивающий у его ног костер, то есть часа два, не меньше. К тому времени, когда они расстались, миссионеры уже ушли спать. Кейсмент и капитан допили бренди и кларет. И немного осоловели, хоть Роджер и сохранял ясность ума. И месяцы, и годы спустя он сумел бы воспроизвести во всех подробностях выслушанные в тот вечер откровения и перед глазами у него стояло квадратное, набрякшее и побагровевшее от выпитого лицо Массара. В ближайшие несколько недель он еще много раз беседовал с офицерами „Форс пюблик“ – бельгийцами, итальянцами, французами, немцами – и услышал от них немало чудовищного, однако самым ярким образом конголезской действительности навсегда остался тот ночной разговор у костра в Болобо. В какую-то минуту капитан вдруг расчувствовался. Признался Роджеру, что отношения с женой разладились. Не видел ее уже два года и за это время получил лишь несколько писем. Может быть, она разлюбила его? Может, завела себе любовника? Что ж, ничего удивительного. Подобное случалось со многими офицерами и чиновниками, которые, служа Бельгии, оказывались заживо погребены в этом аду, где не было самого элементарного комфорта, но зато – в избытке тропических болезней и ядовитых змей. А ради чего? Ради мизерного жалованья, едва позволяющего сводить концы с концами? И поблагодарит ли его кто-нибудь там, в Бельгии, за все перенесенные мытарства и испытания? Нет, напротив, в метрополии возникло стойкое предубеждение против колониальных офицеров. И когда те возвращаются домой, их сторонятся, полагая, видно, что они так долго терлись среди дикарей, что и сами одичали.
Когда же капитан Пьер Массар свернул, как водится, на темы интимные, Роджер, уже заранее почувствовав отвращение, хотел было уйти. Однако пришлось остаться, чтобы не обидеть офицера, который был уже сильно пьян, и не выяснять с ним отношений. Пересиливая тошноту, Роджер слушал капитана и твердил про себя, что приехал в Болобо не осуждать, а расследовать и собирать сведения. Чем полнее и точнее будет его отчет, тем больший вклад внесет он в борьбу против того воплощенного зла, подпертого к тому же законами и установлениями, каким сделалось Конго. Капитан же продолжал говорить – горько сокрушался он о тех молоденьких лейтенантах, что в плену иллюзий прибывают сюда и учат несчастных туземцев быть солдатами. И при этом оставляют в Европе своих невест, молодых жен, возлюбленных. А ведь здесь, в этих богом забытых краях, нет даже проституток, достойных именоваться этим словом. Только отвратительные запаршивевшие негритянки, с которыми спать можно, только напившись до полубеспамятства и рискуя подцепить какую-нибудь гадость вроде чесотки, триппера или шанкра. Общение с этой мразью нелегко ему дается! Стали случаться срывы и неудачи, nom de Dieu![9]9
Черт возьми! (фр.).
[Закрыть] – чего никогда не бывало раньше, в Европе! Это у него-то, Пьера Массара, в жизни своей не знавшего, что такое фиаско в постели! Со здешними не рекомендован даже минет, потому что многие негритянки по обычаю опиливают себе резцы, так что кусанут разок – и отчекрыжат лучшее достояние мужчины.
Капитан, ухватив себя между ног, хохотал и непристойно гримасничал. Роджер убедился, что он не собирается униматься, и поднялся.
– Мне пора, капитан. Завтра мне вставать чуть свет, и хотелось бы немного отдохнуть.
Массар машинально протянул ему руку, однако продолжал говорить, не трогаясь с места; глаза у него стали водянистыми, язык заплетался. Уходя, Роджер слышал, как тот бормочет, что, избрав военную карьеру, совершил величайшую ошибку в своей жизни и за ошибку эту, по всей видимости, будет расплачиваться до конца дней своих.
Наутро „Генри Рид“ взял курс на Луколелу. Кейсмент провел там три дня, расспрашивая самых разнообразных людей – чиновников, колонистов, надсмотрщиков, туземцев. Затем пароходик двинулся к Икоко, войдя в озеро Мантумба. В окрестностях его простирался огромный край, называемый „Владением короны“. Вокруг добывали каучук главные компании-концессионеры, имевшие обширнейшие владения по всему Конго. Роджер побывал в десятках деревень – и в тех, что стояли по берегам озера, и в тех, что располагались в глубине континента. Чтобы добраться до них, надо было сперва плыть в лодках, а потом много часов идти в темных влажных зарослях следом за туземцами, которые прорубали проход, и порой брести по пояс в воде через зловонные топи и трясины, где тучами висели москиты, а над головой безмолвно чертили воздух тени летучих мышей. Все эти недели Роджер пребывал в состоянии непрекращающейся душевной горячки, некой одержимости, подхлестывавшей его и помогавшей ему бороться с усталостью, одолевать труднейший путь и безжалостный климат, твердил про себя, что каждый следующий день и каждый час он спускается все ниже и ниже, подступая к самым темным безднам страдания и зла. Не так ли выглядел Дантов Ад? Он прежде только слышал о „Божественной Комедии“ и в эти дни пообещал себе, что непременно прочтет ее, как только в руки ему попадет экземпляр.
Африканцы, прежде пускавшиеся наутек при виде „Генри Рида“, потому что думали – он везет солдат, ныне стали выходить к Роджеру навстречу или присылать гонцов с просьбой посетить их деревню. Среди туземцев разнесся слух о британском консуле, который выслушивает все жалобы и просьбы, и потому люди сами шли к нему, давая свидетельские показания – одно страшней другого. И были уверены, что консул наделен такими могуществом и властью, что способен выправить и выпрямить все то, что в Конго так давно пошло наперекос. Впустую было объяснять, что нет у него ни могущества, ни власти. Что он лишь сообщит о преступлениях и несправедливостях, а его страна – Великобритания – и ее союзники потребуют у бельгийского правительства положить им конец и покарать мучителей и злодеев. Вот и все, что в его силах. Его понимали? Роджер был даже не уверен, что вообще слышали. Африканцы так торопились поскорее высказать все, что накипело на душе, выложить все, что накопилось, что не обращали внимания на его слова. Они говорили сбивчиво и взахлеб, с яростью и отчаянием. Переводчикам приходилось прерывать их, просить, чтобы не частили и дали выполнить работу как полагается.
Роджер слушал и делал пометки. Потом, ночами напролет, заносил в свои дневники все, что услышал, стараясь ничего не упустить. Ему было так страшно, что все эти бумаги могут исчезнуть, пропасть, сгинуть, что он не знал уж, где бы их получше спрятать, какие предосторожности принять. И решил наконец хранить их поблизости – на плечах носильщика, которому велено было всегда держаться рядом.
Он почти не спал, а когда усталость все же превозмогала, страдал от кошмаров, которые повергали его то в ужас, то в тягостное недоумение, то терзали жуткими видениями, то оставляли с опустошенной и унылой душой, не находившей ни цели, ни смысла ни в чем – ни в семье, ни в друзьях, ни в идеях, ни в чувствах, ни в работе. В такие минуты он особенно часто обращался памятью к Герберту Уорду, вспоминая, как заразительно умел этот человек восторгаться жизнью во всех ее проявлениях, с какой лучезарной и неколебимой уверенностью в хорошем исходе смотрел он вперед.
Потом, когда это путешествие осталось позади, Роджер Кейсмент отослал свой отчет, уехал из Конго, и двадцать проведенных в Африке лет сделались всего лишь воспоминаниями, он сказал себе: если бы надо было одним словом определить подоплеку и основу всех ужасов, творившихся тут, слово это было бы – „алчность“. Алчность к черному золоту, на несчастье конголезцев в невиданном изобилии имевшемуся в здешних лесах. Это богатство стало проклятием для туземцев, обрушилось на этих несчастных, как стихийное бедствие и, если события пойдут прежним порядком, грозит просто стереть их с лица земли. Три месяца и десять дней экспедиции привели его к такому выводу: если только прежде не иссякнут запасы каучука, иссякнет сам этот народ, ибо система уничтожает африканцев сотнями и тысячами.
С того дня, как пароход вошел в озеро Мантумба, воспоминания тасовались в голове Роджера, как карты в колоде. Если бы он не записывал в дневник так пунктуально и тщательно все даты, названия мест, свидетельства, собственные наблюдения, все в его памяти перемешалось бы в полнейшем беспорядке. Он закрывал глаза, и перед ним в головокружительном вихре возникали, исчезали и появлялись вновь красноватые рубцы, извивавшиеся как змейки по эбеново-черным спинам, ягодицам, ногам, виделись обрубленные руки детей и стариков, изможденные, покойничьи лица, лишенные жизни, мускулов и жира под кожей, туго обтягивавшей череп, и хранящие в застылой гримасе одно выражение, где читалось уже не столько даже страдание, сколько глубочайшая ошеломленность им. И все всегда было одинаково, все повторялось неизменно в каждой деревне, где бы ни появлялся Роджер Кейсмент со своими блокнотами, карандашами и фотографической камерой.