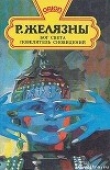Текст книги "Сон кельта. Документальный роман"
Автор книги: Марио Варгас Льоса
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
После этого эпизода Арана неудержимо покатился вниз. И те путаные, невразумительные и уклончивые ответы, которые он давал теперь на все вопросы, непреложно свидетельствовали о его растерянности и особенно – о том, что самая очевидная черта его показаний – их лживость.
В самый разгар парламентских слушаний с главой „Перувиан Амазон компани“ стряслась новая беда. Член Высокого суда правосудия Суинфен Иди по ходатайству группы акционеров постановил: все производственные операции компании должны быть немедленно прекращены, поскольку добыча каучука сопровождалась „превосходящими всякое воображение“ жестокостями в отношении рабочих, а в том случае, если Хулио Арана не знал о них, он несет еще более тяжкую ответственность, ибо, как никто другой, обязан был иметь абсолютно исчерпывающее представление обо всем, что происходит в его владениях.
Окончательный вывод парламентской комиссии оказался не менее лаконичен: „Признать, что мистер Хулио Сесар Арана, равно как его компаньоны, не мог не знать о противозаконных деяниях, творимых служащими его компании в Путумайо, а потому и несет за них всю полноту ответственности“.
К тому времени, когда это решение, окончательно дискредитирующее Арану и, как показали дальнейшие события, ускорившее крах его империи, было оглашено, Роджер Кейсмент уже начал забывать об Амазонии и Путумайо. Мыслями его целиком владела теперь Ирландия. После короткого отпуска министерство предложило ему вернуться в Бразилию на должность генерального консула в Рио-де-Жанейро, и Роджер склонен был согласиться. Он снова и снова отодвигал время отъезда, но сколь бы ни были разнообразны предлоги, которые он находил для министерства и для себя самого, дело было в том, что в глубине души у него уже созрело решение не служить больше британской короне в качестве дипломата – да и ни в каком ином тоже. Роджер хотел наверстать упущенное время, обратив свой ум, дарования и энергию к тому, что сделалось ныне единственной целью его жизни, – к борьбе за независимость отчизны.
По этой причине он без особого интереса, если не отчужденно, наблюдал, как складывалась дальнейшая судьба „Перувиан Амазон компани“ и ее хозяина. А после того, как на заседаниях парламентской комиссии, благодаря признанию главноуправляющего компанией Генри Лекса Гилгуда, выяснилось, что Арана не имел решительно никаких оснований считать земли Путумайо своими владениями и эксплуатировал их исключительно „по праву захвата“, недоверие к нему банков и прочих кредиторов усилилось. Немедленно усилился и нажим с требованиями погасить ссуды и произвести текущие платежи (только учреждениям лондонского Сити его долги превысили двести пятьдесят тысяч фунтов стерлингов). Градом посыпались угрозы эмбарго и наложения ареста на имущество. Аране, во всеуслышание заявившему, что для спасения своего доброго имени он выплатит все до последнего фартинга, пришлось выставить на торги свой лондонский особняк на Кенсингтон-роуд, виллу в Биаррице, дом в Женеве. Однако вырученных за все это денег оказалось недостаточно, чтобы умилостивить заимодавцев, и те добились судебного решения о том, чтобы все авуары Араны в британских банках были заморожены. Одновременно с потерей личного состояния неуклонно и неостановимо катились к гибели дела его компании. Амазонский каучук, не выдержав конкуренции с азиатским, упал в цене, и это совпало с решением многих европейских и американских импортеров приостановить его закупки в Перу, пока независимая международная комиссия не удостоверит, что при добыче латекса больше не используется рабский труд, истязания, пытки, что прекращены налеты на индейские поселения, а на факториях туземным рабочим выплачивают жалованье и соблюдают законы о труде, действующие в Великобритании и США.
Не было никаких оснований верить, что кто-нибудь хотя бы попытается ответить на эти химерические упования. Повальное бегство управляющих факториями и старших надсмотрщиков, напуганных реальной угрозой тюрьмы, привело к тому, что стихия безначалия захлестнула весь край. Воспользовавшись случаем, многие индейцы – целые племена – тоже разбежались, отчего добыча каучука сначала упала до предельных значений, а затем и вовсе прекратилась. Разбегаясь, рабочие громили и грабили лавки и конторы, уносили все мало-мальски ценное – главным образом оружие и провиант. Вскоре стало известно, что „Перувиан Амазон компани“, опасаясь, как бы эти люди на грядущих судебных процессах не превратились в свидетелей обвинения, выплачивали им немалые деньги, чтобы помочь скрыться и тем самым гарантировать себе молчание.
Роджер Кейсмент узнавал о происходящем в Икитосе из писем своего друга, британского консула Джорджа Мичелла. А тот рассказывал, как один за другим закрываются рестораны, отели и магазины, где еще недавно торговали товарами, выписанными из Парижа и Нью-Йорка; будто по волшебству, исчезает шампанское, прежде лившееся в городе рекой, а с ним вместе – виски, коньяки, портвейны и вина. В тавернах и борделях подавали теперь только обжигавшую горло водку и неведомого происхождения подозрительные пойла, призванные якобы производить возбуждающее действие, однако зачастую вместо того, чтобы разжигать вожделение, устраивавшие в желудке доверчивого клиента форменную революцию.
Точно так же, как и в Манаосе, крах „Перувиан Амазон компани“ и каучуковый кризис привели Икитос к упадку столь же стремительному, каков был взлет, благодаря которому город пятнадцать лет процветал. Первыми его покинули иностранцы – коммерсанты, торговцы, исследователи, рестораторы, инженеры и техники, проститутки, сутенеры: они вернулись на родину или пустились на поиски чего-нибудь более подходящего, чем этот край, неуклонно погружавшийся в пучину разорения и запустения.
Проституция, впрочем, никуда не делась, но лишь сменила лицо. Пропали бразильянки и те, кто называл себя „француженками“, а на самом деле были польками, голландками, турчанками или итальянками; на их место пришли индианки и чолас: многие были совсем еще юны и прежде работали в прислугах, но лишились места, потому что хозяева тоже двинулись на поиски лучшей доли и не могли больше ни одевать, ни кормить их. Британский консул в одном письме рассказывал, какое душераздирающее зрелище являли собой эти костлявые, как скелеты, размалеванные, как цирковые клоуны, девочки не старше пятнадцати лет, которые прохаживались по набережной в поисках клиентов. Как дым, исчезали газеты и журналы, и даже еженедельное расписание прибытия и отбытия кораблей перестало выходить, потому что судоходство на реке, прежде столь оживленное, сократилось так, что правильней было бы сказать – прекратилось. Последним гвоздем в гроб Икитоса, довершившим его отторжение от прочего мира, с которым он полтора десятка лет вел столь бойкую торговлю, явилось решение пароходной компании „Бут лайн“: постепенно, но неуклонно она стала снижать количество своих грузовых и пассажирских судов, совершавших рейсы в Икитос. С их полным исчезновением оборвалась та пуповина, что связывала город с целым светом. Столица Лорето оказалась отброшена в далекое прошлое. В считаные годы она вновь стала тем, чем была когда-то – богом забытым захолустьем в глуши амазонской равнины.
Однажды в Дублине Роджера Кейсмента, который шел к врачу с жалобами на артритные боли, окликнул монах-францисканец. Один из тех четверых, что когда-то отправились в Путумайо основывать там миссию. Они присели поговорить на скамейку на берегу пруда, где плавали утки и лебеди. Монахам пришлось в Икитосе очень тяжко. Впрочем, их не обескуражила ни враждебность властей, выполнявших распоряжения „Перувиан Амазон компани“, – тем более что монахи получали поддержку августинцев, – ни приступы малярии, ни москиты, решившие в первые месяцы их пребывания в Путумайо подвергнуть испытанию их готовность к самопожертвованию. И вот, несмотря на все мытарства, препоны и трудности, они сумели открыть в окрестностях Энканто свою миссию – в хижине, подобной той, где селились индейцы уитото. Отношения с туземцами, которые, правда, поначалу глядели подозрительно и боязливо, вскоре стали доверительными и даже сердечными. Монахи выучили местные наречия, возвели скромную непритязательную церковку, крытую пальмовыми листьями. Но тут вдруг и началось повальное бегство. Люди самого разного рода и положения – управляющие и конторщики, надсмотрщики и охранники, прислуга и рабочие – бежали, точно их гнала и выталкивала с насиженных мест какая-то злая сила или охватил панический ужас. Когда четверо монахов остались одни, жизнь их сделалась совсем невыносимой. Патер Маккей заразился бери-бери, и тогда, после долгих споров, они тоже решили поскорее покинуть эти места, словно бы обреченные Божьему проклятию.
А возвращение четырех францисканцев стало настоящей эпопеей или крестным путем. После того как резко сократилась добыча каучука, исчез и тот единственный способ, каким можно было выбраться из обезлюдевшего, объятого хаосом края: суда „Перувиан Амазон компани“, и прежде всего – „Либераль“, внезапно, без предупреждения прекратили рейсы. И монахи, один из которых был тяжко болен, оказались отрезаны от мира. Когда же патер Маккей умер, они похоронили его на пригорке и сделали на надгробье надпись на четырех языках – гэльском, английском, уитото и испанском. Затем пустились в путь куда глаза глядят. Туземцы помогли им доплыть на пирогах до того места, где река Путумайо впадает в Явари. По дороге раза два оказывались в воде и добирались до берега вплавь, потеряв, разумеется, все то немногое, что было у них с собой. И в Явари дождались наконец парохода, чей капитан согласился доставить их в Манаос палубными пассажирами. Ночевали под открытым небом, вымокли под дождем, и самый старший, патер О'Нети, заболел воспалением легких. Попав через две недели в Манаос, сумели все-таки разыскать францисканский монастырь, где и получили приют. Там, несмотря на все старания своих спутников, отец О'Нети скончался. Его погребли на монастырском кладбище. Двое выживших, немного оправившись от всего, что выпало им на долю, вернулись в Ирландию. И там продолжили свои труды в рабочих кварталах Дублина. Роджер, выслушав этот рассказ, еще долго сидел под раскидистыми деревьями парка Сент-Стивенз-Грин. И пытался представить себе, во что превратился этот огромный край с исчезновением факторий, после бегства туземцев и охранников, служащих, убийц „Перувиан Амазон компани“. И, зажмурившись, дал волю своей фантазии. Могучее плодородие природы вновь покроет деревьями и кустарником, опутает лианами все прогалины и поляны, а когда возродится лес, вернутся в эти места дикие звери, устроят там свои логова, норы, убежища, лежки. Вновь зазвучат птичьи трели, раздастся шип, писк, рык, клекот. Пройдут дожди, подмоют постройки, и через несколько лет следа не останется от факторий и поселений, где алчность и жестокость человеческая были причиной стольких мучений, стольких смертей. Подточенные термитами, сгнившие от ливневой влаги, обвалятся и рассыплются в труху стены строений. И в не слишком отдаленном будущем сотрет сельва последние следы человеческого присутствия.
Ирландия
Глава XIII
Он проснулся в удивлении и страхе. Оттого, что в эту ночь, неотличимо похожую на все другие и сливавшуюся с ними воедино, увидел во сне Герберта Уорда, своего друга – теперь уже бывшего – и сон этот, покуда длился, томил его страхом, сводил тело судорогой. Герберт приснился ему не в Африке, где они и познакомились много лет назад, в ту пору, когда оба участвовали в экспедиции Генри Мортона Стэнли, и не в Париже, где Роджер не раз бывал у него и его жены Сариты, но – в Дублине, на перегороженных баррикадами улицах, тонущих в орудийном грохоте, в ружейной трескотне, в массовом самопожертвовании Пасхального восстания. Герберт Уорд среди мятежников, „Ирландских волонтеров“ и бойцов Ирландской гражданской армии сражается за независимость Эйре! Каких только абсурдных фантазий не родится в отуманенной сном голове человеческой!
Потом Роджер вспомнил, что несколько дней назад состоялось заседание британского кабинета министров, но тогда по поводу его прошения о помиловании ничего не решили. Об этом сообщил ему адвокат Джордж Гейвен Даффи. Что же произошло? Отчего снова отложили? Мэтр Даффи видел в этом хороший знак: вероятно, возникли расхождения, и министры не смогли проголосовать единогласно. Стало быть, надежда не утеряна. Надо ждать. Но ждать – это значит по многу раз умирать ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Воспоминание о Герберте Уорде отзывалось болью. Они никогда больше не будут друзьями. Непроходимая пропасть разверзлась между ними после того, как Чарльз, сын Герберта и Сариты, такой чистый, такой юный, такой красивый – погиб в январе 1916-го под Нёв-Шапель. Герберт был единственным человеком, с которым Роджер по-настоящему сблизился в Африке. И с первой же минуты увидел в нем личность крупную и своеобразную и более значительную, нежели он сам: этот человек объездил полсвета – Новую Зеландию, Австралию, бывал в Сан-Франциско, на Борнео – и степенью образованности намного превосходил всех, кто окружал его, включая и Стэнли; Роджер очень многое почерпнул у него и сумел поделиться многими своими тревогами и мечтами. Не в пример другим европейцам, набранным Стэнли в эту экспедицию и охочим лишь до денег и власти, Герберт любил приключения ради них самих. Он был человеком действия, но при этом страстно тянулся к искусству и питал к африканцам чувство, которое можно было бы определить как уважительное любопытство. Расспрашивал про их верования, обряды, обычаи, фетиши, одеяния и украшения, которые интересовали его с точки зрения художественной и эстетической, но также и – духовной. Герберт уже тогда, в редкие свободные минуты делал рисунки и скульптуры, используя африканские мотивы. Когда после изнурительных дневных переходов и трудов останавливались на привал, разбивали лагерь и готовили на костре ужин, он вел с Роджером долгие разговоры и часто повторял, что в один прекрасный день бросит все это, целиком посвятит себя ваянию и заживет свободным художником в Париже, „столице мирового искусства“. Любовь к Африке не слабела в нем и никогда не покидала его. Напротив, чем больше лет и миль отделяло его от Черного континента, тем крепче она становилась. Роджер увидел перед собой их лондонскую квартиру на Честер-сквер, 53, и парижскую студию, где все напоминало об Африке, где стены были увешаны копьями, щитами, дротиками, ритуальными масками, веслами, ножами разнообразных форм и размеров. Сколько вечеров скоротали они в гостиной, где на полу и на кожаных диванных подушках лежали шкуры диких животных, сколько ночей напролет вспоминали путешествия по Африке. Дочка Уордов Фрэнсис – дома ее звали Сверчок – в ту пору еще маленькая девочка – иногда наряжалась в конголезские туники, надевала туземные украшения и танцевала, покуда родители хлопали в такт и вели монотонный напев.
Герберт был одним из тех очень немногих, с кем Роджер делился своими разочарованиями в Стэнли и в короле Леопольде да и в самой идее колонизации, которая прежде казалась ему дорогой к модернизации и прогрессу. Герберт в полной мере соглашался с ним, убедившись, что вовсе не затем, чтобы вырвать туземцев из мрака язычества и варварства, пришли сюда европейцы: ими движет лишь алчность, во имя которой они не остановятся ни перед какими преступлениями, сколь бы жестоки те ни были.
Однако обращение Роджера к идеологии национализма он никогда не принимал всерьез. Лишь в свойственной ему мягкой манере беззлобно подшучивал над ним, напоминая, что все атрибуты сусального ура-патриотизма – все эти стяги, гимны, униформа – неизменно означают уход в глубокую провинциальность, искажение общечеловеческих, всеобщих ценностей. И тем не менее этот „гражданин мира“, как любил он называть себя, столкнувшись с безмерным насилием мировой войны, тоже, как и миллионы других европейцев, нашел себе прибежище в патриотизме. И письмо, в котором он сообщал Роджеру об окончательном разрыве их многолетних дружеских отношений, было буквально пронизано тем самым патриотическим чувством, прежде вызывавшим у него только насмешку, той самой любовью к государственному флагу и отчизне, раньше казавшейся ему примитивной и достойной презрения. Решительно невозможно было представить себе, как лондонский парижанин Герберт Уорд вместе с бойцами „Шинн Фейна“ Артура Гриффита, или Гражданской армии Джеймса Коннолли, или „волонтеров“ Патрика Пирса сражается на дублинских баррикадах за независимость Ирландии. И тем не менее Роджер, ожидавший на своем лежаке наступления рассвета, твердил себе, что в конце концов некий глубокий смысл таится в подоплеке этой бессмыслицы, ибо погруженный в сон мозг пытался примирить непримиримое, но одинаково близкое и дорогое ему – друга и родную страну.
Рано утром смотритель объявил, что к нему – посетитель. И сердце Роджера забилось учащенно, когда, войдя в тесную комнату свиданий, он увидел Элис Стопфорд Грин. Улыбаясь, она поднялась с единственного табурета ему навстречу, подошла и обняла его.
– Элис, дорогая моя Элис, – сказал Роджер. – Как я рад снова видеть тебя! Думал, что больше уже не придется. На этом свете, по крайней мере.
– Получить разрешение вторично было очень трудно, – отвечала она. – Однако же я здесь. Не представляешь, сколько порогов пришлось обить для этого.
Роджер, привыкший к неизменно продуманному изяществу ее облика, удивился, в каком виде предстала сейчас его старинная приятельница – на ней было вылинявшее платье, а на голове – какая-то странная косынка, из-под которой выбивались седые прядки. Башмаки были в грязи. Но дело было не только в убожестве ее наряда – на утомленном лице застыли печаль и разочарование. Что же такое произошло за эти дни? Отчего такая перемена? Может, к ней опять нагрянули агенты Скотленд-Ярда, спросил Роджер. Она покачала головой и пожала плечами, как бы давая понять, что тот эпизод с обыском не имел никакого значения. И ни слова не сказала о том, что вопрос о помиловании перенесен на следующее заседание кабинета министров. Роджер, полагая, что Элис просто ничего не знает, тоже не стал затрагивать эту тему. И рассказал ей о своем нелепом сне, где Герберт Уорд предстал ему на дублинских баррикадах, среди мятежников и участников уличных боев на Страстной неделе.
– Постепенно просачиваются новые сведения о том, что там происходило, – сказала Элис, и Роджер заметил, что ее голос полон одновременно и печали, и злости. И что, как только речь зашла о мятеже в Ирландии, и смотритель, и надзиратели, которые стояли спиной к ним, как-то напряглись и, без сомнения, навострили уши. Он испугался было, что смотритель запретит говорить на эти темы, но тот промолчал.
– Ты узнала что-нибудь новое, Элис? – спросил он, понизив голос почти до шепота.
И увидел, как она, немного побледнев, кивнула. И, прежде чем ответить, довольно долго молчала, словно спрашивала себя, надо ли сообщать Роджеру такие горестные для него известия, или – что вероятней – просто не знала, с какого именно из целого вороха начать. И наконец сказала, что, хотя и раньше, и теперь еще слышала множество версий о том, что творилось в Дублине и других ирландских городах во время восстания – версий противоречивых и путаных, перемешивавших факты с вымыслами, реальность с легендами, недомолвки – с преувеличениями, как бывает всегда, когда событие будоражит все общество, – сама она склонна более всего верить рассказам своего племянника Остина, монаха-капуцина, недавно приехавшего в Лондон. Сведения были самые достоверные, ибо он все видел собственными глазами и был в самой гуще боев, перевязывал раненых и причащал умирающих. Элис полагала, что свидетельства Остина ближе всего к той недосягаемой покуда истине, установить которую смогут только будущие историографы.
Вновь воцарилось долгое молчание, и Роджер не сразу решился прервать его. За те несколько дней, что он не видел Элис, она постарела, казалось, лет на десять. Лоб и шея покрылись морщинами, на руках проступили пигментные пятна. Светлые глаза утратили прежний блеск. Он видел, как глубоко и тяжко она подавлена, но не сомневался – в его присутствии Элис сумеет сдержать слезы. Неужели ее все же убедили, что все, написанное про него в газетах, – не клевета, а она не решается сказать ему об этом?
– Но чаще всего мой племянник, – произнесла Элис, – вспоминает не стрельбу, не разрывы гранат, не кровь, не пламя пожаров, не дым, от которого нечем было дышать, а – знаешь что, Роджер? Смятение. Невиданное смятение, целую неделю царившее на позициях восставших.
– Смятение? – совсем тихо переспросил Роджер. Закрыв глаза, он попытался въяве увидеть его, почувствовать, ощутить.
– Невероятное, всеобъемлющее смятение чувств, – с нажимом повторила Элис. – Люди были готовы в любую минуту умереть и одновременно пребывали в ликующем, радостном возбуждении. От гордости за себя. От ощущения свободы. При том, что ни рядовые бойцы, ни командиры – никто, словом – не знали в точности, что они делают и что хотят сделать. Так рассказывал мне Остин.
– А знали они, по крайней мере, почему не прибыло оружие, которого так ждали? – торопливо пробормотал Роджер, пока Элис вновь не замкнулась в долгом молчании.
– Ничего они не знали. Передавались из уст в уста самые фантастические слухи. И никто не мог их опровергнуть, потому что никто не знал, что происходит в действительности. Напротив – готовы были верить в любые нелепости, потому что людям нужно было знать, что существует выход из безнадежного положения, в котором они оказались. Говорили, например, будто германская армия приближается к Дублину. Что роты, батальоны, полки рейхсвера высадились в разных пунктах побережья и наступают на столицу Ирландии. Что в Корке, Голуэе, Уэксфорде, в Трали, повсюду, включая Ольстер, тысячи „волонтеров“ и бойцов Гражданской армии захватывают казармы и полицейские участки и с разных сторон подходят к Дублину, спеша на выручку к восставшим. А те, полумертвые от голода и жажды, оставшиеся почти без боеприпасов, могли уповать только на чудо.
– Я знал, что так и будет, – сказал Роджер. – И не поспел вовремя, чтобы остановить это безумие. И теперь Ирландия как никогда далека от независимости.
– Когда Оуину Макниллу наконец сообщили о готовящемся мятеже, он попытался было удержать их, – ответила Элис. – Но руководители военного крыла „Ирландского Республиканского Братства“ держали его в неведении насчет сроков вооруженного восстания, потому что он горячо возражал против него в том случае, если оно не будет поддержано немцами. Макнилл, узнав, что верхушка ИРБ, „волонтеров“ и Гражданской армии призвала людей к манифестации во время Вербного воскресенья, своей властью отменил этот марш, запретил своим сторонникам выходить на улицу, пока не поступит приказ, подписанный им лично. Это породило еще большую неразбериху. Сотни и тысячи „волонтеров“ остались сидеть по домам. Многие пытались снестись с Пирсом, с Коннолли, с Кларком, но – безуспешно. И вот те, кто повиновался приказу, сидели сложа руки, а те, кто решился нарушить его, – пошли на смерть. И по этой причине многие из активистов „Шинн Фейна“ и „Ирландских волонтеров“ возненавидели Макнилла и сочли его предателем.
Она снова замолчала, а мысли Роджера обратились к Оуину Макниллу. Его сочли предателем? Какая глупость! Обвинить в измене основателя „Гэльской лиги“, издателя „Гэлик джорнэл“, человека, стоявшего у истоков создания „Ирландских волонтеров“ и жизнь положившего на борьбу за выживание ирландского языка и культуры, – и только потому, что он хотел остановить этот романтический и заранее обреченный на поражение мятеж? В тюрьме его, наверно, ждали бы издевательства или, в лучшем случае, то ледяное презрение, какого, по мнению ирландских патриотов, заслуживает всякий, кто трусит и колеблется, не в силах занять определенную позицию. Как тяжко там пришлось бы этому университетскому профессору, мягкому, просвещенному человеку, бесконечно влюбленному в язык, обычаи и культуру своей страны! Как, должно быть, терзал он самого себя вопросами: „Правильно ли я поступил, отдав этот контрприказ? Неужели я, радевший лишь о спасении многих жизней, способствовал поражению, внеся смуту, разброд и хаос в ряды восставших?“ Роджер чувствовал глубокое сродство с Макниллом. В сложных и противоречивых условиях, где оба оказались по воле Истории и обстоятельств, они повели себя схожим образом. Что было бы, если бы Кейсмент не задержался в Трали, а все же добрался бы до Пирса, до Кларка и других руководителей военного крыла и сумел бы поговорить с ними? Удалось бы ему убедить их? Скорее всего, нет. А теперь, вероятно, и про него говорят – „предатель“.
– Дорогой мой, – сказала Эллис с вымученной улыбкой, – я, наверное, неправильно поступаю. Рассказываю тебе только грустные новости. И все предстает в мрачном свете.
– Да разве может быть другой после всего, что произошло?
– Может! – вспыхнув, произнесла Элис совсем другим тоном. – Я ведь тоже была против восстания, тоже считала, что оно не ко времени. И все же…
– Что „все же“?
– На несколько часов, на несколько дней, на целую неделю Ирландия стала свободной страной, – сказала она, и Роджер заметил, что ее трясет от волнения. – Независимой, суверенной республикой с президентом и временным правительством. Мой племянник Остин еще не добрался до почтамта, когда Патрик Пирс, выйдя на ступени эспланады, прочел Декларацию независимости и декрет о формировании конституционного правительства Ирландской республики. Народу, кажется, собралось не очень много. И все, кто слушал его, испытывали, надо полагать, совсем особые чувства, а как ты думаешь, милый? Я говорила тебе, что была против. Но когда прочитала текст, расплакалась навзрыд, как не плакала никогда в жизни. „Именем Господа нашего и прошлых поколений, Ирландия нашими устами призывает сынов своих под свои знамена и провозглашает свободу…“ Видишь, я запомнила эти слова наизусть. И всей душой жалела, что меня нет там, среди них. Ты ведь понимаешь, о чем я?
Роджер прикрыл глаза. И отчетливо увидел, как все это было. На ступенях Центральной дублинской почты, под хмурым небом, грозящим вот-вот пролиться дождем, перед небольшой – сколько там было человек? сто? или двести? – толпой, большую часть которой составляли мужчины, вооруженные карабинами, револьверами, ножами, пиками, дубинами, но было и немало женщин в косынках и платках, вознеслась тонкая, стройная, болезненно-хрупкая фигура тридцатишестилетнего Патрика Пирса: обведя толпу стальными глазами, где горела воспетая Ницше „воля к власти“, всегда и неизменно позволявшая ему – особенно после того, как в шестнадцать лет он вступил в „Гэльскую лигу“, а вскоре и возглавил ее, став бесспорным лидером этой организации, – одолевать любые препоны, перебарывать все недуги, справляться с репрессиями властей и интригами единомышленников и наконец, исполнив мистическую мечту всей своей жизни, поднять ирландцев на вооруженную борьбу против британских захватчиков, – возвысил голос, которому значительность минуты придала особую звучность, и, тщательно подбирая слова, провозгласил пришествие новой эры, призванной навеки покончить с многовековым чужестранным владычеством и угнетением. Роджер будто сам ощутил, как после слов Пирса эта площадь в центре Дублина, пока не тронутая пулями, потому что перестрелка еще не началась, замерла в благоговейном, молитвенном безмолвии, и въяве представлял лица „волонтеров“, которые из окон почтамта и соседних домов на Сэквилл-стрит, захваченных мятежниками, наблюдали за торжественным и трогательным действом. Гул голосов, гром рукоплесканий, восторженные выкрики и здравицы, которыми люди на улице, в окнах, на крышах наградили последние слова Патрика Пирса, завершившего чтение Декларации и перечислившего поименно тех семерых, чьи подписи стояли под ней, – все это пролетело по площади и смолкло, и уже в краткой, напряженной тишине Пирс сказал, что времени больше терять нельзя. Все по местам, всем исполнять свои обязанности и готовиться к бою. Роджер почувствовал, что на глаза ему наворачиваются слезы. Его тоже проняла дрожь. Чтобы не заплакать, он торопливо произнес:
– Должно быть, волнующее было зрелище.
– Это был символ, а ведь История и состоит из символов, – отвечала Элис. – И неважно, что Пирса, Коннолли, Кларка, Планкетта и еще троих из тех, кто подписал декларацию, расстреляли. Наоборот! Омывшись в пролитой ими крови, новый символ засиял в ореоле мученичества и героизма.
– Именно того и добивались Пирс и Планкетт, – сказал Роджер. – Ты права, Элис. И мне бы хотелось быть там, с ними.
Почти так же сильно, как сама церемония, тронуло Элис и то, сколь многие из „Совета ирландских женщин“ принимали участие в восстании. Остин своими глазами видел и их тоже. Поначалу вожаки восстания поручили им готовить пищу для бойцов, однако почти тотчас вслед за тем, по неумолимой логике уличных боев, разгоравшихся все жарче, веер обязанностей раскрылся шире, превратив женщин из кашеваров в санитарок и сестер милосердия. Они делали перевязки, помогали хирургам извлекать пули, обрабатывать раны, ампутировать конечности. Однако эти женщины – и совсем еще юные, и зрелые, и стоявшие на пороге старости – играли и еще более важную роль курьеров, ибо по мере того, как баррикады оказывались отрезаны друг от друга, чаще возникала необходимость посылать этих поварих и санитарок – сперва на велосипедах, а потом и пешком – с устными и письменными приказами (в последнем случае, если курьер будет ранен или захвачен в плен, бумагу предписывалось съесть, сжечь или изорвать в клочки). Брат Остин уверял Элис, что все шесть дней восстания, когда в городе не смолкали орудийная пальба и перестрелки, гремели взрывы, снося балконы, обрушивая крыши и стены, превращая центр Дублина в россыпь разрозненных пылающих островков и в груду закопченных и окровавленных обломков – он постоянно видел, как неистово крутят педали своих железных коней эти девы-воительницы, эти ангелы в юбках, с героическим спокойствием, бестрепетно и бесстрашно мчавшие под пулями с донесениями и распоряжениями, чтобы не дать британской армии блокировать очаги сопротивления и потом подавить их поодиночке.
– А когда войска уже перекрыли все улицы и движение стало невозможно, многие из этих женщин взяли в руки оружие и стали драться бок о бок со своими мужьями, отцами и братьями, – продолжала Элис. – Не одна лишь Констанс Маркевич доказала, что нас несправедливо причислять к слабому полу. Многие, многие сражались наравне с нею и погибли или были ранены в бою.