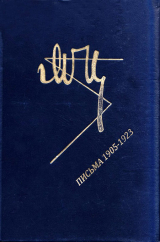
Текст книги "Марина Цветаева. Письма 1905-1923"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Дом – волшебный, поражает чистотой. Всё в чехлах. Я в диком раже. Т<а>к хочется рассмотреть все эти стенные и стоячие лампы, канделябры, статуи, картины, диваны, кресла, тумбочки, столы! Но нет: всё крепко зашито! В ее комнате всегда полутемно. Над диваном огромный портрет дедушки углем, по бокам фотографии: мамины детские и наши всех возрастов, на туалетном столике граненые флаконы – увы, пустые! Она не выносит духов – какие-то полированные ящички с цветами, ручные зеркальца, – всякая чудесная мелочь. Часы с вальсами Штрауса и Ланнера [300] больше не ходят, она говорит, что это после нашего последнего приезда.
Скоро зацветут липы. Они окружают весь сад, круглые, темные, страшно густые. Перед террасой площадка, посыпанная красным песком. Раньше на клумбах росли дивные цветы, теперь же ничего нет, всё сожрали и вытоптали мои враги, предмет моего глубочайшего отвращения – куры.
Не помню, писал ли Вам Сережа о нашем особняке на Собачьей площадке? [301] В нем 4 комнаты, потолок в парадном расписной, в Сережиной комнате камин, в моей и столовой освещение сверху (у меня, кроме того, нормальное окно) и вделанные в стену шкафы. Кухня и комната для прислуги в подвале. Если не будет собственного, хотелось бы прожить в этом доме подольше, такой не скоро найдешь!
Ну вот и всё о нас пока.
Пишите о себе, о коктебельской жизни этого лета, – прогулках, симпатиях, ненавистях (они должны быть, раз есть Толстой! [302]) Были ли в Феодосии, видались ли с Петром Николаевичем? [303] Он на наши книги [304], посланные из Шварцвальда, ничего не ответил.
Купаетесь ли?
Пишите обо всем и побольше. Ася целое лето будет в Москве. Да, я забыла: мы уже обставили всю нашу квартиру, купили старинный рояль с милым, слегка разбитым звуком, прекрасную ковровую мебель для Сережиной комнаты, зеркало из красного дерева, к<а>к и рояль, гардероб и т.д.
Будет очень волшебный домик, осенью увидите. Ну, окончательно до свидания.
МЭ
Впервые – НИСП. стр. 134–137. Печ. по тексту первой публикации.
13-12. В.Я. Эфрон
<Не позднее 11 июля 1912 г.>
Милая Вера,
Спасибо за возмутительно-неподробное письмо. Мы около 2-х недель скитаемся и мечемся по Москве в поисках «волшебного дома» [305]. Несколько дней тому назад (это для приличия, по-настоящему – вчера) нашли его в тихом переулочке с садами [306]. Что яблочный сад при нем – не верьте: просто зеленый дворик с несколькими фруктовыми деревьями и рыжим Каштаном в будке. Если хотите с Лилей жить в «волшебном доме», – будем очень рады. Одна комната большая, другая поменьше. Ответьте. Завтра Сережа едет в Петербург к Завадскому за разрешением [307], во вторник, по-видимому, дом будет наш. Нужно будет осенью устроить новоселье. До свидания, о подробном письме уже не прошу. Привет всем, вернее тем, кто меня любит. Другим не стоит.
Марина.
Впервые ― с небольшими сокращениями в кн.: Саакянц А. стр. 40. СС-6. стр. 102 (полностью). Печ. по СС-6 (с уточнением даты написания).
14-12. В.Я. Эфрон
Москва, 11-го июля 1912 г.
Милая Вера,
Я должна просить у Вас прощения: по некоторым обстоятельствам, о к<отор>ых я сразу не подумала, трудно будет устроить, чтобы Вы с Лилей жили у нас. М<ожет> б<ыть> Вы даже и не согласились бы, прошу прощения на случай согласия.
Бедный Сережа уже четвертую ночь в вагоне между Москвой и Петербургом. Мы ведь оба несовершеннолетние, папы сейчас нет, и приходится обращаться к Сережиному попечителю Завадскому [308]. Вчера мы целый день провели у нотариусов – главного и неглавного. Оказалось, что разрешение на купчую, выданное Сереже петербургским нотариусом и подписанное попечителем, написано не по форме, и Сереже пришлось вторично ехать в Петербург. Иначе всё дело с домом пропало бы. К счастью он хорошо спит в вагоне и вид у него ничего-себе. На днях всё это кончится и мы уедем куда-н<и>б<удь> на дачу, м<ожет> б<ыть> в Удельную [309].
Третьего дня вечером я встречала Н<ютю>. Поезд ее стоял всего 15 минут, и мы не успели рассказать друг другу всего. Она была очень оживлена, в восторге от путешествия, очень загорела и выглядит хорошо. А<лександр> В<ладимирович> [310] приезжает 16-го.
Прочла рецензию в Аполлоне о моем втором сборнике [311]. Интересно, что меня ругали пока только Городецкий и Гумилев, оба участники какого-то цеха [312]. Будь я в цехе, они бы не ругались, но в цехе я не буду.
Да, нечто приятное для Вас! Вчера мы в трамвае встретили одного Вашего знакомого. Он первый подошел к нам. – «Я узнал Вас по глазам», сказал он Сереже, – «у Вас настоящие эфроновские глаза. Скажите, пожалуйста, где теперь В<ера> Я<ковлевна> и Е<лизавета> Я<ковлевна>?» Сережа ответил. – «А где они будут зимой? Где будет В<ера> Я<ковлевна>? К<а>к мне ее разыскать? А к<а>к Ваше отчество?»
После этого он быстро повернулся и, не дождавшись ответа {31}, ушел на площадку.
Этот знакомый – Асмол… [313] Честное слово, всё было, к<а>к я говорю!
Пока до свидания.
Надеюсь, Вы на меня не сердитесь.
МЭ
Впервые – НИСП. стр. 139–140. Печ. по тексту первой публикации.
15-12. В.Я. Эфрон
Иваньково, 29-го июля 1912
Милая Вера,
Вот уже 5-ый день, к<а>к Сережа заболел и в постели: t° три дня стояла на 38,5-39,5. Был доктор, но ничего определенного не сказал: думает, что идет какой-то острый воспалительный процесс в области толстой кишки. Бедный Сережа уже пять дней почти ничего не ест: полное отсутствие аппетита и кроме того воспаление десен и нарывы по всему рту. Д<окто>р прописал строгую диэту; из лекарств – пирамидон и салол.
Мы живем на даче у артистки Художеств<енного> театра Самаровой [314], в отдельном домике. Есть чудесная комната для Вас, с отдельной маленькой террасой и входом. К<а>к только приедете в Москву, непременно приезжайте к нам и живите до начала занятий. Лиля умоляет Вас сделать это, несмотря на сравнительную дороговизну пансиона (50 р<ублей>).
Режим и воздух здесь очень хорошие. На соседней даче живут Крандиевские [315], к<отор>ые предлагают Вам свое гостеприимство в случае, если цена пансиона Вам не подойдет. Мы останемся здесь до 20-го августа.
Дорога сюда следующая: на трамвае до Петровского парка, потом на извозчике до самой нашей дачи (75 коп<еек>) Нанимайте в деревню Иваньково, извозчики уже знают.
Кроме всего остального, знакомство с Самаровой может оказать Вам пользу.
Она пожилая и очень трогательная, особенно своими заботами о Сереже.
Сейчас должен прийти доктор.
30-го июля 1912 г.
Вчера доктор высказал предположение, что это заболевание – инфекционное. Д<олжно> б<ыть> Сережа пил в Москве какую-н<и>б<удь> гадость. Сегодня t° почти нормальная, но слабость очень велика. Крандиевские каждый день заходят справляться о Сережином здоровье и ведут себя очень трогательно.
Скоро напишу Вам еще.
Ответьте поскорей, хотите ли Вы поселиться у Самаровой.
До свидания.
МЭ
Адр<ес>: Покровское-Глебово-Стрешнево по Моск<овско->Виндавской ж<елезной> д<ороге>. Деревня Иваньково, дача Самаровой.
Впервые – НИСП. стр. 140–141. Печ. по тексту первой публикации.
16-12. Е.Я. Эфрон
Иваньково, 1-го августа 1912 г.
Милая Лиля,
Сережа был это время очень болен, t доходила до сорока. Д<окто>р, приглашенный из Покровского, сначала подумал о воспалении толстой кишки, потом решил, что это остро-инфэкционная болезнь, происшедшая от какой-н<и>б<удь> плохой воды или чего-н<и>б<удь> в этом роде. Теперь он поправляется, но очень ослабел от долгого голодания. Рот у него упорно не улучшается: совершенно зеленый язык, до крови растрескавшийся по бокам, опухшие, налитые кровью десны с нарывами, – словом полный ужас. Ему трудно глотать даже холодную жидкую пищу. Сегодня сюда приехали к нам наши комиссионеры, – купчая окончательно утверждена и дом наш [316]. Не беспокойтесь о Сереже: теперь дело идет на поправку, но скоро ли он окрепнет – неизвестно. Нужно еще долго лежать и соблюдать диэту. Болезнь длилась около недели. Т<емпература> второй день нормальная. Всего лучшего, скоро напишу еще.
МЭ
Впервые ― НИСП. стр. 141–142. Печ. по тексту первой публикации.
17-12. Е.Я. Эфрон
Иваньково, 9-го августа 1912 г.
Милая Лиля,
Сережа приблизительно выздоровел. Приблизительно – потому что очень худ. Вчера мы были в Москве, в первый раз после его болезни.
Представьте себе: госпожа, продавшая нам дом [317], упорно и определенно не желает из него выезжать. 3 недели тому назад она уже знала, что ей придется найти себе квартиру к 5-му авг<уста>. Она же всё время преспокойно жила на даче, не делая никаких приготовлений к выезду.
Несколько дней тому назад мы еще раз предупреждали ее о необходимости выехать до 5-го, и вот вчера приезжаем в Москву, думая перевозить мебель – и что же? Квартиры у нее нет, ни одна вещь не вывезена, и сама она неизвестно где. Мы написали ей записку с извещением, что за каждый лишний день, прожитый ею в доме, считаем с нее по 10 руб<лей>. начиная с 8-го. Написали еще, что подали жалобу мировому, – чего по настоящему не сделали. Дело у мирового, говорят, длится около трех недель, а нам необходимо переехать до 15-го.
Ася берет наш особняк на Собачьей [318], но т<а>к к<а>к сама укладываться и возиться с переездом не может, выписывает из-за города экономку, к<отор>ую должна во время предупредить. Мы же не можем ей ничего сказать точного о дне выезда.
Кроме того, еще одна неприятность: по просьбе прежней хозяйки мы решили оставить ее дворника. Теперь же оказывается, что он неграмотный.
Стройку мы решили отложить до ранней весны [319] и м<ожет> б<ыть> обойдемся без нашего несколько подозрительного комиссионера. Вчера к К<рандиев>ским приезжал один молодой архитектор [320]. М<ожет> б<ыть> он возьмется за это дело.
Туся, Надя и сама M
Ей, конечно, нельзя отказать в доброте, но еще меньше в отсутствии всякого элементарного понятия о такте.
К 20-му мы думаем перебраться в Москву. Здесь с 25-го июля настоящая осень ― холодная, ветреная и дождливая. Листья опадают, небо с утра в темных низких тучах. Вчера мы купили книгу стихов Анны Ахматовой, которую так хвалит критика [322]. Вот одно из ее стихотворений:
«Три вещи он любил не свете:
За вечерней пенье, белые павлины
И стертые карты Америки.
Не любил, к<а>к плачут дети,
Чая с малиной
И женской истерики.
– А я была его женой».
Но есть трогательные строчки напр<имер>:
«Ива по небу распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой».
Эти строчки, по-моему, самые грустные и искренние во всей книге.
Ее называют утонченной и хрупкой за неожиданное появление в ее стихах розового какаду [323], виолы и клавесин.
Она, кстати, замужем за Гумилевым, отцом кенгуру в русской поэзии [324].
Пока всего лучшего, до свидания, до 20-го пишите сюда, потом на Б<ольшую> Полянку, М<алый> Екатерининской пер<еулок>.
МЭ
P.S. Сережа выучил очень много французских слов.
P.P.S. № нашего будущего телефона: 198-06.
Вам нравится?
Это был лучший из шести данных нам на выбор!
Впервые – НИСП. стр. 143–145. Печ. по тексту первой публикации.
18-12. <С.М. Кезельману>
<Август 1912 г. > [325]
Глубокоуважаемый Господин,
Я была очень рада получить письмо от Ольги [326] и Ваши несколько строчек, и я бы ответила Вам раньше, если бы всякие заботы, связанные с переездом [327], не лишили бы меня этой возможности.
И я очень счастлива за Ольгу так же как и за Вас, я вас обоих понимаю: Ваше положение относительно родных и те неприятности [328], связанные с этим для Ольги. Но из ее письма видно, что они долго не продлятся. Если бы я не была знакома с тем, кого Ольга любит, я бы боялась, что он ее не поймет, но я имела удовлетворение увидеть во время моего пребывания в Мюнхене [329], что Вы ее понимаете, как мало кто другой: ее честность, исключительную душевную чистоту. И ввиду того, что Вы ее так хорошо поняли, я верю в Вашу любовь.
Печ. впервые (перевод В. Лосской). Письмо (черновик) написано по-французски (хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ. Ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 307).
Адресат установлен предположительно по содержанию. Было ли письмо отправлено, неизвестно.
1913
1-13. М.А. Волошину
Милый Макс,
Конечно, делай, к<а>к хочешь, но я бы на твоем месте не давала книг [330] Бурлюку [331] на «льготных условиях». Если уж на то пошло, пришли его к нам, в склад. Мы сделаем ему уступку в 25 %. т.е. вместо 50-ти, он заплатит 35 к<опеек>. Это Пра мне прочла открытку Бурлюка.
Всего лучшего, до свидания в среду.
МЭ
Москва, 10-го марта 1913 г.
<Приписка М. Кювилье:>
Милый Макс, не забудьте, что я прихожу завтра в 3 ½ или в 4. Спокойной ночи. Майя [332].
Впервые – HИСП. стр. 145–146. Печ. по тексту первой публикации.
С начала декабря 1912 г. М.А. Волошин и Е.О. Кириенко-Волошина жили в Москве в квартире, нанятой сестрами Эфрон, – Кривоарбатский переулок, дом 13, квартира 9.
2-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Коктебель, 28-го апреля 1913 г.
Милые Лиля и Вера, Коктебель странно-пуст: никого, кроме Пра и Макса [333]. Дни серые, холодные и дождливые, с внезапными озерами синего неба. Мы живем в отдельном домике, в двух сообщающихся комнатах. Алина [334] ― в одно окно (в ней я жила месяц), наша – в два, с видом на горы и на Максину башню ― великолепную!
С Максом мы оба в неестественных, натянутых отношениях, не о чем говорить и надо быть милым. Он чем-то к<а>к будто смущен, – вообще наше en trois {32} невозможно. Разговоры смущенные, вялые, все всё время начеку.
М<ожет> б<ыть> это оттого, что он не знает, к<а>к относиться к Сереже. Оба почти не говорят серьезно.
Ничего не произошло и вряд ли произойдет, но все это давит.
Пра необычайно мила, мне хотелось бы сказать ― человечна. Мы долго сидим с ней, я сопровождаю ее в ее хозяйств<енных> путешествиях. Вместе поджариваем на керосинке разные вещи и выдираем на грядках гадкую траву.
Она рассказывает о своей молодости, за окнами темнеет – синяя, синяя темнота ― мы идем домой, Сережа отгоняя, я подманивая… собак. Их здесь очень много: 5 живут на наших террасах, Сережа швыряет в них камнями, я – хлебом.
Вчера Макс рисовал Сережин портрет [335] – вышел негр с ½ носа (М<акс> нашел, что у всех Эфронов должен быть такой нос).
– 11 час<ов> я кончаю. Сейчас отходит почта.
Всего лучшего.
МЭ
Впервые – НИСП. стр. 146. Печ. по тексту первой публикации.
3-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 27-го мая 1913 г., понедельник
Милая Волчья Морда,
Сейчас на темном небе яркий серп месяца, совсем серебряный, – горящее серебро. В воздухе многочисленные голоса собак. Влетела бабочка и, трепыхаясь, ползет по столу. Лева [336] говорит: «Марина, сейчас влетят разные летучие мыши и всякая гадость».
Мы только что кончили ужинать, – было крикливо, неловко и уныло. Крикливо из-за двух сестер [337], неловко из-за окриков на них Пра перед матерью и уныло из-за слишком ясного знания всего, что будет.
События сегодняшнего дня: мытье автомобиля перед его окраской, большая прогулка в горы. Мы отделились от художников: Эва Адольфовна [338], Сережа, Копа, Тюня и я. Какие горы мы видели, какие скалы, какое море! Сидели, спустя ноги в пустоту, пили воду из какой-то холодной дыры (источника), видели все море и чуть ли не весь мир. Произошел инцидент с Тюней. Сережа сказал, что талья у него самая тонкая из всех присутствующих (талий) и, возмущенный возражением Тюни, стал примерять ее пояс. Он, действительно, наделся на последнюю дырку, но при первом Сережином вздохе… лопнул, – совсем, окончательно, даже кончик отскочил шагов на пять. Тюня тотчас же назвала Сережу свиньей, потом отошла и всю остальную дорогу была гнусна.
Эва Адольфовна была в шароварах Пра и в своем татарском кафтане. Она купила себе голубой купальный костюм в «Бубнах» [339], и мы после прогулки купались, она и я.
Майя [340] тоскует, плакала уже в комнате Эвы Адольфовны, у себя и у Пра.
– «Ну, зачем Вы его выбрали? Что в нем такого? Толстый, с проседью {33}, в папаши Вам годится! Любить никого не может, я сама часто плачу из-за этого, я понимаю, к<а>к Вам должно быть горько. Да плюньте на него! Выбрали бы себе какого-н<и>б<удь> юношу, стройного, красивого, молодого, вместе бы бегали, вместе бы сочиняли стихи…»
– «Но я не могу на него плюнуть…»
Я думаю! Бедная Майя!
Пра все более и более восторгается Эвой Адольфовной.
А м<ожет> б<ыть> Вы уже далеки от всего этого.
Трещат цикады. На воле чудно – огромная, тихая ночь.
Я буду счастлива, я знаю, что существенно и не существенно, я умею удерживаться и не удерживаться, у меня ничего нельзя отнять. Раз внутри – значит мое. И с людьми, к<а>к с деревьями: дерево мое – и не знает, т<а>к же человек, душа его.
Со мной даже бороться нельзя: я внешне ничего не беру – и никто не знает, к<а>к много – внутри.
Желтый и синий лев (подарок Э<вы> А<дольфовны> и П<етра> Н<иколаевича> [341]) смотрит одобрительно. Он сидит рядом с львиной тарелкой [342] с одной стороны и настоящим Левой – с другой.
Автомобиль, пламенно вымытый обормотами, уехал краситься, и вернется вместе с Вами (?) через неделю.
Привет обоим белым волкам [343].
МЭ.
Впервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 14 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 105 106. Печ. по тексту НИСП. стр. 147–148.
4-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 28-го мая 1913 г.
Милый Михаил Соломонович, Сначала хроника: сегодня утром приехала невероятная, долгожданная, мифическая «мамаша» [344], в к<оторую> т<а>к не верила Пра, и – представьте себе! – я пожертвовала этим зрелищем для того, чтобы писать Вам письмо.
– Цените? – Вчера Лиля, Эва Адольфовна и Сережа уехали первые, я осталась одна у Петра Николаевича. Пили кофе. Он закатывал глаза, говорил туманно и прерывал свою пламенную речь озабоченными восклицаниями, вроде: «А Вам, может быть, мало сахара?» Я, не смущаясь, говорила дальше. Потом пришла Потапенко [345] ― одна из жен знаменитого писателя, – и повела нас обедать в какую-то невероятную семью – невероятную своей естественностью, нормальностью провинциализма. Мне сначала понравились эти маленькие, «уютные» комнатки, но потом вдруг стало гнусно. Кроме матери и пятерых детей – всех черных – был еще белый кот, пара тому, черному, у Рогозинских [346]. Что это был за кот! Длинный, худой, цепкий, с бело-желтыми глазами и хриплым, унылым, каким-то предсмертным голосом. Я сделала попытку приласкать его, но не могла. Выходя из этого милого семейства, П<етр> Н<иколаевич> сказал: – «Нет, Марина, не верьте, что этот кот когда-н<и>б<удь> был хорошим. Такие коты хорошими не бывают». – О его прежней хорошести говорила хозяйка в оправдание настоящей его гнусности.
Да! Утром, в 5 часов, Эва Адольфовна и Лиля отправились на пристань и пропустили пароход с Соколом [347], к<отор>ый, к<а>к оказалось после, вообще не приехал.
– Майя вчера ходила в белой головной повязке, Тюня в красивой прическе, делавшей ее похожей на английскую гравюру. Они очень подружились, сидели по обеим сторонам Макса, но когда Тюня нацепила Максу бантик и обезобразила этим его до крайности, Майя, совсем бледная, вышла.
Погода чудная, яркая, жаркая. Вчера Ванда Александровна [348] привезла огромную корзину черешен, – я вспомнила о Вас.
Гудит автомобиль, – кто-то уезжает в Феодосию.
– Без Вас наша жизнь потеряла много остроты. Многое еще хотелось бы Вам сказать.
Всего лучшего, до свидания.
МЭ.
Впервые – De Visu. M. 1993. № 9. стр. 14–15 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 106–107. Печ. по тексту НИСП. стр. 148–149.
5-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 28-го мая 1913 г., вторник
Милый Михаил Соломонович, Сегодня я узнала от Э<вы> А<дольфовны>, что Вы не приедете. Когда Вы это узнали, вспомнили ли Вы мое предсказание?
Очень жаль! Вы застали здесь только предчувствие лета. А сейчас жара, синева. Мы будем ночью ходить в горы. Хорошо будет ночевать на воле! Разожжем костер, возьмем с собой чайник, черешен, увидим восход луны и солнца.
Ужасно, ужасно жаль. Вы, мне кажется, должны любить ночные прогулки и ночные костры. А знаете, когда костер самый лучший? Вечером, на закате, вернее, тотчас же после заката. Дым и розовое небо.
Сегодня приехала Вера [349]. У нее на чердаке прелестно: везде шелковые шали, книги, из окна вид на море.
Пока я не знала, что Вы не приедете, я с радостью писала Вам, мне хотелось, чтобы Вы ничего не пропустили и, приехав, сразу жили дальше, к<а>к мы все. Теперь же я чувствую безнадежность все передать, сохранить Вас действующим лицом и тщетность моих частых писем. Когда Вы едете за границу?
Э<ва> А<дольфовна> в восторге от Пра, Пра в еще большем от нее. Ее подкупает и очаровывает откровенность Э<вы> А<дольфовны>, женственность ее переживаний. Недавно Э<ва> А<дольфовна> положила голову на колени Пра и воскликнула: «Ах, Пра, какая Вы мудрая!» – я бы не сказала. Она понимает все очень элементарно и многого, многого совсем не может понять. С Пра я совсем не могу говорить ни о своей жизни (внешне-внутренней), ни о своей душе. У нас с ней прекрасные отношения – вне моей сущности.
– Слушайте! Когда у нас будет дом в Тарусе, обязательно приезжайте [350]. Там липовый сад, два маленьких дома, коты, золотое вечернее небо и наше детство. Почему мне сейчас показалось, что Вам скучно слушать о детстве?
Вблизи широкая голубая Ока, плоты, у нас будет лодка. Есть еще грустный, грустный, серый, чахлый базар с режущей душу музыкой, почта с никогда не приходящими долгожданными письмами, а потом воля, синие дали, огромные луга, костры, небо.
Там очень грустно, почти невыносимо жить. Все кажется прошлым и сном. Главное я забыла: чудные часы со штраусовскими вальсами [351]. Это уже почти смерть, такая острая и сладкая тоска, такая невозможность жить, что становишься тенью, гибнешь, уплываешь.
В этих часах – весь романтизм, вся боль обожания, вся жажда смерти, – вся моя душа.
Но это далеко, далеко.
Слушайте, если мы до тех пор почему-нибудь разойдемся, я уеду, и Вы один еще лучше переживете все, о чем я Вам писала. До свидания, привезите мне что-н<и>б<удь> из Мюнхена [352].
МЭ.
Впервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 15–16 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 107–108. Печ. по тексту НИСП. стр. 149–150.
6-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 7<—8>-го мая / июня! 1913 г. [353] , пятница
Милый, к<а>к мне Вас жаль из-за проданного имения [354] и к<а>к дерзко, что Вы мне т<а>к долго не отвечаете. Je me partage entre ces deux sentiments {34}. Сейчас шесть часов вечера, за окном качается порозовевшая трава.
Слушайте, что бы Вы сейчас ни делали, бросьте все: садитесь в вагон, из вагона – в экипаж, велите лошадям звенеть бубенцами, нюхайте гадкую траву (помните?), восторгайтесь показавшейся вдали башней Макса, – пусть она растет, и когда дорастет до естественных размеров, прыгайте с экипажа.
– Все это, конечно, мысленно.
Потом мы будем пить чай на террасе, – без конфет, но с радостью. А когда стемнеет, будем проявлять. (Сегодня мы три раза снимали море за Змеиным гротом). Потом пойдем за калитку и увидим восход луны.
Ах, вчера было чудно! Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летящих облаков. Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстии облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась. Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер. – Все небо летело.
Говорили о конце света, и Вера боялась идти на свой чердак, где с потолка сыплется известка, а в щели врывается и воет ветер.
Мы с Сережей и Тюней – втроем – танцевали вальс.
Сегодня Сережа, Сокол и я были за Змеиным гротом, дальше того места, где я Вас с Сережей снимала. Мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны.
Сейчас много черешен, бедное мое волчье золото! Мы сегодня вчетвером съели девять фунтов. Пра перестала давать обеды, и мы теперь ходим в столовую на горе: Лиля, Сережа, Сокол, Маня Гехтман [355] (помните ночь после Халютиной? [356] Вы очень сердитесь на меня за записку?). Вера, Тюня, Копа и я. Остальные обедают в другом месте. В столовой мило и похоже на Швейцарию. Из одного окна вид совсем Швейцарский, из другого – напоминает Св<ятую> Елену [357]: пустынные желтые холмы, за к<оторы>ми чувствуется океан.
Чтобы привести в ужас других обедающих, Сережа и Сокол рассказывают самые невероятные вещи: об острове Цейлоне, поездках на Циппелине [358], знакомстве с франц<узским> премьером и т.п. Сегодня они были обезьянами.
Да, у нас завелся новый француз [359]: тоже сентиментальный, но еще не влюбленный в Лилю. Мы с ним собирали камешки, и я дала ему один – довольно гадкий. Он тотчас же сделал вид de la mettre sur son coeur (la pierre) {35}.
Петр Николаевич привез с собой много вина, (он же привез француза), – был последний и самый буйный ужин. Кончилось тем, что Маня Г<ехтман> заснула в комнате у Макса, несмотря на то, что француз идеально изображал кинематограф.
– А все-таки интересно, напишете ли Вы мне, или нет? ―
Эва Адольфовна последние дни совсем не была в Коктебеле. Это мы все ясно чувствовали. Проводы были без пороха, м<ожет> б<ыть>, из-за ее слабого желания скорой встречи. Она под конец совсем устала и сама не знала, хочет ли вернуться в Коктебель.
Передайте ей мой нежный привет. Впрочем, она раньше Вас получит от меня письмо [360]. До свидания, всего лучшего.
МЭ.
P.S. Спасибо за письмо {36}. Прочтите эту фразу ласковей, чем она звучит.
Впервые – De Visu. M. 1993. № 9. стр. 16–17 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 108–110. Печ. по НИСП. стр. 150–152.
7-13. М.С. Фельдштейну
Коктебель, 8-го июня 1913 г., суббота
Мордочка моя золотая, милая, волчья! Значит я верно поняла, что эта продажа имения будет для Вас горем! К<а>к мне Вас жаль, к<а>к мне больно за Вас! И ничего нельзя сделать. Слушайте, я непременно хочу, чтобы Вы побывали у нас в Трехпрудном, увидели холодный низ и теплый верх, большую залу и маленькую детскую, наш двор с серебристым тополем, вывешивающимся чуть ли не на весь переулок, – чтобы Вы все поняли! А главное – чтобы Вы увидели Андрея [361], т<а>к не понимающего, чем был и есть для нас его дом. Тогда – мне кажется – Вы поймете глубину и остроту моей боли за Вас.
Проходя мимо дома в Трехпрудном, мне всегда хочется сказать: «ci gît ma jeunesse» {37}.
Вы для меня теперь освящены страданием, Вы мне родной.
Я много думаю о Вас.
Не вчитывайтесь в мое третье письмо, мне отчего-то хотелось сделать Вам больно, я злилась на Вашу покорность судьбе. Но заметьте одно странное совпадение: в конце этого письма я писала Вам о маленьком доме под большими липами на берегу Оки. Что-то во мне к<а>к будто почуяло продажу Катина и предлагало Вам – очень робко – то, что будет у меня.
Когда мне было 9 лет – мы были тогда в Тарусе, – я сказала гувернантке: «Мы живем здесь семь лет подряд, но мне почему-то кажется, что наша жизнь очень изменится и мы сюда долго не приедем». Через месяц мама заболела туберкулезом, мы уехали за границу и вернулись в Тарусу через 4 года, – мама там и умерла. ―
Слушайте, это не фраза: что бы потом ни было, я никогда не отрекусь, что Вы одна из самых моих благородных встреч.
МЭ
Мальчиком, бегущим резво,
Я предстала Вам.
Вы посмеивались трезво
Злым моим словам:
«Шалость – жизнь мне, имя – шалость!
Смейся, кто не глуп!»
– И не видели усталость
Побледневших губ.
Вас притягивали луны
Двух огромных глаз, —
Слишком розовой и юной
Я была для Вас!
Тающая легче снега,
Я была – к<а>к сталь.
Мячик, прыгнувший с разбега
Прямо на рояль,
Скрип песка под зубом, или
Стали по стеклу…
Только Вы не уловили
Грозную стрелу
Легких слов моих, и нежность
Самых дерзких фраз, ―
– Каменную безнадежность
Всех моих проказ!
Коктебель, 29-го мая 1913 г., среда
МЭ
Впервые ― De Visu. M. 1993. № 9. стр. 17–18 (публ. Д.А. Беляева). СС-6. стр. 110–111. Печ. по тексту HИСП. стр. 152–154.
8-13. Е.Я. Эфрон
Коктебель, 2-го августа 1913 г., пятница
Милая Лососина! [362]
Посылаю Вам стихи Сереже и карточку Али в Вашем конверте. (Вот к<а>к можно в десяти словах обозначить отношения четырех человек.) Спасибо за Лёвскую красоту, но Вы ничего не пишете о своем приезде. Когда? С Петей [363], или одна?
Мы ждем ответа из санатории [364]. Лев целый день позирует: портрет подвигается [365]. Вера очень трогательно ухаживает за всеми. У меня есть для Вас одна новость о Лёве и Субботиной {38}, ― боюсь, что Вам ее уже написали. Если нет, расскажу Вам при встрече – интересней!
Вот стихи:
Как водоросли Ваши члены,
Иль ветви мальмэзонских ив.
Т<а>к Вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив
На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих
Всегда полузакрытых глаз.
Летели солнечные стрелы
И волны – бешеные львы…
Т<а>к Вы лежали, – слишком белый
От нестерпимой синевы.
А за спиной была пустыня
И где-то – станция Джанкой…
И тихо золотилась дыня
Под Вашей длинною рукой.
Т<а>к, утомленный и спокойный
Лежите – юная заря.
Но взгля́ните – и вспыхнут войны
И горы двинутся в моря.
И новые зажгутся лу́ны,
И лягут яростные львы
По наклоненью Вашей юной,
Великолепной головы. [366]
МЭ
Впервые ― НИСП. стр. 154–155. Печ. по тексту первой публикации.
9-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Москва, 17-го авг<уста> 1913 г.
Милые Лиля и Вера,
Пишу Вам в детской, перед отходом в банк. Ночевала я в Трехпрудном, где сейчас Ася, Борис и Андрюша [367]. Андрюша очень вырос, с длинными золотистыми волосами и очень темными серо-зелеными глазами. Ася с ним и Б<орисом> на зиму едет в Феодосию.
Сегодня же дам объявление о доме [368]. Комната у нас сдана за 20 р<ублей>. Дворник очень милый и расторопный, с пламенной мечтой о хозяине. Сейчас я говорила по тел<ефону> с Салтыковым [369]. Он трогательно беспокоится о Сереже. Пока всего лучшего, спешу.
Привет всем. К<а>к Аля? Не позволяйте Груше [370] уходить с ней далеко и вообще без вашего ведома.
Скоро напишу еще.
МЭ
Впервые – НИСП. С. 155. Печ. по тексту первой публикации.
10-13. Е.Я. и В.Я. Эфрон
Коктебель, т.е. Лосиный Остров
19-го авг<уста> 1913 г., понед<ельник>
Милые Лиля и Вера,
Сейчас я у Аси на новой даче до завтра. Завтра – первое объявление о доме. В Москве – хорошо, свежо, в доме всё исправно, дворник очень милый, кур всех зарезали, 2 собаки сбежали. Какие-то 2 господина заходили до моего приезда к дворнику. Один хотел снять дом, другой – купить. Ася пока здесь, через месяц едет в Феодосию с Борисом и Андрюшей на всю зиму Андрюша очень хорошенький, с золотистыми длинными волосами и очень темными – серо-зелеными глазами. Глаза и губы – Асины. Скажите Груше, что мы его сняли в фотографии в ее костюмчике. Пишите об Але. Лиля, пож<алуйста> отодвиньте Алину кроватку от стены т<а>к, чтобы она не могла достать до подоконника, где всегда валяются иголки и разная дрянь. Купается ли она через день по 10-ти мин<ут>? Лучше смотреть по часам. К<а>к ее зубы? Скажите Груше, что у меня есть материя ей на платье. Пока всего лучшего, из Москвы напишу всем. Пока всем привет.








