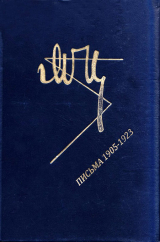
Текст книги "Марина Цветаева. Письма 1905-1923"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Наконец, подходит к столу и пишет: „Как только А<нна> К<аренина> взошла в залу, она подошла к зеркалу и оправила вуалетку…“ Или что-то в этом роде. – Вот.»
– «Железный закон необходимости. Ослепительно понимаю.»
– «Не бойтесь свободы – повторяю: свободы нет! – Кроме того, настоящим прозаиком можно сделаться только, пройдя школу стиха.»
– «О, не бойтесь! Длиннот у меня не будет, у меня наоборот стремление к сжатости, к формуле…»
– «Но чтоб и сухо не было, – может получиться схема. Проза Пушкина и то уже суха, хотелось бы подробностей. – и нету. Для прозаика нужно: умение видеть других, как себя и себя, как другого – и большой ум – он у Вас есть – и большое сердце…»
– «О! – Это!..»
– «Как Вы относитесь к А. Белому, п<отому > ч<то> tout compris {85} – это все-таки единственный прозаик наших дней.»
– «Он мне не близок, не мое, скорей – не люблю.»
– «Не любите Андрея Белого! – Т.е. – Вы меня понимаете? – не лично, не человека не любите, а прозаика, автора! Не хотелось бы, чтобы Вы подпали под его влияние.»
– «Я?! – Я не самомнительна, А. Белый – больше меня, но у меня точный ум и я не из породы одержимых. Он ведь всегда под какими-то обломками… Целый город упал на человека, – вот Петербург…»
– «И город-то призрачный!»
– Восторгаюсь. —
(Речь Вячеслава несравненно плавнее, чем здесь, у меня, но тороплюсь – пора за Алей и боюсь забыть.)
– «Однако, уже 10 часов, Вам пора за Алей.»
– «Еще немножечко!» (Вспоминает не в первый раз.)
– «Но ей спать пора.»
– «Но ее там накормят, она всегда рано ложится, и я так счастлива Вами – и разочек – можно?»
Улыбается.
– «Взял бы я Вас с собой во Флоренцию!..»
(О, Господи, ты, знающий, мое сердце, знаешь, чего мне стоило в эту секунду не поцеловать ему руки!)
– «Итак: мое наследье Вам: пишите Роман. Обещаете?»
– «Попытаюсь.»
– «Только меня беспокоит Аля, Вы ведь, когда начнете писать…»
– «О да!»
– «А что будет с ней?»
– «Ничего, будет гулять, она ведь сама такая же… Она не может без меня…»
– «Я всё думаю, как бы Вам уехать. Если мне не удастся выехать заграницу, я поеду на Кавказ. Едемте со мной?»
– «У меня нет денег и мне надо в Крым.»
– «А пока Вам надо за своей дочерью. Идемте.»
– «Только я Вас немножечко провожу. Вам ничего, что я без шляпы?»
Выходим. Иду в обратную сторону от Соллогуба, – с ним. На углу Собачьей площадки – он:
– «Ну, а теперь идите за Алей!»
– «Еще немножечко!»
<Далее две с половиной страницы не заполнены>
8-20. Вяч. И. Иванову
18/31 мая 1920 г.
Письмо к Вячеславу
(Переписываю, чтобы потом не забыть, как любила.)
Дорогой В<ячеслав> И<ванович>!
Это гораздо больше, чем можно сказать.
Сегодня мне нужно было идти в один дом, где будет музыка, (всегда иду за ней следом, как нищий!) – но я осталась дома, чтобы быть одной – (с Вами.)
Вы для меня такое счастье и такое горе – Ваш отъезд! [741] – что я совсем не знаю, что с этим делать. Буду ждать 15-го июня с ужасом, а оно будет, п<отому> ч<то> именно 15-го июня – сама сегодня утром назначила – солдат принесет керосин.
В<ячеслав> И<ванович>, я нынче сказала о совести, а Вы не поняли, теперь поймите – поймете!
Когда Вы меня сегодня спросили: «Вы очень дружны с Б<альмон>том?» знаете мой первый ответ – проглоченный – хотела написать – не могу – произносить такие вещи еще хуже – предательство, окончательное предательство. И вот теперь у меня угрызения совести.
Но – чтобы Вы не подумали хуже, чем есть – все-таки скажу. Вот что горело у меня тогда на губах:
– «Да, да, очень дружна, очень люблю, но Вы же не можете не понимать, что мне нужны только Вы!»
Это для меня самое невыносимое на свете хотя бы мысленно кого-н<и>б<удь> предать, – тот беззащитный, невинный, не знает, и даже сказать нельзя, п<отому> ч<то> он не раскаяние запомнит, а предательство, – искупить нельзя!
Думаю сейчас об этом своем ответе. – Откуда?
Пожалуй что все-таки: исконная неблагодарность – исконное оправдание наперед – исконное заметание следов – женщины.
Скажу о Вас и о Б<альмон>те.
Б<альмон>т – мне друг, я люблю его и любуюсь им, я окончательно верю в него, у этого человека не может быть низкой мысли, ручаюсь за него в любую минуту, всё, что он скажет и сделает будет рыцарски и прекрасно. С ним у меня веселье и веселие, grande camaraderie {86}, с ним я, он со мной – мальчишка, мы с ним очень много – главным образом! – смеемся. С ним бы мне хотелось прожить 93 г. в Париже, мы бы с ним восхитительно взошли на эшафот.
С ним мы – сверстники, только я, как женщина – старше.
Не усмотрите в этом непочтения – этим не грешу – но почитать Б<альмонта> – обижать Б<альмонта>, я, преклоняясь перед его даром, обожаю его. – Чудесное дитя из Сказки Гофмана [742], – да? (Das fremde Kind {87}.)
Отношение, будучи глубоко по сущности, идет, танцуя по поверхности, как солнце плещется по морю.
_____
– Вы. —
С Вами мне хочется вглубь, in die Nacht hinein {88}, вглубь Ночи, вглубь Вас. Это самое точное определение. – Перпендикуляр, опущенный в бесконечность. – Отсюда такое задыхание. Я знаю, что чем глубже – тем лучше, чем темнее – тем светлее, через Ночь – в День, я знаю, что ничего бы не испугалась, пошла бы с Вами – за Вами – в слепую.
Если во мне – минутами это пронзительно чувствую – (по безответственности какой-то!) – воплотилась – Жизнь, в Вас воплотилось Бытие.
– Das Weltall {89}.
(Заметили ли Вы, что нам всегда! всегда! всю жизнь! – приходится выслушивать одно и то же! – теми же словами! – от самых разных встречных и спутников! – И как это слушаешь, чуть улыбаясь, даже слово наперед зная!)
_____
Теперь о другом. Одно меня в Вас сегодня как-то растравительно тронуло: «много страдал – люблю жизнь – но как-то отрешенно»…
Го-спо-ди! – Ведь это – живая я. Потому так всё и встречаю, что уже наперед рассталась. Издалека люблю, à vol d'oiseau {90} люблю, хотя как будто в самой толще жизни.
Когда я с Вами сегодня шла, у меня было чувство, что иду не с Вами, а за Вами, даже не как ученик, а как собака, хорошая, преданная, веселая – и только одно не могущая: уйти.
Много собак за Вами ходило следом, дорогой В<ячеслав> И<ванович>, но – клянусь Богом! – такой веселой, удобной, знающей время и место собаки у Вас еще не было. – Купите собачий билет и везите во Флоренцию! —
Но Вы уедите! уедите! уедите!
Здесь в Москве я спокойна, я всегда могу Вам написать (злоупотреблять не буду, хотя – 3-ья страница! – уже злоупотребляю!) – могу окликнуть Вас на каком-н<и>б<удь> вечере, услышать Ваш старинно-коварно-ласковый голос, – да просто сознание, что по одним арбатским переулкам ходим, – я дом Ваш знаю [743], – значит Вы есть!
А во Флоренции я и мысленно не смогу ходить за Вами следом, я ни одной улицы не знаю, я во Флоренции не была!
Сейчас глубокая ночь, Вы спите. – Кто это был в красном платьице? – Ваш сын? [744] – Он Алин однолеток, о нем мне когда-то восторженно рассказывала мать Макса.
Шлю Вам привет – кладу Вам – по-собачьи – голову в колени. – Не сердитесь! Я не буду Вам надоедать, я Вас слишком люблю.
МЦ.
Впервые – НЗК-2. стр. 178–180. Печ. по тексту первой публикации.
9-20. Вяч. И. Иванову
Письмо к Вячеслову Иванову
(30-го мая ст. ст. 1920 г.)
Дорогой Вячеслав Иванович!
Сейчас уже очень поздно, – нет, уже очень рано! – первые птицы поют.
Мне только что снился сон про Вас: Вы уезжали, Вы наконец получили свободу и уезжали, и обещали мне зайти проститься: – «Только я приду к Вам очень поздно, – нет, очень рано, я всю ночь буду укладываться. Только сами уж стерегите меня на дороге, не пропустите!»
И вот, я решила вовсе не идти домой, ночь тянется, гаснут огни (мы не в Москве, а на каком-то рыбачьем островочке, везде море и сети. – Я поставила перед собой Алю, но Аля засыпает, отношу ее на руках домой, лезу на какие-то скалы. Дом на огромном высоком камне, вокруг пропасть. (А вдруг Аля проснется и спросонья упадет в пропасть, а вдруг во сне выйдет из дому?)
Но все-таки оставляю ее, иду на прежнее место, становлюсь, жду Вас. – И постепенный тихий ужас: а вдруг Вы уже прошли, пока я относила Алю? – «Стерегите меня», – а я ушла, не устерегла, и Вы уедете, я Вас никогда не увижу.
Каменею. – Жду – (Такой простой сон, слезы текут, слизываю.)
И вот – уже сереет, ветер, кусты движутся – и вот из-за скал и камней – Вы. Издалека различаю Вас: черная фигура, волосы на ветру. Не окликаю. Идете медленно, подходите, почти рядом. – «В<ячеслав> И<ванович>!» – Но Вы не останавливаетесь, не слышите, глаза закрыты, дальше идете, раздвигая спящими руками ветки.
Потом – провал во сне – помню себя влезающей на отвесную скалу, не за что ухватиться, Вы наверху, Вы сейчас уйдете, не прошу, чтобы помогли, сами протягиваете руку – улыбку Вашу вижу! – руки не беру, Вы не можете меня втащить, это я Вас стащу. И отпуская руками стену – чтобы руки не взять! – рухаю в пустоту.
И это рухаю еще длится! Проснулась и не прошло!
Потому что Вы уезжаете! – Я вчера видела Б<альмон>тов, виза получена, уезжают [745].
И сон – от этого. Только сон верней, п<отому> ч<то> слезы-то текли – из-за Вас! – сторожила-то я – Вас! – Алю-то бросила в страшном доме – из-за Вас!
– Дружочек! – Это такое горе! – А сегодня надо идти за пайком и радоваться, что получила!
И это растравление: что Вы еще здесь, что еще несколько дней будете здесь, что Вас будут видеть столько людей, – все, кроме меня!
Беру Вашу руку – одну и другую – прижимаю к груди – целую.
И вопрос – просьба – и – заранее! – покорность.
МЦ.
Впервые – НЗК-2. стр. 188–189. Печ. по тексту первой публикации.
10-20. H.H. Вышеславцеву
Москва, 31-го мая ст. ст. 1920 г.
Н<иколай> Н<иколаевич>!
Мне та́к – та́к много нужно сказать Вам, что надо бы сразу – сто рук!
Пишу Вам еще как не-чужому, изо всех сил пытаюсь вырвать Вас у небытия (в себе), я не хочу кончать, не могу кончать, не могу расставаться!
У нас с Вами сейчас дурная полоса, это пройдет, это должно пройти, ибо если бы Вы были действ<ительно> таким, каким Вы сейчас хотите, чтобы я Вас видела (и каким Вас – увы! – начинаю видеть!), я бы никогда к Вам не подошла.
Поймите! – Я еще пытаюсь говорить с Вами по-человечески – по-своему! – добром, я совсем Вам другое письмо писать хотела, я вернулась домой, захлебываясь от негодования – оскорбления – обиды, но с Вами нельзя так, не нужно так, я не хочу забывать Вас другого, к к<ото-р>ому у меня шла душа!
Н<иколай> Н<иколаевич>! Вы неправильно со мной поступили.
Нравится – разонравилась, нужна (по-Вашему: приятна) – неприятна, это я понимаю, это в порядке вещей.
И если бы здесь та́к было – о Господи, мне ли бы это нужно было говорить два раза, – один хотя бы?!
Но ведь отношение здесь шло не на «нравится» и «не нравится» – мало ли кто мне нравился – и больше Вас! а книжек я своих никому не давала [746], в Вас я увидела человека, а с этим своим человеческим я последние годы совсем не знала куда деваться!
Помните начало встречи: Опавшие листья? – С этого началось, на этом – из самых недр, – до самых недр – человеческом – шло.
А как кончилось? – Не знаю – не понимаю – всё время спрашиваю себя: что я сделала? М<ожет> б<ыть> Вы переоценили важность для меня – Ваших рук, Вашего реального присутствия в комнате, (осади назад!) – эх, дружочек, не я ли всю жизнь свою напролет любила – взамен и страстнее существующих! – бывших – небывших – Сущих!
Пишу Вам в полной чистоте своего сердца. Я правдива, это мой единственный смысл. А если это похоже на унижение – Боже мой! – я на целые семь небес выше унижения, я совсем не понимаю, что́ это такое.
Мне так важен человек – душа – тайна этой души, что я ногами себя дам топтать, чтобы только понять – справиться!
Чувство воспитанности, да, я ему следую, – здравый смысл, да, когда партия проиграна (раньше, чем партия проиграна), но я здесь честна и чиста, хочу и буду сражаться до конца, ибо ставка – моя собственная душа!
– И божественная трезвость, к<отор>ая больше, чем здравый смысл, – она-то и учит меня сейчас: не верь тому, что видишь, ибо день сейчас заслоняет Вечность, не слышь того, что слышишь, ибо слово сейчас заслоняет сущность.
Первое зрение во мне острее второго. Я увидела Вас прекрасным.
Поэтому, минуя «унижение» – и – оскорбления – всё забывая, стараясь забыть, хочу только сказать Вам несколько слов об этой злополучной книжечке.
Стихи, написанные человеку. Под сеткой стихотворной формы – живая душа: мой смех, мой крик, мой вздох, то, что во сне снилось, то что сказать хотелось – и не сказалось, – неужели Вы не понимаете?! – живой человек – я. —
Как же мне всё это: улыбку, крик, вздох, протянутые руки – живое!!! – отдавать Вам, к<оторо>му это нужно только как стихи?!
«Я к этой потере отношусь не лирически», а стихи-то все, дар-то весь: Вы – я – Вам – мое – Вас… Как же после этого, зачем же после этого мне Вам их давать? – Если только как рифм<ованные> строки – есть люди, к<отор>ым они более нужны, чем Вам, ибо не я же! – не моей породы поэты – Ваши любимые!
То же самое что: тебе отрубают палец, а другой стоит и смотрит, – зачем? Вы слишком уверены, что стихи – только стихи. Это не так, у меня не так, я, когда пишу, умереть готова! И долго спустя, перечитывая, сердце рвется.
Я пишу п<отому> ч<то> не могу дать этого (души своей!) – иначе. – Вот. —
А давать их – только п<отому> ч<то> обещала – что ж! – мертвая буква закона. Если бы Вы сказали: «Мне они дороги, п<отому> ч<то> мне»…, – «дороги, п<отому> ч<то> Ваши», «дороги п<отому> ч<то> было»…, «дороги, п<отому> ч<то> прошло», – или просто: дороги – о, Господи! как сразу! как обеими руками! —
А так давать, – лучше бы они никогда написаны не были!
– Странный Вы человек! – Просить меня переписать Вам стихи Д<жалало>вой [747] – привет моей беспутной души ее беспутной шкуре.
Зачем они Вам? – Форма? – Самая обыкновенная: ямб, кажется. Значит, сущность: я. – А то, что Вам написано, Вами вызвано. Вам отдано, – теряя это (даже не зная – что, ибо не читали) Вы не огорчены лирически, а просите у меня книжечку, чтобы дать мне возможность поступить хорошо. – Не нужно меня учить широким жестам, они все у меня в руке.
– Как мне бы хотелось, чтобы Вы меня поняли в этой истории со стихами – с Вами самим!
Как я хотела бы, чтобы Вы в какой-нибудь простой и ясный час Вашей жизни просто и ясно сказали мне, объяснили мне: в чем дело, почему отошли. – Так, чтобы я поняла! – поверила!
Я, доверчивая, достойна правды.
Устала. – Правда как волна бьюсь об скалу (не не-любви, а непонимания!)
И с грустью вижу, насколько я, легковесная, оказалась здесь тяжелее Вас.
МЦ.
– И на фронт уходите [748] и не сказали. —
_____
Так, выбившись из страстной колеи,
– Настанет день – скажу: «Не до любви!»
Но где же на календаре веков
Тот день, когда скажу: «Не до стихов!» [749]
_____
(Можно было бы – обратно!)
Впервые – НЗК-2. стр. 190–192. Печ. по тексту первой публикации.
11-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<3-го июля 1920> [750]
Милая Вера, милый Саша!
В четверг будем у Вас: Волькенштейн [751] и я, – может быть, Бебутов [752], если Волькенштейн его поймает, я давно уже его не видала.
Приходили: Аля, моя приемная дочка (милиотиевская старшая [753]) – и я.
МЦ.
Вторник.
Волькенштейн захватит пьесу «Паганини» [754].
Впервые – Швейцер В. стр. 337. СС-6. стр. 155. Печ. по тексту СС-6.
12-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, 15-го августа – Успение
Видела Вас. Полушутя спросила, со всеми ли Вы целуетесь. – «Ни с кем». – Гм. – Впрочем, если это даже так – сейчас, это не будет так уже три дня спустя.
Поэтому мне приблизительно всё равно.
Если Вы говорили неправду – жаль. Вы теряете единственный случай за всю Вашу жизнь быть правдивым с женщиной.
(Сейчас в черноте играет унылый солдатский рожок, – думаю о том, что у Вас нет души, есть дух (Пафос), – воображение (творчество) – и сердце (припадки любовности, – вроде малярии!). Но Вам нечем и нечего ответить на такой рожок!) —
Так, повидались, – дитя до ржи и дитя во ржи, – все великолепно, теперь можно сделать передышку. «Завтра приду» – потом – через Эву [755]: «сегодня приду» – сегодня просто не пришли, – три дня, – я уже, кажется начинаю устанавливать, что я нужна Вам через пять дней на шестой.
Ах, дружочек, я предпочитаю разряжать / разгружать {91} души, чем тела!
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. 3).
Адресат установлен предположительно.
13-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, 18-го русск<ого> августа 1920 г.
– Только что докурила последнюю папиросу у моего подъезда. Вы не зашли ко мне – и потому-что устали, – и потому-что боялись объяснений? А может быть Вы уже так поверили в мою мужскую сущность, что не предполагаете и возможность объяснений со мной?
А моя мужская сущность, дружочек, не более и не менее как моя женская délicatesse de coeur {92} – и к себе и к другому.
Я раньше другого понимаю, – в этом моя сила.
И, поняв, иду или навстречу или отхожу. Человеку со мной легко, мне с собой – трудно.
Думаю о Вас и ничего не понимаю. Если Вы никого другого не любите, Вы все-таки оторвались от меня. Это ясно. Будем говорить просто: в первые дни – недели – нашего знакомства, Вы бы нашли для меня время, – для себя нашли бы! В том-то и дело, что тогда – для себя, сейчас – для меня. – Для себя всегда хватает – даже в разгар театрального сезона, даже в Советской Москве! – Так? —
– Если Вы никого другого не любите, Вы и меня не любите. – Достоверность. —
Когда любят, хотят быть вместе, рвутся к человеку, скучают без человека, жалко есть яблоко без него.
– Так? —
Так, дружочек. Это Вам подтвердят и Шекспир, и поволжский плотогон, и негр с кольцом в носу, и собака воющая без хозяина, и через тысячу лет так будет.
– Скучно. – В <нрзб> —
Странно звучит, но сейчас В<олькенш>тейн более привязан ко мне, чем Вы, и мне с ним добрее, проще, человечнее.
А все-таки лучше, что Вы не зашли, мне сейчас больно, но спокойно, я одна, поезда воют, Аля спит, нет этой смуты от неведомо-кого в комнате, ибо: Вы для меня утрачены, я Вас совсем не понимаю, собеседник остался, человек исчез.
Вы мне ничего не сказали, мне не надо слов, я давно с Вами рассталась, – тогда в те долгие-долгие вечера (ночи, утра) когда сторожила Вас на подоконнике.
Как я Вас тогда любила и как мне было больно!
– Потом, после встречи с Вами – после того перерыва уже ничто не возобновилось, человек смог без меня, – этого не вытравишь ничем. Я отстранилось, сама смогла без Вас, твердо смогла. – Вы может быть и не понимаете такого отстранения, я не отказала ни в чем? – Я знаю только один отказ – невольный – когда душа отказывается верить – все остальные отказы, в конце концов, мелкие счеты, особенно когда не трудно отказать.
Вся моя линия с Вами (как со всеми) была: бери, раз нравится, – только другие брали вещи, большие и маленькие, Вы взяли всего человека, другие дорожили – раз вещи, Вы человека сочли за вещь и, не ценя вещей, бросили.
Что у меня к Вам осталось? – Волнение от чудесного голоса (Вашего вернейшего сообщника!) – прелесть Ваших движений – очарованность собеседником, – умиления немножко.
И еще – чувство какой-то незаслуженной обиды – хотя – я глупа – в любви всё незаслуженно.
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. 3).
Адресат установлен предположительно.
14-20. <В.Д. Милиоти>
Москва, август 1920 г.
Милый друг!
Перебрав сейчас мысленно, чего я хочу (из сущего) – воблы, яблоко, чаю, папирос, – я поняла, что ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, – а пятого: а именно – писать Вам.
И вот, – уже пыталась было настроить себя на сонный лад, – сразу ожила, развеселилась, – ночь ведь втрое длиннее дня! – всё успею!
– Я хочу сказать Вам о себе и Вас всю правду. (Простите, что «о себе» на первом месте, но так оно сейчас и есть). – Всю правду. – Это не должно Вас страшить. Во-первых, Вы это письмо получите только после моего отъезда – ответ исключается, – во-вторых: правда, когда человек умен, всегда ценнее вымысла, (а может быть: вымысел в руках умного человека не может не <пропуск слова> правдой. Но я уклоняюсь!)
Дружочек, я ничего не знаю – и я всё знаю.
Вы любите кого-то другого.
Началось это так: после тех двух недель, когда мы с Вами не виделись, у Вас и у меня пропало одно и то же чувство: вечности, неразрывности, невозможности друг без друга.
(Верьте на слово, я права).
Тогда, при встрече, я – отчасти от радости, что Вы со мной, – больше из природной сдержанности во всем для себя тяжелом – тогда я совсем Вам не рассказала, чем были для меня эти две недели: как я сидела ждала, лежала ждала, ходила ждала, как грызла себе сердце на подоконнике и залечивала его у письменного стола. – Милый друг, когда с Вами так будет, Вы вспомните и поймете. —
Думаю, что Вы не поняли легкости моей протянутой руки, – истолковали вообще легкостью – равнодушием.
Классическая сцена ревности больше бы убедила Вас в моей любви. (Простонародное: «не ревнует – не любит».) Ревность. – Не знаю. —
Если ревность – боль оттого, что человек уходит, у меня, конечно, была ревность. Я только не направляю ножа на другого. Поэтому и нет сцены. Но нож все-таки есть.
И сейчас есть.
– Дорогой! – Сейчас, в настоящую минуту, я Вам совсем не нужна. Я ведь знаю Вас, Вы идолопоклонник. Записочки, колечки, «зверски скучал», – Tout va de son Drain {93}, – y Вас для меня нет ни секунды времени, ни мысли, Вы весь поглощены, Вы и себя не помните. Я люблю Ваш Пафос – и – пересиливая себя – говорю Вам: «Лучше так – чем никак!».
Мое письмо Вы получите только через месяц. Не знаю, равняется ли душевный диапазон Вашей героини – диапазону творческому, поэтому не знаю, что́ в Вашем отношении – месяц, не думаю – руку на сердце положа – чтобы таких месяцев набралось – слишком много!
Впрочем, я Вас мало знаю, знаю только с собой, других Вы ведь, кажется, любили – годы?
Но не об этом я хочу говорить. Я хочу только объяснить Вам, что не из забывчивости, не из равнодушия так легко отпустила Вас, – а оттого, что умна – и – хорошо воспитана.
– Видите, когда человек перестает любить меня, (замечаю это всегда раньше, чем он!) – я сразу перестаю верить, что он когда-либо любил меня, просто не помню, всё истолковываю иначе, – откуда же взять даже мысленный упрек, – раз ничего не было?! – Это не неблагодарность, – просто смущенность всего существа.
Эти два месяца с Вами для меня сейчас как сон – не потому что так прекрасны – (хотя они и были прекрасны!) – но потому что я не понимаю как они могли быть. Я справедлива: не преувеличиваю и не приуменьшаю ни Вас, ни себя: Вы стоите меня, а я – Вас, – но – очевидно: коса на камень. Вы еще более жадны на любовь, чем я.
Печ. впервые. Письмо (черновик) хранится в архиве М. Цветаевой в РГАЛИ (Ф. 1190, оп. З).
Адресат установлен предположительно.
15-20. A.C. Ерофееву
<17-го октября 1920 г.> [756]
Милый Саша!
Ждали Вас с Влад<имиром> Мих<айловичем> [757], ели яблоки, читали. Привет.
МЦ.
Впервые – Швейцер В. стр. 337. СС-6. стр. 155. Печ. по тексту в СС-6.
16-20. М.А. Волошину
Москва 21-го ноября / 4-го дек<абря> 1920 г.
Дорогой Макс!
Послала тебе телеграмму (через Луначарского [758]) и письмо (оказией). И еще писала раньше через грузинских поэтов – до занятия Крыма [759].
Дорогой Макс, умоляю тебя, дай мне знать, – места себе не нахожу, каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас, – ради Бога!!!
Не пишу, потому что не знаю, где и как и можно ли.
Передай это письмо Асе. Недавно ко мне зашел Е.Л. Ланн [760] (приехал из Харькова), много рассказывал о вас всех. Еще – устно – знаю от Э<ренбур>га [761]. Не трогаюсь в путь, потому что не знаю, что меня ждет. Жду вестей.
Поцелуй за меня дорогую Пра, как я счастлива, что она жива и здорова! – Скажи ей, что я ее люблю и вечно вспоминаю. – Всех вас люб<лю>, дорогой Максинька, а Пра больше всех. Аля ей – с последней оказией – написала большое письмо [762].
Я много пишу. Последняя вещь – большая – Царь-Девица [763]. В Москве азартная жизнь, всяческие страсти. Гощу повсюду, не связана ни с кем и ни с чем. Луначарский – всем говори! – чудесен. Настоящий рыцарь и человек.
Макс! Заклинаю тебя – с первой возможностью дай знать, не знаю, какие слова найти.
Очень спешу, пишу в Тео [764] – среди шума и гама – случайно узнала от Э<ренбур>га, что есть оказия на Юг.
– Ну, будь здоров, целую всех Вас нежно, люблю, помню и надеюсь.
МЦ.
Впервые – ЕРО. стр. 179–180 (публ. В.П. Купченко). СС-6. стр. 62–63. Печ по НИСП. стр. 281.
17-20. Е.Л. Ланну [765]
Кусочек письма:
Дружочек! – Только что расстались с Вами, на щеке всё еще чувство Вашей куртки. – Хочу быть с Вами и должна быть с Вами, – я сейчас обокрадена – Вы бы лежали и спали, я бы сидела и смотрела, я люблю Вас больше себя, мне совсем не нужно (до страсти нужно!) всё время говорить с Вами, я безумно боюсь Вашей усталости, – о, Ваше личико нежное, изломанные брови, кусочек уха под волосами, впадина щеки! – Пишу и уже чувствую теплую черноту Ваших волос под губами, на всем лице! – Я бы просто сидела рядом, Вы бы спали. – Ваши кверху заломленные руки! – Но Вы бы не заламывали рук, я бы упорно загоняла бы их под плэд. – Знаете, как я сижу? – Правая рука за Вашей спиной, левая у Вас под головой, тихонько и бережно соединяю обе. – Чувствую боком милый остов Вашего тела, такого пронзительного сквозь толщу всех плэдов и шуб! – Когда Вы, в первый раз после меня, ляжете ночью, почувствуйте, пожалуйста, меня возле себя, – я забыла, что лоб мой – на Вашем.
Обожаю Ваш лоб.
_____
Вынула сейчас Вашу цепочку и поцеловала, – мне еще никто никогда не дарил цепочки – и как хорошо, что внутри, не на показ, так близко от души!
Вспомните меня – живую! – как я сидела возле Вас (и еще буду сидеть!) – обняв – и не обняв – слушая – любуясь отстраняясь, чтобы лучше любоваться – вспомните меня!
_____
Завтра мы встретимся в Тео, увижу Вас в шубе: острая морда в воротнике, белые перчатки.
Потом увижу Вас вечером у Жозефа – Парижского мальчика – с двукрылыми волосами, с победоносным взлетом лба, в лиловой куртке.
Потом увижу Вас в театре: хочу в ложе, чтобы сидеть близко, – и, клянусь Богом, что это не пристрастье к шкуре (которой у Вас нет и к<отор>ую люблю нежнейше!) – а страсть к Душе.
Пишу Вашим пером. – Серебряное и летит. – Как я буду жить без Вас?!
_____
(Конец ноября 1920 г.)
Впервые – НЗК-2. стр. 225–226. Печ. по тексту первой публикации.
18-20. Е.Л. Ланну
28-го русск<ого> ноября 1920 г.
– После вечера у Гольдов [766]. —
То, что я чувствую сейчас – Жизнь, т.е. – живая боль. И то, что я чувствовала два часа назад, на Арбате, когда Вы – так неожиданно для меня, что я сразу не поняла! – сказали:
– «А знаете, куда мы поедем после Москвы?»
И описание Гренобля – нежный воздух Дофинэ – недалеко от Ниццы – монастырская библиотека – давно мечтал… Гренобль, где даже тень моя не проляжет!
– Дружочек, это было невеликодушно! – Лежачего – а кто так кротко лежит, как я?! – не бьют: – Понимали ли Вы, что делали, или нет? —
Рядом с Вами идет живой человек, уничтоженный в Вас – женщина (второе место, но участвует!) – и Вы в спокойном повествовательной тоне вводите ее в свою будущую жизнь – о, какую стойкую и крепкую! – где ей нет места, – где даже тень ее не проляжет!
А если не нарочно (убеждена, что нечаянно, – тем хуже!) – это дурной поступок, – ибо я и это приму.
Вы для меня растравление каждого часа, у меня минуты спокойной нет. Вот сегодня радовалась валенкам, – но глупо! – раз Вы им не радуетесь.
– Хороша укротительница?!
Впервые – НЗК-2. стр. 226–227. Печ. по тексту первой публикации.
19-20. Е.Л. Ланну
Москва, 6-го русс<кого> декабря 1920 г., воскресенье
Из трущобы – в берлогу
– Письмо первое —
Дружочек!
После Вашего отъезда жизнь сразу – и люто! – взяла меня за бока.
Проводив Вас взглядом немножко дольше, чем было видно глазами, я вернулась в дом. У Д<митрия> А<лександровича> [767] было милое, вопрошающее – и сразу благодарное мне! – лицо {94}. Благодарная за похвалу, я сделалась вдвое веселей и милей, чем при Вас. Месхиева [768] ругала Малиновскую [769]. Д<митрий> Алекс<андрович> деликатно опровергал. Аля возилась с собакой, Д<митрий> А<лександрович> с Алей.
Потом мы с Месхиевой пошли домой, я – оберегая ее от ухабов, она меня – от автомобилей.
– «Вы очень подружились с Ланном?» – «Да, – большой поэт и еще больший человек. Я буду скучать о нем». «Вам нравятся его стихи?» – «Нет. Извержение вулкана не может нравиться. Но – хочу я или не хочу – лава течет и жжет».
– «Он в Харькове был очень под влиянием Чурилина» [770]. – «Однородная порода. – Испепеленные. – Испепеляющие».
Назначив друг другу встречу в понедельник (хотя любить ее не буду, – настороже, себялюбива и холодна!) – расстались.
Дома я уложила Алю. – Да, постойте! – Взойдя, я сразу поняла: не чердак и не берлога, – трущоба! И была бы совсем счастлива определением, если бы рядом были Вы, чтобы оценить. – Поняв трущобность, удовлетворилась ею, и ушла ночевать в приличный дом, – к знакомым Скрябиной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм и сомнамбулизм, я лежала на огромном медведе, не слушала, спорила, соглашалась и спала. Ночью тридцать раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла до свету, оставив всех в недоумении, – зачем приходила.
– Такой Москвы Вы не знаете, да и я забыла, что она есть! – Тишина – фарфоровость – блеск и ломкость. Небо совсем круглое и все розовое, и снег розовый, – и я тигровым привидением [771] – Не встретила ни человека.
Дойдя до Смоленского [772], решила – noblesse oblige {95} – навестить – посетить его останки – и – о удивление! – не помер: мужик с дровами!
– «Купчиха, дров не надоть!» – «Даже очень!»
Впряглась с мужиком и довезла до дому 4 мешка дров. Отдала всю пайковую муку, – по крайней мере не украдут, а дрова я потороплюсь сжечь. И сразу – глупое сожаление: – «Ну, конечно, – только он уехал, – и дрова! А я его морила холодом». (Но поняв, что Вам сейчас все равно – тепло, сразу успокоилась.)
– В 12 ч<асов> дня посылаю Алю на Собачью площадку (к<отор>ой по-Вашему нет), – в Лигу Спасения Детей, за каким-то усиленным питанием, а сама сажусь дописывать те – последние – стихи, диалог над мертвым [773].
Потом голова болит, ложусь на Алину кровать, покрываюсь тигром и пледом, дрова есть – значит, можно не топить, ужасный холод, голова разлетается, точно кто железным пальцем обводит веки. – Сплю. – Просыпаюсь: темнеет. Али нет. – Иду к Скрябиным [774]. – Там нет. – Вспоминаю год назад – приют, госпиталь, этот ужас всех недр [775] – вспоминаю и последние две недели сейчас, мою сосредоточенность на себе, мое раздражение на ее медленность, мое отсутствие благодарности Богу, что она есть. Возвращаюсь, жду, читаю какую-то книгу. – Темнеет. – Не могу сидеть, оставляю ей записку в дверях, иду во Дворец Искусств, к одному художнику [776]. – «Была у Вас Аля?» – «Только что ушла». Опять домой. Часы проходят. (Уже 5 ч<асов>). – Ее нет. – Дверь раскрывается. В<олькен>штейн. – «М<арина> И<вановна>, я пришел к Вам насчет пьесы, я хочу устроить…» – «Мне не до этого, – Аля пропала. Оставьте меня». – Упорствуя, расспрашивает. Неохотно – резко – почти грубо рассказываю. – Идет искать. – Жду. – Час проходит. Совсем темно. Возвращается. Во Дворце ее видели все: была и у Рукавишникова [777], и в канцелярии, и у цыган, и в подвалах, – но нигде нет [778]. – Садится. – «М<арина> И<вановна>, Вы еще увидите того поэта?» – «Нет». – «Но будете ему писать?» – «Не знаю». (Недоумение.) – «Мне очень жаль, что так мало пришлось поговорить с ним тогда». (– «Подлизывается!» – думаю я с презрением). – «Он мне очень понравился. И – заметили ли Вы, что он совершенно похож на коненковского Паганини, – точно с него делано!» – Я, оживляясь: – «Коненковского Паганини я не рассмотрела, – близорука, но – как странно – в первую же встречу, через 10 мин<ут> после того, как он вошел, сказала ему, что он похож на Паганини» [779]. – «Значит, Коненков правильно понял Паганини». – «Так вот, если будете ему писать, напишите ему следующее. – Я потом думал о нем. – Его творчество – и декламация – и всё явление… Этот человек сведенный, судорожный, исступленный. Человек трудной жизни. Мне пришел в голову такой пример: когда Станиславский смотрит молодого актера, он первым делом говорит ему: – „Легче! Легче! – Так, распустите мускулы. – Совсем свободно“. – „И всё?“ – „Да, и всё. Чувствуйте: напряжение позади, сейчас освобождение. Не бойтесь, что Вам даром платят деньги!“ – Так вот, я думал о нем. Он не доверяет легкости, – он брезгует ею. Он намеренно громоздит трудности. Ему нужны только непосильные задачи. О, ему трудно жить, – тем более, что все это из глубины, в большой серьез».








