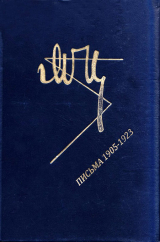
Текст книги "Марина Цветаева. Письма 1905-1923"
Автор книги: Марина Цветаева
Жанр:
Эпистолярная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
7-19. A.C. Эфрон
<Конец ноября 1919 г.>
Письмо к Але, после первого посещения ее в приюте
Алечка!
Это письмо ты прочтешь уже в Борисоглебском. Будет топиться печечка, я буду подкладывать дрова, может быть удастся истопить плиту – дай Бог, чтобы она не дымила! – будет вариться еда – наполню все кастрюльки.
Ты будешь есть – есть – есть!
– Будет тепло, завесим окна коврами.
– Аля, уходя я перекрестила красные столбы твоего приюта.
Аля! Ангел, мне Богом данный!
У меня глаза горят от слёз. Дай Бог – Бог, на коленях прошу Тебя! – чтобы всё это скорей прошло, чтобы мы опять были вместе.
_____
(Не кончено.)
Впервые – НЗК-2. стр. 48–49. Печ. по тексту первой публикации.
1920
1-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<22 января / 4 февраля 1920 г.>
Сашенька и Верочка!
Я еще жива. – Только в большом доме, в чужой комнате, вечно на людях [715]. Аля все еще больна, д<окто>ра не угадывают болезни. Жар и жар. Скоро уже 2 месяца, как она лежит, а я не живу.
Сашенька, я нашла Вашу записку на двери. – Трогательно. Если бы у Али пала t°, я бы пришла, я тоже по вас обоих соскучилась как волшебно было тогда эти несколько дней.
Приходите вы, господа, ко мне, – так, часов в 7. Если меня не будет, значит я ушла за дровами и сейчас вернусь.
Дня не назначаю, чем скорей, тем лучше. Но не позднее семи. – Аля засыпает в девять.
Целую и жду.
МЦ.
Впервые – Швейцер В. стр. 333. СС-6. стр. 151. Печ. по тексту СС-6.
2-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
<Начало февраля 1920 г.> [716]
Друзья мои!
Спасибо за любовь.
Пишу в постели, ночью. У Али 40,4 – было 40,7. – Малярия. 10 дней была почти здорова, читала, писала, вчера вечером еще 37 – и вдруг сегодня утром 39,6 – вечером 40,7.
Третий приступ. – У меня уже есть опыт безнадежности, – начала фразу и от суеверия в хорошую или дурную сторону боюсь кончить.
– Ну, даст Бог! —
Живу, окруженная равнодушием, мы с Алей совсем одни на свете. Нет таких в Москве!
С другими детьми сидят, не отходя, а я – у Али 40,7 – должна оставлять ее совсем одну, идти домой за дровами.
У нее нет никого, кроме меня, у меня – никого, кроме нее. – Не обижайтесь, господа, я беру нет и есть на самой глубине: если есть, то умрет, если я умру, если не умрет – так нет.
Но это – на самую глубину, – не всегда же мы живем на самую глубину – как только я стану счастливой – т.е. избавленной от чужого страдания – я опять скажу, что вы оба – Саша и Вера – мне близки. Я себя знаю.
– Последние дни я как раз была так счастлива: Аля выздоравливала, я – после двух месяцев – опять писала, больше и лучше, чем когда-либо. Просыпалась и пела, летала по лавкам – блаженно! – Аля и стихи.
Готовила книгу – с 1913 г. по 1915 г. [717] – старые стихи воскресали и воскрешали, я исправляла и наряжала их, безумно увлекаясь собой 20-ти лет и всеми, кого я тогда любила: собою Алей – Сережей – Асей – Петром Эфрон – Соней Парнок – своей молодой бабушкой – генералами 12 года – Байроном – и – не перечислишь!
А вот Алина болезнь – и я не могу писать, не вправе писать, ибо это наслаждение и роскошь. А вот письма пишу и книги читаю. Из этого вывожу, что единственная для меня роскошь – ремесло [718], то, для чего я родилась.
Вам будет холодно от этого письма, но поймите меня: я одинокий человек одна под небом – (ибо Аля и я – одно), мне нечего терять. Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я – вопиюще одна, потому – на всё вправе. – И на преступление! —
Я с рождения вытолкнута из круга людей, общества. За мной нет живой стены, – есть скала: Судьба. Живу, созерцая свою жизнь – всю жизнь – Жизнь! – У меня нет возраста и нет лица. Может быть – я – сама Жизнь. Я не боюсь старости, не боюсь быть смешной, не боюсь нищеты – вражды – злословия. Я, под моей веселой, огненной оболочкой, – камень, т.е. неуязвима. – Вот только Аля, Сережа. – Пусть я завтра проснусь с седой головой и морщинами – что ж! – я буду творить свою Старость – меня все равно так мало любили!
Я буду жить – Жизни – других.
И вместе с тем, я так радуюсь каждой выстиранной Алиной рубашке и чистой тарелке! – И комитетскому хлебу! И так хотела бы новое платье!
Все, что я пишу, – бред. – Надо спать. – Верочка, выздоравливайте и опять глядите лихорадочными – от всей Жизни – глазами <поверх?> румяных щек. – Помню ваше черное платье и светлые волосы.
– Когда встанете, пойдите к Бальмонту за радостью, – одного его вида – под клетчатым пледом – достаточно!
Впервые – Саакянц А. стр. 217–218. СС-6. стр. 151–153. Печ. по тексту СС-6.
3-20. В.К. Звягинцевой и A.C. Ерофееву
Москва, 7/20-го февраля 1920 г., пятница
Друзья мои!
У меня большое горе: умерла в приюте Ирина – 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я [719]. Я так была занята Алиной болезнью (малярия – возвращающиеся приступы) – и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу.
Помните, Верочка, тогда в моей комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили «может быть» – и я еще в таком ужасе воскликнула: – «Ну, ради Бога!» – И теперь это совершилось, и ничем не исправишь. Узнала я это случайно, зашла в Лигу Спасения детей на Соб<ачьей> площадке разузнать о санатории для Али – и вдруг: рыжая лошадь и сани с соломой – кунцевские – я их узнала. Я взошла, меня позвали. – «Вы г<оспо>жа такая-то?» – Я. – И сказали. – Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала – у Али в этот день было 40,7 – и – сказать правду?! – я просто не могла. – Ах, господа! – Тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это дурной сон, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар, или погоде – и вдруг – Господи. Боже мой! – Я просто еще не верю! – Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. – Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, – здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь что другому трудно. И – наконец – я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь – и вот Бог наказал.
– Никто не знает, – только одна из здешних барышень, Иринина крестная, подруга Веры Эфрон. Я ей сказала, чтобы она как-нибудь удержала Веру от поездки за Ириной здесь все собиралась, и я уже сговорилась с какой-то женщиной, чтобы привезла мне Ирину и как раз в воскресенье.
– О!
– Господа! Скажите мне что-нибудь, объясните.
Другие женщины забывают своих детей из-за балов – любви – нарядов – праздника жизни. Мой праздник жизни стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину – я 2 месяца ничего не писала! И – самый мой ужас! – что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: – «Аля, как ты думаешь –?» И все время собиралась за ней, и все думала: – «Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!» – А теперь поздно.
У Али малярия, очень частые приступы, три дня сряду было 40.5 – 40.7, потом понижение, потом опять. Д<окто>ра говорят о санатории: значит – расставаться. А она живет мною и я ею как-то исступленно.
Господа, если придется Алю отдать в санаторию, я приду жить к Вам, буду спать хотя бы в коридоре или на кухне – ради Бога! – я не могу в Борисоглебском, я там удавлюсь.
Или возьмите меня к себе с ней, у Вас тепло, я боюсь, что в санатории она тоже погибнет, я всего боюсь, я в панике, помогите мне!
Малярия лечится хорошими условиями. Вы бы давали тепло, я еду. До того, о чем я Вам писала в начале письма, я начала готовить сборник (1913–1916) – безумно увлеклась – кроме того, нужны были деньги.
И вот – все рухнуло.
У Али на днях будет д<окто>р – третий! – буду говорить с ним, если он скажет, что в человеческих условиях она поправится, буду умолять Вас: м<ожет> б<ыть> можно у Ваших квартирантов выцарапать столовую? Ведь Алина болезнь не заразительная и не постоянная, и Вам бы никаких хлопот не было. Я знаю, что прошу невероятной помощи, но – господа! – ведь Вы же меня любите!
О санатории д<окто>ра говорят, п<отому> ч<то> у меня по утрам 4–5°, несмотря на вечернюю топку, топлю в последнее время даже ночью.
Кормить бы ее мне помогали родные мужа, я бы продала книжку через Бальмонта – это бы обошлось. – Не пришло ли продовольствие из Рязани? – Господа! Не приходите в ужас от моей просьбы, я сама в непрестанном ужасе, пока я писала об Але, забыла об Ирине, теперь опять вспомнила и оглушена.
– Ну, целую. Верочка, поправляйтесь. Если будете писать мне, адресуйте: Мерзляковский, 16, кв<артира> 29. – В.А. Жуковской (для М.И. Ц<ветаевой>) – или – для Марины. Я здесь не прописана. А может быть. Вы бы, Сашенька, зашли? Хоть я знаю, что Вам трудно оставлять Веру.
Целую обоих. – Если можно, никаким общим знакомым – пока – не рассказывайте, я как волк в берлоге прячу свое горе, тяжело от людей.
МЦ.
<Приписка на полях:>
И потом – Вы бы, Верочка, возвратили Але немножко веселья [720], она Вас и Сашу любит, у Вас нежно и весело. Я сейчас так часто молчу – и – хотя она ничего не знает, это на нее действует. – Я просто прошу у Вас дома – на час!
М.
Впервые – Швейцер В. стр. 336–337. СС-6. стр. 153–154. Печ. по тексту СС-6.
4-20. В.К. Звягинцевой
Москва, <12/25-го> февраля 1920 г., среда [721]
Верочка!
Вы – единственный человек, с кем мне сейчас хочется – можется – говорить. Может быть, потому, что Вы меня любите.
Пишу на рояле, тетрадка залита солнцем, волосы горячие. Аля спит. Милая Вера, я совсем потеряна, я страшно живу [722]. Вся как автомат: топка, в Борисоглебский за дровами – выстирать Але рубашку – купить морковь – не забыть закрыть трубу – и вот уже вечер, Аля рано засыпает, остаюсь одна со своими мыслями, ночью мне снится во сне Ирина, что – оказывается – она жива – и я так радуюсь – и мне так естественно радоваться – и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что ее нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне все кажется – до такой степени я не принимаю безысходности – что все обойдется, что это мне – во сне – урок, что – вот – проснусь.
– Милая Верочка. —
С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто – просто – в упор – не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело. Да ни с кем и не вижусь.
Мне сейчас нужно, чтобы кто-нибудь в меня поверил, сказал: «А все-таки Вы хорошая – не плачьте – С<ережа> жив [723] – Вы с ним увидитесь – у Вас будет сын, все еще будет хорошо».
Лихорадочно цепляюсь за Алю. Ей лучше – и уже улыбаюсь, но – вот – 39,3 и у меня сразу все отнято, и я опять примеряюсь к смерти. – Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне – кажется – лучше умереть. Если С<ережи> нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте – такая длинная жизнь – огромная – все чужое – чужие города, чужие люди, – и мы с Алей – такие брошенные – она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Что меня связывает с жизнью? Мне 27 лет, а я все равно как старуха, у меня никогда не будет настоящего.
И потом, все во мне сейчас изгрызано, изъедено тоской. А Аля – такой нежный стебелек!
– Милая Вера, пишу на солнце и плачу – потому что я все в мире любила с такой силой!
Если бы вокруг меня был сейчас круг людей. – Никто не думает о том, что я ведь тоже человек. Люди заходят и приносят Але еду – я благодарна, но мне хочется плакать, потому что – никто – никто – никто за все это время не погладил меня по голове. – А эти вечера! – Тусклая стенная лампа (круглый матовый колпак), Аля спит, каждые полчаса щупаю ей лоб – спать не хочется, писать не хочется – даже страшно думать! – лежу на диване и читаю Джека Лондона, потом засыпаю, одетая, с книгой в руках.
И потом, Верочка, самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я – без Ирины – вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла, – достойнее! – Мне стыдно, что я жива. – Как я ему скажу?
И с каким презрением я думаю о своих стихах!
В прошлом – разъедающая тоска… [724]
Впервые – Швейцер В. С. 337–338. СС-6. стр. 149–150. Печ. по СС-6.
5-20. <Н.Н. Вышеславцеву>
4-го русского мая 1920 г. понед<ельник>
Н<иколай> Н<иколаевич>! – Мое горе в том, что я, отвергая всё Ваше, не могу Вас презирать.
И еще мое горе в том, что я не всё Ваше отвергаю.
И третье мое горе – что Вы + доблесть не получили в колыбель – sensibilité (этого слова нет по-русски: чувствительность – глуповато, восприимчивость – общё и холодно.)
Sensibilité – это способность быть пронзенным, уязвимость – за другого – души. – Вам ясно? —
И еще мое горе, что Вы, нежный руками – к рукам моим! – не нежны душою – к душе моей! Это было и у многих (вся моя встреча с 3<авад>ским! [725] – с его стороны!) но с тех я души не спрашивала.
Конечно – руками проще! Но я за руками всегда вижу душу, рвусь – через руки – к душе, даже когда ее нет. – А у Вас она есть (для себя!) – и ласковость только рук – от Вас!!! – для меня оскорбление.
Встреча с Вами для меня большое событие. Господи, когда я думаю о мирах, которые нас рознят, мне все равно – руки! – Не хочу – не льщусь – не надо! Только руки, – я за это себя никогда не продавала!
Когда-то, в минуту ослепительного прозрения, я сказала о себе – маскируя глубину – усмешкой:
«Другие продаются за деньги, я – за душу». С кожей и костями продаюсь – кому не продавалась! – и как всегда хотела быть послушной!
– Еще меня сбивает Ваше «приятно». – Ах, Господи, когда одному мучительно от несоответствия, а другому приятно от соответствия, – какие тут соответствия и несоответствия! – Исконная бездна мужского и женского! —
Милый друг, Вы бы могли сделать надо мной чудо, но Вы этого не захотели, Вам «приятно», что я такая.
…Так гладят кошек или птиц… [726]
Вы могли бы, ни разу не погладив меня по волосам («лишнее! – и так вижу!») и разочек – всей нежностью Вашей милой руки – погладив мою душу – сделать меня: ну чем хотите (ибо Вы хотите всегда только лучшего!) – героем, учеником, поэтом большого, заставить меня совсем не писать стихи – (?) – заставить убрать весь дом, как игрушечку, завести себе телескоп, снять все свои кольца, учиться по-английски.
Всю свою жизнь – с 7 лет! – я хотела только одного: умереть за, сейчас, 27 лет я бы попробовала «жить для»…
Не для Вас – Господи! – Вам этого не нужно (потому не нужно и мне!) – а через Вас как-то – словом Вы могли бы взять меня за руку и доставить прямо к Богу. – Вот. —
И блоковские «стишки» я бы Вам простила (о себе уж не говорю!), и Асину книгу, и Вашу Устинью проклятую, и огород – дружочек! – но Вы не захотели мне ничего объяснить, у Вас просто не было напряжения, воли к моему – ну, что ж, скажу! – спасению.
П<отому> ч<то> Павлик А<нтоколь>ский, который пишет:
– пора
Офицерам вставать за Петра – [727]
и сам никуда не встанет – такого союзника – в моем! – мне не надо. Лучше уж такие враги, как Вы.
Вы сделали дурное дело со мной, дружочек.
Вы сказали: – «Не то, но впрочем можно и так.» В первое я поверила и, поверив в первое, не поверила во второе. (П<отому> ч<то> сказал НАСТОЯЩИЙ человек!)
Вы оказались слишком строгим для знакомого (какое Вам дело?) – и недостаточно – для человека так или иначе вошедшего в мою жизнь.
Да, я в Вашу комнату вошла, а Вы в мою жизнь. – В этом всё. – Я, легкомысленная, оказалась здесь тяжелее Вас, такого веского!
– Знаете, кем бы я бы хотела быть Вам? – Вестовым! Часовым! [728] – Словом, на мальчишеские роли! —
– «Поди туда – не знаю куда,
Принеси то – не знаю что.»
И я бы шла бы и приносила. (– Господи, какая у меня сейчас к Вам нежность!) – Собакой бы еще сумела быть…
А придется мне – и это наверное будет, и мне грустно —
Ну, словом: от призрака (героя какой-нибудь чужой или собственной книги) – от призрака – к подлецу (живому), от подлеца – к призраку…
– О! —
Слушайте внимательно, я говорю Вам, как перед смертью: – Мне мало писать стихи! Мне мало писать пьесы! Мне надо что-нибудь – кого-нибудь (ЛУЧШЕ – ЧТО-НИБУДЬ!) – любить – в каждый час дня и ночи, чтобы всё шло – в одно, чтобы я не успела очнуться, как – смерть.
Чтобы вся жизнь моя была одним днем – трудовым! – после которого спят – каменно.
Поймите меня: ведь всё это мое вечное стремление таскать воду по чужим этажам, помочь какому-н<и>б<удь> дураку тащить узел, не спать, не есть, перебороть (себя и трудность!) – это не просто: избыток играющих сил – клянусь! —
Но не моя вина, что все трудности мне слишком легки – все отречения! – что всё это опять – игра.
Найдите мне тяжесть по мне.
И – чтобы – не тяжесть ради тяжести (как разгребание снега ради мускулов!), а чтобы это кому-н<и>б<удь> было нужно.
Распределите каждый час моей жизни, задавайте мне задачи, как сестры – Золушке:
«Отбери чечевицу от гороха…»
И только – ради Бога! – никаких фей на помощь!
_____
Вы м<ожет> б<ыть> скажете в ответ: «У Вас есть большое дело. Воспитывайте Алю.»
Но что я могу – я, которую саму нужно воспитывать?!
Я служить хочу.
– Вот Вам, дружочек, я – наедине с собой, настоящая. Каждое слово – правда. Ни пени́нки!
МЦ.
Впервые – НЗК-2. стр. 119–121. Печ. по тексту первой публикации.
6-20. H.H. Вышеславцеву
16-го мая 1920 г.{72} – Воскресенье, – Троицын день
День нашего примирения, дружочек.
Жаль, что я в этот день не могу преподнести Вам – новую любовь! (Не готова еще.)
Мириться с Вами я не пойду, хотя книжка Ваша готова – переписана и надписана [729].
– «Милому Н<иколаю> Н<иколаевичу> В<ышеславцеву>, – с большой грустью – от чистого сердца – в чудесный Троицын день.»
Но у Вас сегодня – вернисаж, Вам не до Троицына дня и не до женских стихов.
Брат Володечки [730], Вы сейчас в роли доктора (дай Бог, чтобы не фельдшера!) – и сами этого не подозреваете…
Вы из породы «уважающих женщину», не смотрящих глубже – не подходящих ближе, чем нужно.
С Вами мы наверное будем хорошо дружить, и, если Вы так умны, как надеюсь, мне с Вами не будет скучно.
– Кончаю Коринну [731]. Освальд уже любит Люсиль, к<отор>ая не поднимает глаз даже, когда одна.
Отвлекаюсь:
Г<оспо>жа де Сталь (Корина) не чувствует природы, – всё для нее важнее, чем природа.
Ctesse de Noailles погибает от каждого листочка.
Ctesse de Noailles – здесь – сродни Беттине [732].
Г<оспожа>жа де Сталь – Марии Башкирцевой [733].
Во первых двух – mon âme émotionale {73}.
Во вторых двух – mon âme intellectuelle {74}.
Во мне всё перемешано.
M
Так как она живет страстно – le temps presse {75} – у нее нет времени для описаний.
Моя разница с ней: из неглавного (ибо главное для нее определенно – мир внутренний) – ее больше влечет искусство. Лаокоон [734] напр<имер> больше, чем просто дерево.
Я же к Лаокоону, как вообще к искусству (кроме музыки и стихов) – как к науке руку на́ сердце положа – равнодушна.
Природа на меня действует несравненно сильнее, природа – часть меня, за небо душу отдам.
Поняла: в природу – просто отмечаю – мне дороже то, что наверху: солнце, небо, деревья – tout се qui plane {76}. Чего я не люблю в природе, это подробностей: – tout ce qui grouille {77}, изобилия ее не люблю, землю мало люблю. (Люблю сухую, как камень, чтобы нога, как копыто.)
В природе, должно быть, я люблю ее Романтизм, ее Высокий Лад. Меня не тянет ни к огороду (подробности), ни к сажанию и выращиванию, – я не Мать – вечернее небо (апофеоз, где все мои боги!) меня опьяняет больше, чем запах весенней земли. – Вспаханная земля! – это не сводит меня с ума – непосредственно – мне надо стать другой – другим! – чтобы это полюбить. Это не родилось со мной. Когда я говорю «на ласковой земле», «на землю нежную» [735] я вижу большие, большие деревья и людей под ними.
Это не искусственность – я же не люблю искусства! – это та моя – во всем – особенность, как в выборе людей, книг, платьев.
Вспаханная земля мне ближе Лаокоона, но оба мне – в общем – не нужны.
Вспаханная земля – это Младенчество и Мать умиляюсь, преклоняюсь и прохожу мимо.
Кроме того, я в природе чувствую обиду, – слишком всему и всем в ней не до меня. Я хочу, мне надо, чтобы меня любили.
Поэтому мои 2 тополя перед крыльцом мне, пожалуй, дороже больших лесов, они – волей неволей за 6 лет [736] успели привыкнуть ко мне, отметить меня, кто так часто на рассвете глядел на них с крыльца? – А слово mes Jardins – Prince Ligne {78} [737] заменят мне все сады Северной и другой – Семирамиды! [738]
Впервые – НЗК-2. стр. 156–158 (с указанием точной даты).
7-20. Вяч. И. Иванову
20-го русск<ого> мая 1920 г.
Большой роман – на несколько лет. Vous en parlez à Votre aise, ami.
– Moi qui'n ai demandé à l'universe que quelques pâmoisons {79}.
И – кроме того – разве я верю в эти несколько лет? И – кроме того – если они даже и будут – разве это не несколько лет из моей жизни, и разве женщина может рассматривать время под углом какой бы то ни было задачи?
Иоанна д'Арк [739] могла, но она жила, не писала.
Можно так жить нечаянно – ничего не видя и не слыша, но знать наперед, что несколько лет ничего не будешь видеть и слышать, кроме скрипа пера и листов бумаги, голосов и лиц тобой же выдуманных героев, – нет, лучше повеситься!
Эх, Вячеслав Иванович, Вы немножко забыли, что я не только дочь проф<ессора> Цветаева, сильная к истории, филологии и труду (всё это есть!), не только острый ум, не только дарование, к<отор>ое надо осуществить в большом – в наибольшем – но еще женщина, к<отор>ой каждый встречный может выбить перо из рук, дух из ребер!
Впервые – НЗК-2. стр. 172–173. Печ. по тексту первой публикации.
В НЗК-2 письму предшествует запись Цветаевой о визите к ней Вяч. Иванова и разговоре с ним (стр. 165–172).
19го русск<ого> мая 1920 г., среда
Сейчас у меня три радости: Вячеслав Иванов – Худолеев [740] и НН.
Вячеслав Иванов – Царьград Мысли, Худолеев – моя блаженная Вена (династии Штрауссов!), – НН – моя старая Англия и мой английский home {80}, где нельзя не дозволено! – вести себя плохо.
Сегодня чудесный день. <…> Я целый день спала —
<…>
– …стук в дверь – (парадную) – легчайший.
Снимаю засов (спинка стула, работа М<илио>ти) – Вячеслав! – В черной широкополой шляпе, седые кудри, сюртук, что-то от бескрылой птицы.
– «А вот и я к Вам пришел, Марина Ивановна! К Вам можно? Вы не заняты?»
– «Я страшно счастлива.»
(До задыхания! Единственное, что во мне перебарывает смущение, – это Восторг.)
– «Только у меня очень плохо, такой разгром, всё поломано. Вы не бойтесь, там у меня лучше…»
– «Это мы здесь будем сидеть?»
(Беспомощно и подозрительно озирается: столы, половины диванов, отовсюду ноги и локти стульев и кресел, кувшины, разбитый хрусталь, пыль, темнота…)
– «Нне-ет! Мы ко мне пройдем. Слава Богу, что Вы не видите, иначе бы Вы…»
– «Иначе бы я сказал, что у Вас то же, что у меня. Я ведь тоже ужасно живу, – неуютно, всё поломано, столько людей…»
Входим.
– «А где Ваша дочь?» – «Она с Миррой Бальмонт в д<оме> Соллогуба». – «Во Дворце Искусств?» – «Да.»
– «Как у Вас неуютно: темно, такое маленькое окошечко. Скучно жить?»
– «Нет, всё – только не это.»
– «Но ведь Вам же трудно, денег нет. Вы не служите?»
– «Нет, т.е. я служила 5½ мес. – в Интернациональном К<омите>те. Я была русский стол. Но я никогда больше служить не буду.»
– «Чем же Вы живете? Откуда Вы достаете деньги?» – «А так, – продаю иногда, т.е. мне продают, иногда просто дают, теперь паёк, так, – не знаю. Мы с Алей так мало едим… Мне не очень нужны деньги…»
– «Но вещи же тоже когда-нибудь истощатся?»
– «Да.»
– «Вы беззаботны?»
– «Да.»
– «Но ведь можно взять какую-нибудь другую службу…»
– «Я совсем не хочу служить, – не могу служить. Я могу только писать и делать черную работу – таскать тяжести и т.д. И потом столько радостей: вот Коринна Mme de Staël напр<имер>»…
– «Да, идеальных утешений много. – А Вы одна живете?»
– «С Алей. – Впрочем, здесь наверху еще какие-то люди, очень много, постоянно новые…»
– «И это всё Ваши вещи?»
– «Да, обломки, остатки. Я чувствую, что Вы меня презираете, – только – ради Бога! – я до последней минуты старалась отстоять, – но не могу же я вечно ходить следом и смотреть: крадут или не крадут'? И кроме того я ничего не вижу…»
– «Ах, это Вы о сохранении вещей говорите? Нет, – разве можно уберечь! И при виде такого истинно-философского отношения к жизни, у меня не только не презрение, но – admiration {81}»…
– «Это не философское отношение, это просто инстинкт самосохранения души. – Как я рада, что Вы меня не презираете!»
– «Я тогда сказал глупость – о вакантности – это со мной часто бывает.»
– «Нет, это была не глупость, я просто обиделась, но теперь это прошло, я так счастлива!»
– «Надо что-нибудь для Вас придумать. Почему бы Вам не заняться переводом?»
– «У меня сейчас есть заказ – на Мюссэ, но…»
– «Стихи?»
– «Нет, проза, маленькая комедия, – но…»
– «Надо переводить стихи, и не Мюссэ – м<ожет> б<ыть> это и не так нужно – а кого-нибудь большого, любимого…»
– «Но мне так хочется писать свое!!! – Это, конечно, очень смешно, что я говорю, я знаю, что это никому не нужно…»
– «А это уже плохо, – как никому не нужно?»
– «Так – никому, я не в ту полосу, не в ту волну попала, но это нужно – мне, нужно же чем-н<и>б<удь>, утешаться, не могу же я только стирать, только варить…»
– «Что же Вы пишете? Стихи?»
– «Нет, стихов мне мало, пишу их только, когда мне надо к человеку и нельзя подойти иначе. Я страстно увлекаюсь сейчас записными книжками: всё, что слышу на улице, всё, что говорят другие, всё, что думаю я…»
– «Записные книжки – это хорошо, но это только материал. Вернемся к переводу. Разве не хорошо – Бальмонт, переведший Шелли? – Как он его перевел, – другой вопрос. – Перевел, как мог. – Но взять стихи на чужом яз<ыке> и пережить, почувствовать их на своем, – это не меньше, чем писать свое. Это некий таинственный брак, если – действительно – любишь. Выберите себе такого поэта и переводите – часа по 3 в день. – Это будет Ваше послушание, нельзя же без послушания!»
– «Я Вас прекрасно понимаю, особенно последнее, о послушании. Но у меня никогда не хватит времени. Встаю: надо принести воды – готовить накормить Алю – отвести ее к Соллогубу – потом привести опять накормить… Вы понимаете?
И читать еще хочется, – столько прекрасных книг! – А главное – записные книжки, это моя страсть, п<отому> ч<то> – самое живое.»
– «Аля, я за нее очень боюсь. Как ее имя: Александра?»
– «Нет, Ариадна.»
– «Ариадна…»
– «Вы любите?..»
– «О, я очень люблю Ариадну… – Вы давно разошлись с мужем?»
– «Скоро три года, – Революция разлучила.»
– «Т.е.?»
– «А так:»…
(Рассказываю.)
– «А я думал, что Вы с ним разошлись.»
– «О, нет! – Господи!!! – Вся мечта моя: с ним встретиться!»
Говорю о своей неприспособленности к жизни, о страсти к Жизни:
– «Mais c'est tout comme moi, alors! {82} Я ведь тоже ничего не умею.»
(Неизъяснимое обаяние его иностранного: франц<узского> и немец<кого> – говора, чуть-чуть ирония над собой и что-то – чуть-чуть – от Степана Трофимовича.)
– «А Вы пишете прозу?»
– «Да, записные книжки…»
– «Не как Ваша сестра?» – «Нет, короче и резче…» – «Она же хотела быть вторым Ницше, кончить Заратустру.» – «Ей было 17 лет.» – «А знаете, кто раньше Ницше написал Заратустру?» – «?» – «Беттина, Беттина Брентано, Вы знаете Беттину?» – «Беттина гениальна, и я люблю ее, п<отому-что она принадлежала к числу „танцующих душ“». – «Это Вы чудесно сказали!» – «Моя жена – Лидия Петровна <Дмитриевна> Зиновьева-Аннибал…» – «Обожаю ее „Трагический Зверинец“, – там „Чорт“ – вылитая я!» – «Да, если Вы ее знаете, она должна быть Вам близка… И вот, однажды – будучи совсем молоденькой девушкой, в совершенно неподходящей обстановке – на балу – она сказала какому-то гвардейцу: – „Можно дотанцоваться и до Голгофы“. Вы христианка?»
– «Теперь, когда Бог обижен, я его люблю.»
– «Бог всегда обижен, мы должны помогать быть Богу. В каждой бедной встречной женщине распят Христос. Распятие не кончилось, Христос ежечасно распинается, – раз есть Антихрист. – Словом, Вы христианка?»
– «Думаю, что да. – Во всяком случае, у меня бессонная совесть.»
– «Совесть? Это мне не нравится. Это что-то протестантское совесть.»
(На лице гримаска, как от запаха серной спички.)
– «И кроме того – я больше всего на свете люблю человека, живого человека, человеческую душу, – больше природы, искусства, больше всего»…
– «Вам надо писать Роман, настоящий большой роман. У Вас есть наблюдательность и любовь, и Вы очень умны. После Толстого и Достоевского у нас же не было романа.»
– «Я еще слишком молода, я много об этом думала, мне надо еще откипеть…»
– «Нет, у Вас идут лучшие годы. Роман или автобиографию, что хотите, – можно автобиографию, но не как Ваша сестра, а как „Детство и Отрочество“. Я хочу от Вас – самого большого.»
– «Мне еще рано – я не ошибаюсь – я пока еще вижу только себя и свое в мире, мне надо быть старше, мне еще многое мешает.»
– «Ну, пишите себя, свое, первый роман будет резко-индивидуален, потом придет объективность.»
– «Первый – и последний, ибо я все-таки женщина!»
– «После Толстого и Достоевского что дано? Чехов – шаг назад.»
– «А Вы любите Чехова?»
Некоторое молчание и – неуверенно:
– «Нне… очень…»
– «Слава Богу!!!»
– «Что?»
– «Что Вы не любите Чехова!»
– «Терпеть не могу!»
– «А я так привык ко всяким возмущениям и укоризнам в ответ, что невольно замедлился…»
– «Господи! Можно же, наконец, не любить чего-нибудь на свете!»
– «Оставим Чехова в стороне, как ту или иную ценность – в романе он, во всяком случае, ничего не дал. И после Достоевского – кто?»
– «Розанов, пожалуй, но он не писал романов.»
– «Нет, если писать, то писать большое. Я призываю Вас не к маленьким холмикам, а к снеговым вершинам.»
– «Я боюсь произвола, слишком большой свободы. Вот в пьесах например: там стих – пусть самый податливый! Самый гнущийся! – он все равно – каким-то образом – ведет. А тут: полная свобода, что хочешь то и делай, я не могу, я боюсь свободы!»
– «Здесь нет произвола. Вспомните Goethe, так невинно и сердечно сказанное:
Die Lust zum Fabulieren {83}.
Вот лист белой бумаги – fabuliere! {84} – Это сложней, чем Вы думаете, здесь есть свои законы, через несколько страниц Вы уж будете связаны, из нескольких положений – <слово не вписано> – выходов! – а их могут быть сотни – и все прекрасны! – надо будет выбрать одно, м<ожет> б<ыть> найти одно – 101-ое. Вы уже почувствуете над собой закон необходимости. Вот Вам – для примера – всем известный анекдот про Толстого и Анну Каренину.»
– «Не знаю.»
– «Это был действительный случай. Редакция ждет – типография ждет – посыльный за посыльным – рукописи нет. Оказывается, что Толстой не знал, что первым сделала Анна Каренина, вернувшись к себе домой. – То? – Это? – Другое? – Нет. – И вот, ищет, не находит, ищет, – вся книга стоит, посыльный за посыльным.








