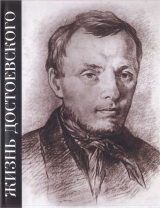
Текст книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"
Автор книги: Марианна Басина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
«Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением»
Знойным июльским днем, когда Достоевский сидел у себя в Парголове за работой, из Петербурга пришло ужаснувшее его известие – умер Валериан Майков. После увеселительной прогулки под палящим солнцем искупался в холодном пруду и тут же умер. Врачи полагали: от апоплексического удара.
Достоевский не мог прийти в себя: разум отказывался вместить случившееся, все его чувства протестовали. Нелепо, несправедливо. Молодость, обаяние таланта, глубокий ум, который только еще начал обнаруживать свою силу, надежды, касающиеся целой России. Да позвольте! Неужто они блеснули лишь только для того, чтобы ничтожный случай оказался волен распорядиться всем этим так жестоко и глупо?! Одиноким, потерянным в многолюдстве чувствовал себя Достоевский, возвращаясь с похорон Майкова. Порою настигавшее его одиночество с этого дня все чаще захлестывало душу. Только работой – непрерывной, злой, изнурительной – он и спасался. И все чаще писал письма в Свеаборг, где по казенным делам обретался теперь Михаил. Все настойчивее, нетерпеливее торопил брата с приездом в Петербург.
И Михаил сдался. Решился наконец покончить с опостылевшей инженерной службой и перебраться в столицу. Но счел благоразумным сперва приехать одному, без семейства, а после уж, хорошенько устроившись, перевезти жену и детей.
Федор боялся, как бы брат не передумал, как бы его не отговорили благоразумные люди: «Ну уж, как хочешь с семейством, как сам лучше рассчитываешь, но ты, относительно себя самого, уж ни за что не изменяй своей диспозиции… Ты говоришь, что покачивают головами, а я тебе говорю не приходи в расстройство от этого. Пишешь, что и у меня первый блин комом. Но ведь это только теперь; погоди, брат, поправимся. А у нас ассоциация. Невозможно, чтоб мы оба не выбились на дорогу; вздор! Вспомни, какие люди покачивают головами!»
Михаил тоже верил в спасительную силу ассоциации, бескорыстной взаимопомощи и братской дружбы.
«Всего вероятнее, что я к тебе приеду без денег. Но я не унываю, – писал он брату, – будем здоровы – не пропадем. Ассоциация есть дело великое и святое». Федор Михайлович обнадеживал: «Свое, что теперь получаешь, ты всегда получишь здесь, в Петербурге, да еще не такой тяжелой работой… Есть надежда, что работа, об которой я тебе писал прошлый раз, будет у тебя, если ты будешь в городе. Кроме того, есть одно издание к новому году, колоссальное, затеваемое с огромным капиталом, в котором тебе можно будет доставить много работы… Кроме того, можно будет достать переводов у Краевского или у Некрасова… Видишь ли, что значит ассоциация? Работай мы врозь – упадем, оробеем и обнищаем духом. А двое вместе для одной цели – тут другое дело. Тут бодрый человек, храбрость, любовь и вдвое больше сил…»
Даже брату он не писал об этом прямо, но твердо надеялся, что теперь, когда окончит «Хозяйку», вся жизнь пойдет по-иному. Успех повести восстановит его пошатнувшуюся было литературную репутацию, вместе с шумом журнальных споров вновь разнесет его имя по всей России, откроет дорогу «Неточке Незвановой», а там и давно задуманному изданию всех его сочинений.
И вот наконец в «Отечественных записках» появилась первая часть «Хозяйки», за нею вторая. Через некоторое время до Достоевского стороною стало доходить, что Белинский отзывается о его повести иронически. Неужто это правда? Но почему же? Почему? Самому ему «Хозяйка» представлялась вещью более значительной, чем даже «Бедные люди». В самом деле, исследование человеческих характеров, начатое им в первых романах, здесь получило новый оборот.
Но как вскоре выяснилось, Белинский действительно был крайне недоволен новой повестью Достоевского. «Не знаю, писал ли я Вам, – спрашивал Белинский Анненкова, того самого, которому не так давно в восторге декламировал отрывки из только что прочитанных „Бедных людей“, – что Достоевский написал повесть „Хозяйка“ – ерунда страшная!.. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением!»
И вот в «Современнике», в обзоре русской литературы за 1847 год черным по белому значилось о «Хозяйке»: «Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова… Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое – злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги?» Так писал Белинский о новой повести Достоевского.
Достоевский листал другие журналы. Нет, ни один из них не выступил на защиту его «Хозяйки». А публика ее, казалось, и не заметила.
Как два года назад, после неудачи с «Двойником», так и ныне молодой писатель был подавлен, уничтожен. Непосильный труд и тяжелое разочарование потрясли весь организм. «Каждый мой неуспех производил во мне болезнь».

На городской окраине. Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.
Счастье, что теперь рядом находился Михаил. Всегдашнее спокойствие и трезвый взгляд брата действовали целительно. Михаил не утешал. Он просто предложил вместе перечитать и разобрать повесть. Они обсуждали и взвешивали каждую главу, каждую страницу. И Федор приободрился: в его «Хозяйке» есть немало истинного, живого, оригинального. Приоткрыты такие глубины человеческой души, в которые до него немногие отважились заглядывать. Станет ли он отказываться от своего собственного небывалого еще пути в литературе? Разумеется, нет. Но во многом правы и его критики – прежде всего Белинский. Задумав исследовать обыкновенную, будничную жизнь, он выбрал для этого характеры исключительные и, главное, поставил их в положения случайные, необязательные. Стремясь передать высшее напряжение страстей, он невольно усилил яркость света и густоту теней, отчего в его героях проявилось вдруг что-то театральное, искусственное, «ходульное», как выразился Белинский. К тому же слишком много своих раздумий о судьбах России попытался вместить в одну небольшую повесть. Слишком нетерпеливо желал показать вчерашним своим поклонникам, что они торопятся хоронить его талант. И потерял чувство меры. Надо успокоиться, строже и точнее определить свою цель художника, надо писать яснее, проще, избегая всяких притязаний на значительность.
Как всегда, пережив первое потрясение, острую боль от неудачи, он успокоился, почувствовал бодрость и уверенность в себе. Еще один кризис миновал. Но как бы он пережил все это, не будь рядом Михаила? В эти недели они с Мих-Михом, как шутливо называл Федор брата, почти не разлучались, повсюду появлялись вместе – нервный, порывистый Федор и степенный Михаил, от растивший усы и бороду и обзаведшийся очками. Их братская «ассоциация» помогала выстоять и тому, и другому. Михаил с радостью хватался за каждый подвернувшийся заработок – лишь бы получить несколько рублей. «Всего два слова, любимая Эмилия, – писал он жене в Ревель, – я устал чрезвычайно. Едва держу перо в руке. Сегодня утром зашел один знакомый и попросил меня сделать ему перевод к завтрашнему утру. Так как за это он обещал 9 рублей серебром, то я взялся за работу и просидел весь день… А к 7 часам мы должны были быть в опере, поскольку один знакомый снял ложу две недели назад и пригласил нас… В прошлую субботу ты, очевидно, получила от меня 25 рублей, сейчас я смогу послать тебе еще 15 рублей. Я получил из Москвы на днях 100 рублей серебром. Но весь месяц мы сидели без денег и задолжали 50 рублей. 25 я уплатил за месяц вперед за наем квартиры. 15 рублей я посылаю тебе и оставлю себе 10 рублей. Не беспокойся, милая детка: наше будущее представляется не столь страшным». Вскоре Михаил вызвал семью в Петербург, и они поселились неподалеку от Федора.
«Великое горе свершилось…»
В конце 1847 года, в то время как в «Отечественных записках» появилась «Хозяйка», Достоевский выпустил отдельным изданием «Бедных людей».
В ближайшем номере «Современника» Белинский отозвался на появление этой книги коротенькой заметкой. «„Бедные люди“, – писал он, – доставили своему автору громкую известность, подали высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды – увы! – до сих пор не сбывшиеся. Это, однако ж, не мешает „Бедным людям“ быть одним из замечательных произведений русской литературы».
О первом романе Достоевского критик своего мнения не изменил. Зато изменил мнение об его авторе. И быть может, больше всего на свете молодому писателю хотелось разубедить Белинского, привести к мысли, что он, Федор Достоевский, еще достигнет высот искусства. Следом за «Хозяйкой» в «Отечественных записках» появился рассказ «Чужая жена», тотчас же за рассказом – небольшая повесть «Слабое сердце». Здесь уж автор не позволял себе увлекаться фигурами исключительными, необыкновенными, фантастическими. Открытую им странность окружающей жизни он старался представить в картинах внешне обыденных, не гоняясь за эффектами. И с надеждой ждал, что скажет Белинский… Но критик молчал. Он точно бы не заметил ни рассказа, ни повести.
– Ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь, – не раз повторял Достоевский, сидя вечерами у доктора Яновского, – придет время – и вы заговорите!
Он писал теперь еще два новых рассказа, задумал повесть и заканчивал роман «Неточка Незванова». Он намерен был выиграть спор, затеянный им «со всей русской литературой, журналами и критиками», – прежде всего с Белинским. Он надеялся, что разочарование сменят новые восторги… И вдруг узнал: Белинский безнадежен, уже не встает. И еще: на квартиру к Белинскому явился жандарм из тайной полиции – III отделения. «Хозяин русской литературы», генерал Дубельт, требует критика к себе.
Образ мыслей Белинского давно уже раздражал и настораживал правительство, а теперь… Быть может, полиция перехватила один из списков его письма к Гоголю, что ходили в публике? Это было не частное письмо. Это было гневное обличение российских порядков и призыв их уничтожить.
От знакомства с генералом Дубельтом и, верно, от заключения в каземат Петропавловской крепости избавила Белинского смерть.

Белинский перед смертью. Картина А. Наумова. 1881 г.
Майским вечером 1848 года Достоевский вбежал к доктору Яновскому.
– Батенька, великое горе свершилось, – сказал он задыхаясь, – Белинский умер.
Яновский никогда еще не видел своего пациента таким возбужденным, таким встревоженным, расстроенным. Попытался разговорить, успокоить, поднес капель – Достоевский твердил одно:
– Тоска… Сердце давит…
Внутри все было сжато, не хватало воздуха, трудно было дышать. Казалось, пространство комнаты и открывавшаяся за окном улица заполнены не воздухом, а чем-то иным – пустым, равнодушным, безжалостным сиянием белой ночи. Три года назад, такой же белой ночью, решалась его судьба. Радостные лица Некрасова и Григоровича, слова Некрасова: «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите – да ведь человек-то, человек-то какой!»
Та ночь была другая. Белинского больше нет.
Их последняя встреча, ссора, резкости, брошенные в лицо Виссариону Григорьевичу. Почему сожаления всегда опаздывают?
В памяти всплыли слова, оброненные как-то Белинским: «А вот как зароют в могилу, тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли».
И ведь правда, правда! Только в эти минуты Достоевский вполне почувствовал, чем был для него Белинский…
Доктор Яновский гостя не отпустил, оставил ночевать. В три часа ночи с Федором Михайловичем случился нервный припадок.
Hôtel de France [6]6
Гостиница «Франция» (франц.).
[Закрыть]
Бывая по утрам в редакции «Отечественных записок», Достоевский время от времени встречал там молодого человека в поношенном, наглухо застегнутом сюртуке, с истертыми, порыжелыми пуговицами. Молодой человек держал себя в кабинете Краевского точно бедный проситель в прихожей знатного барина – жался в сторонке или, примостившись на самом краешке стула, неловко подогнув под себя ноги, сидел точно в рот воды набрал, ни словом не участвуя в общем разговоре. Глядя на его под гребенку остриженную голову, нечищеные сапоги и неловкую, напряженную позу, трудно было догадаться, что видишь перед собой известного уже в Петербурге писателя, чьи повести и рассказы с недавнего времени стали регулярно являться на страницах «Отечественных записок».

Дом А. А. Краевского на Литейном проспекте, где помещалась редакция журнала «Отечественные записки». Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.
Яков Петрович Бутков – так звали молодого писателя – не любил рассказывать о себе. Постепенно, однако, любопытствующие узнали, что родом Бутков из мещан какого-то уездного городка Саратовской губернии. Нигде почти не учился – все свое образование, все воспитание получил из книг. С малолетства пристрастившись к чтению, он со временем и сам попробовал сочинять. С тетрадкою первых своих произведений отправился из родных волжских мест в Петербург. Путешествовал то в одиночку, то со случайными попутчиками; где шел пешком, где подвозили его на подводе. Явившись наконец в столицу, поселился в каком-то жалком углу, перебивался неведомо чем и по-прежнему мечтал об одном – о литературной карьере. Однажды, расхрабрившись, отнес в какую-то редакцию свой рассказ. Рассказ понравился. Его напечатали. Признали в молодом писателе-самоучке дарование. Перед саратовским мещанином открывалась столь заманчивая, столь желанная дорога в литературу.
Но тут просветлевшую было для Буткова будущность закрыли темные тучи. Объявили рекрутский набор. Буткову, по мещанскому его званию и холостому положению, непременно должны были забрить лоб. Страшные дни пережил Яков Петрович, чуть руки на себя не наложил. Шутка сказать: двадцать пять лет солдатской службы… Однако же – обошлось. От красной шапки избавил его не кто иной, как Андрей Александрович Краевский: купил ему рекрутскую квитанцию. Правда, говорили, что деньги Краевский дал не свои, получил их в благотворительном Обществе вспомоществования бедным. Тем не менее издатель «Отечественных записок» потребовал, чтоб Бутков отныне печатал все свои новые сочинения только в его журнале и из каждого гонорара отдавал определенную сумму в уплату долга.

«Ползунков», рассказ Ф. М. Достоевского. Гравюра Е. Бернардского по рисунку П. Федотова для «Иллюстрированного альманаха», 1848 г.
Когда Буткова спрашивали, чем он бывает так стеснен в редакции журнала, Яков Петрович, оглянувшись назад, точно желая удостовериться, не подслушивает ли кто, пресерьезно отвечал:
– Нельзя-с… Начальство…
– Какое начальство?
– Литературные генералы… Маленьким людям надо это помнить.
– Что за пустяки! Какие генералы? Вы ни с кем там не говорите.
– При начальстве неловко-с. Я мелкота.
– Полноте, разве вы не такой же литератор, да еще даровитее многих!
– Что тут даровитость! Я ведь кабальный.
– С чего вы это взяли?
– Верно-с.
– Зачем же вы туда ходите, если вам это неприятно?
– Нельзя не явиться: к непочтению и строптивости нрава отнесут. Могут гневаться-с.
Бутков всей своей фигурою изображал смирение перед «начальством», но в голосе, в глазах его сквозила горькая усмешка. Его, мещанина, болезненно ранила та барская снисходительность, тот ласковый и чуть покровительственный тон, который литераторам из «благородных» казался вполне уместным в обращении с даровитым «мужичком». Оттого-то он дичился у Краевского, неохотно вступал в разговоры.

«Ползунков», рассказ Ф. М. Достоевского. Гравюра Е. Бернардского по рисунку П. Федотова для «Иллюстрированного альманаха», 1848 г.
Но вот этот всегда угрюмый и бессловесный в литературном кругу Бутков легко и просто сошелся с Достоевским, как-то незаметно для себя сдружился с ним. В характере, в таланте отставного инженер-поручика послышалась саратовскому мещанину столь близкая собственной его душе страстная боль за униженную, попранную человеческую личность. И Бутков, нелюдимый, дикий Бутков, стал часто и охотно появляться среди друзей Достоевского.
«Федор Михайлович очень любил общество, – рассказывал доктор Яновский, – или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого-нибудь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедовать. С этими людьми Федор Михайлович любил беседовать, и так как он по таланту и даровитости, а также и по знаниям стоял неизмеримо выше многих из них, то он находил особенное удовольствие развивать их и следить за развитием талантов и литературной наметки этих молодых своих товарищей. Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича (а я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностию прочесть ему свой литературный труд».
Достоевский, чья бурная фантазия кипела все новыми творческими замыслами, щедро делился с друзьями-литераторами своими собственными сюжетами для рассказов и повестей.
Как-то раз на сюжет, предложенный Достоевским, написал рассказ Бутков. Читал он этот рассказ на квартире у Яновского. Перед чтением по своему обыкновению преуморительно откашливался, сморкался, подергивал плечом. Сочинил он что-то смешное, и слушатели весело хохотали, как вдруг Достоевский попросил автора остановиться. Бутков увидел побледневшее от волнения лицо Достоевского, его в ниточку сжатые губы и, быстро сунув рукопись в карман сюртука, с самым комическим видом полез под стол, крича:
– Виноват, виноват, проштрафился, думал, что не так скверно!
Улыбнувшись выходке Буткова, Достоевский очень добродушно, но притом твердо и без всякого снисхождения стал объяснять товарищу, почему его рассказ решительно никуда не годится.
Непререкаемым судьей в литературных делах был Достоевский не для одного Буткова. Однажды, как вспоминает доктор Яновский, у Федора Михайловича сошлись Михаил Михайлович, Бутков, Плещеев и еще несколько приятелей. Когда отставной унтер Евстафий, служивший у Достоевского, подал всем по стакану чая, Федор Михайлович обратился к Плещееву:
– Ну, батенька, прочтите нам, что вы там сделали из моего анекдотца.
Плещеев прочел свой рассказ, и было заметно, что самому автору рассказ нравится. Но Достоевский сурово покачал головой:
– Во-первых, вы меня не поняли и сочинили совсем другое, а не то, что я вам рассказывал, а во-вторых, и то, что сами придумали, выражено очень плохо.
Выслушав приговор, Плещеев не стал спорить и тут же при всех изорвал свою рукопись…
Резкость Достоевского не коробила. Он так горячо, так близко к сердцу принимал и удачи и промахи друзей, что никому в голову не приходило обижаться прямотою его суждений. Он не поучал, он учил. Он делился своим кровным – и делился с радостью.
Свободная, задушевная беседа в кругу друзей была для Федора Михайловича праздником. Нередко, когда удавалось выкроить несколько лишних рублей, Достоевский приглашал большую компанию приятелей отобедать в Hôtel de France на Малой Морской. Устраивали складчину. Нередко Достоевский платил за кого-нибудь из тех, кто в тот момент сидел на мели. Впрочем, все бывало очень скромно. Обед, который Федор Михайлович заказывал всегда сам, обходился не более двух рублей с персоны. Из напитков допускались: рюмка водки, величиною с наперсток, перед обедом и по два бокала шампанского за едой. Сам Достоевский, боясь всего возбуждающего нервы, водки не пил, а шампанского наливал себе четверть бокала и прихлебывал его по маленькому глоточку после тостов и застольных речей, которые очень любил произносить и произносил с увлечением.
Объясняя свое пристрастие к ресторанной кухне, Федор Михайлович с улыбкою говорил:
– Весело на душе становится, когда видишь, что бедный пролетарий сидит себе в хорошей комнате, ест хороший обед и запивает даже шипучкою, и притом настоящею.
Однажды Достоевский в день выхода очередной книжки «Отечественных записок», где было напечатано новое его произведение, созвал друзей в ресторан.
К назначенному времени – трем часам пополудни – все собрались в зале. Пробило три, потом половину четвертого, но за стол отчего-то не садились и даже закуски не подавали. К устроителю обеда обратились недоуменные взоры, а затем вопросы.
– Ах, боже мой, – сконфуженно и вместе жалобно оправдывался Достоевский, – разве вы не видите, что Якова Петровича нет?
Он схватил шляпу и побежал на улицу. Через некоторое время воротился весьма взволнованный, ведя за собой Буткова. Вид у того был виноватый. Он бормотал нечто, понятное одному только Достоевскому:
– Да вот пойди ты с ним и толкуй, говорит одно, что книжка журнала еще не вышла, да и баста.
– Ну да вы попросили бы хоть половину, понимаете ли, – волновался Достоевский, – ну, хоть чуточку бы, а то как же теперь быть? Я пообещал еще двоим заплатить за них. Ну вот вы и попросили бы хоть красненькую, а то как же теперь?
Оказалось, что Достоевский не успел получить у Краевского деньги и попросил сходить за ними Буткова. Но так как номер «Отечественных записок» еще не пришел из типографии, Краевский денег не дал.
Узнав причину задержки, все развеселились, собрали недостающие рубли и приказали подавать обед.
За столом на этот раз было особенно оживленно, и Федор Михайлович, негодуя на Краевского, произнес такую пламенную речь об эксплуатации литературного труда Павлом Ивановичем Чичиковым (такое прозвище было дано в кружке Краевскому), что сотрапезники отвечали ему громкими рукоплесканиями и долго не умолкавшими криками «браво».

Ф. М. Достоевский и А. А. Краевский. Карикатура Н. Степанова в «Иллюстрированном альманахе». 1848 г.
После обеда непременно подавали чай, и за разговорами чаепитие затягивалось до позднего вечера.
Когда же наступала неотвратимая минута прощания, Федор Михайлович подходил к каждому из своих товарищей, каждому с чувством жал руку и приговаривал:
– А ведь обед ничего, хорош. Рыба под соусом была даже очень и очень вкусная.
Якова Петровича Буткова он при этом еще и целовал. А Яков Петрович, в эту минуту вовсе не похожий на того «травленого волка», каким смотрел он на всех в редакции «Отечественных записок», благодушно и чуть лукаво улыбался и доверительно говорил:
– А вот, Федор Михайлович, тут, знаете ли, неподалеку открылось одно заведеньице – православная пирожковая лавочка: чай китайский, пиво казалетовское. Больших комфортов нет, а очень любезно, дешево и привольно-с! Вот я вас как-нибудь туда сведу… Нет, право, хорошо!
Беседы о литературе, дружеские обеды… Это были короткие часы отдохновения, некоторой душевной расслабленности, столь необходимой при вечном, берущим все силы души творческом напряжении. Но страстной, беспокойной натуре писателя, его ищущему уму требовалась все новая и новая духовная пища. Поэтому его неудержимо влекли к себе люди совсем особого склада – неудовлетворенные и жаждущие активного добра. Их он искал и находил.








