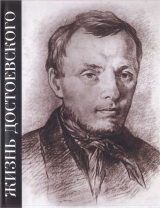
Текст книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"
Автор книги: Марианна Басина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
«Пятницы» в Коломне
Такого еще не видела старая Европа.
События разворачивались головокружительно, невероятно.
В ночь на 23 февраля 1848 года улицы Парижа покрылись баррикадами. Рабочие, ремесленники, присоединившиеся к ним национальные гвардейцы в течение следующего дня захватили казармы правительственных войск и к утру 24 февраля овладели городом. Король Луи-Филипп вместе с семейством бежал из столицы. Восставшие ворвались в Тюильрийский дворец и при всеобщем ликовании сожгли королевский трон. К вечеру того же дня было составлено временное правительство. Среди его членов оказались знаменитый социалист Луи-Блан и рабочий-революционер, участник лионского восстания, Альбер. 25 февраля в парижскую ратушу, где заседало правительство, явилась делегация от рабочих во главе со старым революционером Распайлем, которого в городе знали как непримиримого республиканца и еще как врача, бесплатно лечившего бедноту. Под угрозой нового восстания Распайль потребовал провозгласить Францию республикой и дал правительству два часа на размышления. Однако еще до истечения этого срока на стенах парижских домов появились плакаты со словами: «Французская республика. Свобода, равенство, братство».
Революция в Париже оказалась искрой, брошенной в солому. Пожар поднялся до небес, и в минуту занялась вся Европа. 2 марта вспыхнуло восстание в столице Баварии – Мюнхене. Волнения начались в немецких княжествах – Бадене, Вюртемберге, Гессене. 13 марта революция охватила Вену, столицу Австрийской империи. Пять дней спустя покрылся баррикадами Берлин. Заволновалась Италия. Почти безоружные жители Милана прогнали отлично вооруженную семидесятипятитысячную австрийскую армию. Свергла власть австрийцев и стала республикой Венеция. По требованию народа войну Австрии объявили правительства Пьемонта, Неаполитанского королевства, восставшая Флоренция.

Революция во Франции. Литография
Началось!.. То самое обновление мира, которое уже давно предсказывали и призывали вожди социалистов, теперь, казалось, стало явью. В петербургских кружках молодежи, где немало было горячих приверженцев «новой веры», возбужденные и радостные голоса на все лады повторяли последние вести с Запада. Сердца будоражило ожидание чего-то грандиозного, невероятного. Верилось, что и Россия не останется в стороне от великого движения, захватившего Европу.
Самые многолюдные в целом Петербурге, самые шумные сходки вольнодумной молодежи, среди которой, впрочем, попадались и люди сторонние, просто любопытствующие, происходили в небольшом деревянном домике у церкви Покрова в Коломне, захолустной окраинной части города, населенной преимущественно бедным людом. Владельцем домика и устроителем сборищ, происходивших еженедельно по пятницам, был двадцатисемилетний чиновник Министерства иностранных дел Михаил Васильевич Петрашевский.

М. В. Петрашевский. Акварель неизвестного художника. 40-е годы XIX в.
Воспитанник Царскосельского лицея, он с юности увлекся чтением Фурье и делом своей жизни избрал пропаганду идей французского мечтателя. Как и его учитель, Петрашевский считал проповедь социальной справедливости вернейшим средством для переустройства общества. Впрочем, Петрашевский соглашался, что окончательную победу нового строя, быть может, придется добывать оружием. Но это будет после. А пока… Пока он все свое время и способности посвящал пропаганде фурьеризма.
В 1845 году Валериан Майков привлек Петрашевского к изданию «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка».
Словарь этот был необычный. По мысли его редактора, Майкова, он должен был стать своего рода энциклопедией, открывающей для русского читателя последние достижения естественных и социальных наук. Петрашевский сразу понял, что в словаре, под видом пояснения иностранных слов и оборотов, можно высказать такие мысли, которые в другом издании цензура ни за что бы не дозволила. Второй выпуск словаря, появившийся в следующем году, Петрашевский готовил сам. Рассказывали, что в статьях словаря, уже пропущенных цензором, он ухитрялся таким образом изменять отдельные буквы и знаки препинания, что смысл всего сказанного совершенно менялся. Кроме того, чтобы усыпить бдительность цензуры, Петрашевский придумал уловку вовсе уж дерзкую: добился разрешения посвятить второй выпуск словаря великому князю Михаилу Павловичу. Впрочем, крамольное издание не осталось незамеченным. Разошлись лишь около четырехсот экземпляров. Остальные полиция отобрала у книгопродавцев.
Но Петрашевский не унывал. Он действовал – и отыскивал к тому способы самые неожиданные.
По случаю реформы городского сословного самоуправления и выборов в Петербургскую городскую думу, Петрашевский выставил свою кандидатуру в секретари Думы.
В этой должности он рассчитывал повлиять на депутатов, добиться обсуждения насущных нужд населения, а потом и подачи правительству жалоб и заявлений.
– Важность тут та, – объяснял Петрашевский в кружке, – что правительство, и отказавши в просьбе, и удовлетворивши ее, поставит себя в худшее положение. Отказавши в просьбе сословию, оно вооружит его против себя – и идея наша идет вперед. Исполнивши просьбу, оно ослабит себя и даст возможность требовать большего – и все-таки идея наша идет вперед!
Министр внутренних дел отверг кандидатуру Петрашевского. Не желая сдаваться без боя, Петрашевский подал на министра жалобу в Сенат. Не то чтобы он наивно рассчитывал, будто сенаторы вступятся за него и осудят министра. Важно было привлечь всеобщее внимание к беззаконному поступку властей.
По воспоминаниям одного из посетителей его «пятниц», Петрашевский старался «обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с ними в конфиденциальные разговоры».
Он завязывал знакомства со всеми, в ком надеялся найти отклик своим мыслям. По собственным его словам, у него в Петербурге было знакомых человек восемьсот. Разумеется, среди них необходимо должен был оказаться и автор первого в России социального романа Федор Достоевский.
Вот как рассказывает об их знакомстве Достоевский: «Я увидел его в первый раз весною 1846 года… Знакомство наше было случайное. Я был, если не ошибаюсь, вместе с Плещеевым, в кондитерской у Полицейского моста и читал газеты. Я видел, что Плещеев остановился говорить с Петрашевским, но я не разглядел лица Петрашевского. Минут через пять я вышел. Не доходя Большой Морской, Петрашевский поравнялся со мною и вдруг спросил меня: „Какая идея вашей будущей повести, позвольте спросить?“ – Так как я не разглядел Петрашевского в кондитерской и он там не сказал со мной ни слова, то мне показалось, что Петрашевский совсем посторонний человек, попавшийся мне на улице, а не знакомый Плещеева. Подоспевший Плещеев разъяснил мое недоумение: мы сказали два слова и, дошедши до Малой Морской, расстались. Таким образом, Петрашевский с первого раза завлек мое любопытство… Мне показался он очень оригинальным человеком, но не пустым; я заметил его начитанность, знания». Так началось это знакомство.
Достоевский побывал на одной из «пятниц». Потом пришел еще. После разрыва с Белинским и смерти Майкова стал бывать здесь часто.
Что влекло его в домик у Покрова? Конечно, столь близкая его душе стихия спора, бурное кипение высоких мыслей.
Здесь решали великие вопросы, касавшиеся судеб человечества, Европы, России.
Здесь говорили о многом. Но всегда, о чем бы ни зашла речь, разговор в конце концов клонился к одному – к необходимости освободить русский народ, уничтожить крепостное право, изменить все порядки в стране.
«Освобождение крестьян, – страстно поддерживал эту мысль Достоевский, – несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности!»

Коломна. Площадь у Калинкинского моста. Литография Ф. Перро. 1840 г.
Он верил, что Россию ждет именно такая будущность. Величие народной души он узнал еще в детстве. Сколько раз открывалась ему в грубом с виду, дико невежественном мужике удивительная чуткость и широта натуры, способность к высокой, нежной любви. Одно из детских воспоминаний было ему особенно дорого. Как-то в Даровом, забравшись в кустарник, чтобы выломать ореховый прут, он, девятилетний ребенок, вдруг явственно услышал крик: «Волк бежит!». Он обмер и вне себя от испуга бросился к горушке, где пахал мужик, их крепостной, которого в деревне звали Марей, – пожилой, плечистый, рослый, с окладистой бородой. «Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, – рассказывал Достоевский, – и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.
– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.
Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновенье почти мне поверив.
– Где волк?
– Закричал… Кто-то закричал сейчас: „Волк бежит!“ – пролепетал я.
– Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь! Какому тут волку быть! – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.
– Ишь ведь испужался, ай-ай! – качал он головой. – Полно, родный. Ишь, малец, ай!
Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.
– Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись. – Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.
– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой. – Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!
Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут, в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял?»
О своих наблюдениях над жизнью русского мужика – страшной жизнью! – нередко рассказывал Достоевский на «пятницах» в Коломне. Он вспоминал Даровое, отчаянные письма отца, вспоминал нищие, голодные деревни под Петербургом, где останавливалась по дороге в летние лагеря его кондукторская рота.
Однажды Федор Михайлович припомнил такой врезавшийся ему в память случай.
Когда отец вез их с Михаилом в Петербург, в Инженерное училище, на почтовой станции увидели они фельдъегеря – здоровенного рослого детину с красным лицом. Вот к крыльцу подкатила лихая тройка, фельдъегерь вскочил в возок.
– Ямщик тронул, но не успел он тронуть, – рассказывал Достоевский, – как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду… Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят…
Если б случилось мне когда основать филантропическое общество, – заключил свой рассказ Федор Михайлович, – то я непременно дал бы вырезать эту фельдъегерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.
Да, железный жандармский кулак, методически опускающийся на безвинную мужицкую голову, был эмблемой тогдашней русской жизни. Те, кто собирались у Петрашевского, преисполнились решимости защитить мужика от мучителей. Но каким образом? На «пятницах» обсуждали различные проекты освобождения крестьян. Весной 1848 года Петрашевский, воспользовавшись очередными дворянскими выборами, пытался вручить свой проект крестьянской реформы губернскому предводителю дворянства. Но тот отказался даже принять записку, не то что обсуждать ее в дворянском собрании. В ответ на это Петрашевский, литографировав каким-то образом свою записку, не побоялся поставить на ней свое имя и стал раздавать ее в Петербурге и разослал в провинцию. Когда на тех же дворянских выборах было предложено отправить царю верноподданнический адрес с осуждением Французской революции, Петрашевский – он был депутатом собрания от Царскосельского уезда – иронически заявил, что русским дворянам не пристало, мол, рассуждать о политике. Депутаты смутились. Адрес поднесен не был. Рассерженный царь отказался принять от петербургского дворянства даже обычные в таких случаях выражения верноподданнических чувств. Министр внутренних дел генерал Перовский, взбешенный поступками Петрашевского, приказал установить за ним секретный полицейский надзор, поручив это дело одному из самых опытных своих чиновников – статскому советнику Липранди.
«…Я не встретил ни малейшего препятствия, – доносил по начальству Липранди о своих наблюдениях, – ибо оказалось, что все благомыслящие знали Петрашевского как вольнодумца в полном значении этого слова… Не трудно было также узнать, что у него в продолжении уже нескольких лет бывают постоянные, по пятницам, собрания, на которых, по выражению простолюдинов, он пишет новые законы».
«Для блага всего рода человеческого»
События в Европе отзывались в петербургской публике толками самыми странными и противоречивыми. Большинству западные революции представлялись чем-то вроде стихийного бедствия, Божьей кары, настигающих внезапно и безо всякой видимой причины. Когда однажды, по случаю высокой воды в Неве, для оповещения населения, как это всегда делалось, стали стрелять из пушек Петропавловской крепости, многие в городе были уверены, что это началась революция.
Не на шутку было напугано и русское правительство. Оно полагало, что виной всему – распространение вредных, разрушительных идей некими «злонамеренными личностями» и «демагогами». Тут, конечно, в первую голову винили французских и немецких журналистов, писателей и философов. И как результат подобных понятий – отечественную литературу, и так вечно бывшую в подозрении у властей, теперь постарались крепко-накрепко скрутить цензурными веревками. Председатель цензурного комитета, граф Мусин-Пушкин, прозванный «казанским ханом» (на службу в Петербург его вытребовали из Казани), не стеснялся в выражениях, выговаривая неблагонадежным, по его мнению, литераторам.
Как-то раз начальственный гнев Мусина-Пушкина обратился на Якова Петровича Буткова, чью повесть напуганный цензор внес на рассмотрение комитета.
– Вхожу в святилище цензуры, – рассказывал со всегдашним своим лукавым простодушием Яков Петрович, – за столом, облаченным зеленым покровом, сидят на креслах жрецы, а в переднем месте восседает сам первосвященник. Я, разумеется, отдал подобающее поклонение.
– Бутков? – спрашивает верховный судья.
– Бутков, – отвечаю.
– Ты какую повесть представил?
– «Людишки», – говорю.
– «Людишки»! Да ты кого это в ней людишками называешь? – загремел генерал, словно перед ним стоит целая бригада, а не один ускользнувший от рекрутства ординарный литератор. – Кого, я тебя спрашиваю? Людей в тысячу раз лучше тебя, не праздношатающихся каких-нибудь, а занятых государственной службой, людей деловых, да еще чиновных! И это у тебя людишки! И как ты решился написать это, да еще в цензуру представить? Вы что затеяли? Публику хотите развращать, возбуждать неуважение к чину, смеяться над людьми, допущенными к государственной службе! Вы, что ли, своей болтовней служите отечеству? Либералы! Сами ни к чему дельному не способны, так и других хотите с толку сбить? Зависть вас мучает? Разве литература для того дозволена правительством, чтобы ваше вредное пустословие распространять в народе? Людишки!.. Я посмотрю, что ты будешь писать!..
– Вышел я из цензурного святилища, – заключал свой рассказ Яков Петрович, – точно из торговой бани, лучше всякого пара прошибло. А ведь повестушка-то моя была не ахти как задорна: не ранги я осмеивал в ней, а натуришку мелкочиновную изобразить хотел, низкопоклонство да раболепство. Вот и весь либерализм!
Председатель цензурного комитета действовал притом не в одиночку. Николай I распорядился учредить особый комитет для исследования вредного направления русской литературы, преимущественно журналов. Говорили, что комитет займется отысканием идей социализма, коммунизма и всяческого либерализма и что всех виновных в распространении разрушительных теорий ждет жестокая кара.
Ожидали закрытия «Отечественных записок» и «Современника». Опасались арестов.
«Когда, по случаю западных происшествий, – рассказывал вскоре один из членов кружка Петрашевского, – цензура всей своей массой обрушилась на русскую литературу и, так сказать, весь литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни, один Петрашевский нимало не поколебался принимать у себя своих друзей и коротких знакомых… Он, как и все его гости, очень хорошо знал, что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам… во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер и начать розыски, и не смутился духом».
Посетители «пятниц» знали, что рискуют головой. Но они не могли, не желали сидеть тихо по своим углам. Трусливое молчание казалось им позорным, подлым. И они говорили – громко, откровенно, точно бы издеваясь над полицейскими потугами водворить в стране гробовое молчание.
Собрания у Петрашевского постепенно приняли вид регулярных заседаний – по образцу западных политических клубов. В начале вечера кто-либо из членов кружка выступал с заранее приготовленным докладом или речью. Затем все обсуждали услышанное. Обсуждением руководил председатель, вооруженный бронзовым колокольчиком в виде земного полушария, увенчанного статуей Свободы.
Несколько вечеров кряду молодой ученый Николай Данилевский излагал собравшимся систему Фурье. Преподаватель статистики военно-учебных заведений Иван Ястржембский прочел краткий курс политической экономии. Двадцатилетний сенатский чиновник Василий Головинский произнес пламенную речь о неминуемом падении крепостного права. Учитель русской словесности Феликс Толль говорил о происхождении религии. С тремя речами выступил здесь Федор Достоевский. В одной он разбирал вопрос о человеческой личности и эгоизме, две другие были посвящены литературе.
– Звание писателя унижено в наше время каким-то темным подозрением, – говорил, между прочим, Достоевский. – На писателя уже заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит как будто на какого-то естественного врага правительства и принимается разбирать рукопись уже с очевидным предубеждением.
Трусость, глупость цензуры были излюбленной мишенью насмешек литераторов кружка. А литераторов на «пятницы» собиралось немало: кроме самого хозяина, Плещеева, Федора Достоевского – поэт и переводчик Сергей Дуров, литератор Александр Пальм, поэт Аполлон Майков, наконец, Михаил Достоевский.
Михаил Михайлович стал бывать у Петрашевского почти тотчас, как приехал в столицу. Он, конечно же, разделял задушевные убеждения брата. Познакомившись теперь с учением Фурье, он всем сердцем сочувствовал этой вдохновенной проповеди социальных реформ. Но, человек спокойный и трезвый, да еще и семейный, он на собраниях у Петрашевского высказывался сдержанно. Да к тому же он не очень-то верил в успех социалистической пропаганды на русской почве.
– Я, кроме Фурье, никого и ничего знать не хочу, – заявлял Михаил, когда брат предлагал ему почитать сочинения других социалистов, – да и вообще, все это не для нас писано.
Федор не возражал, не уговаривал: у Михаила дети. Иное дело он сам – вольный, независимый. Его визиты к Петрашевскому, продолжавшиеся всю весну, не прекратились и летом.
«В 1848 году мы жили летом в Парголове, – вспоминала Авдотья Яковлевна Панаева, – там же на даче жил Петрашевский, и к нему из города приезжало много молодежи. Достоевский, Плещеев и Толль иногда гостили у него… Частые сборища молодежи у Петрашевского были известны всем дачникам. Петрашевского часто можно было встретить на прогулках, окруженного молодыми людьми». Среди этих молодых людей, приезжавших к Петрашевскому, был и студент Петербургского университета Павел Филиппов. Здесь, в Парголове, познакомился с ним Достоевский. Они подружились. В характере Филиппова удивительно соединились прямодушие, искренность, отчаянная смелость и какая-то рыцарственная, изящная вежливость. Казалось, больше всего на свете Филиппова заботило, чтобы кто-нибудь не усомнился в его беспредельной храбрости. По уверению Достоевского, его молодой друг непременно соскочил бы с Исаакиевского собора, если бы случился рядом кто-нибудь, чьим мнением он дорожит и кто бы стал сомневаться в том, бросится ли он вниз или струсит. В то лето Петербург посетила холера: десятки, а то и сотни людей умирали от нее каждый день. Нарочно для того, чтобы показать, что он ни капли не боится холеры, Филиппов, вопреки советам медиков, ел зелень и пил молоко. Однажды, гуляя с ним в Парголове, Достоевский, шутя, указал на гроздь зеленых рябиновых ягод.
– Если съесть эти ягоды, – сказал он, – то холера, должно быть, придет через пять минут.
Филиппов тотчас сорвал всю гроздь и съел половину ягод, прежде чем Достоевский успел его удержать. Эта нелепая, мальчишеская, но какая-то милая удаль молодого студента трогала Достоевского. А еще больше нравилось ему в юноше то, что, поступив опрометчиво, Филиппов готов был раскаяться, тотчас сознаться в своей неправоте, если ему убедительно разъяснили дурную сторону его поступка.
Честность, искренность, смелость… Эти качества были в высокой степени присущи и самому Достоевскому.
Конечно, он не выказывал себя мальчишеской бравадой, но когда в Парголове на улице увидел холерного больного, то, не задумываясь, подошел к нему и помог.
Именно честность, именно смелость заставляли думать не только о тех несчастных, что были перед глазами, но и обо всех других, обо всех обездоленных на свете.
Весьма пристально наблюдавший за молодыми людьми, что приходили к Петрашевскому, статский советник Липранди свидетельствовал:
«…В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей, без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе… Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения. От таких людей можно всего ожидать. По их понятиям, они действуют не для себя, а для блага всего рода человеческого, не для настоящей только минуты, а для вечности».








