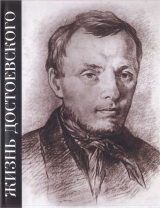
Текст книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"
Автор книги: Марианна Басина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
«В Италии, на досуге, на свободе…»
Свои новые повести Достоевский предназначал для альманаха, который задумал издавать Белинский с помощью Некрасова. «Белинский оставляет „Отечественные записки“, – объяснял Федор Михайлович брату. – Он страшно расстроил здоровье, отправляется на воды, может быть, за границу. Он не возьмется за критику года два. Но для поддержания финансов издает исполинской толщины альманах (в 60 печатных листов). Я пишу ему две повести: 1-я) „Сбритые бакенбарды“, 2-я) „Повесть об уничтоженных канцеляриях“, обе с потрясающим трагическим интересом и – уже отвечаю – сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением… „Сбритые бакенбарды“ я кончаю».
Но случилось так, что вторую повесть он окончил раньше первой. Работа над «Сбритыми бакенбардами» вдруг запнулась, остановилась, а «Повесть об уничтоженных канцеляриях» давно сложилась в голове и сама просилась на бумагу, не давала покоя. И он сел за нее.
Сюжет этот явился ему еще года два назад, когда он случайно наткнулся в «Северной пчеле» на крохотную заметку о смерти некоего безвестного чиновника, коллежского секретаря Бровкина. Где-то на Васильевском острове, у бабы-солдатки снимал коллежский секретарь весьма тесный угол за пять рублей ассигнациями в месяц. Питался впроголодь – хлебом, луком, редькой. Когда же Бровкин помер, в старом истертом тюфяке, на котором он спал, нашли больше тысячи рублей серебром! За такую-то удивительную скупость и выставила «Северная пчела» покойного Бровкина на общее посмеяние.
Достоевский дал своему Бровкину значащее имя – Прохарчин. И по фамилии главного героя назвал потом повесть – «Господин Прохарчин». Его чиновник голодал именно в страхе «прохарчиться» – то есть проесть, истратить свои гроши на харчи. Чиновник одержим был мыслью припрятать малую толику, скопить деньгу про черный день. Ему нипочем полуголодное существование – что там! – самой смерти он не боится, но постоянно грызет его тревога: а вдруг однажды ни с того ни с сего возьмут да и уничтожат за ненадобностью канцелярию, где он служит, лишат его места и жалования.
«– А она стоит да и нет…
– Нет! Да кто она-то?
– Да она, канцелярия… кан-це-ля-рия!!!
– Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то…
– Она нужна, слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна».
Леденящее душу одиночество человека в огромном городе, панический ужас перед завтрашним днем, перед шаткостью своего положения – вот что разглядел Достоевский за курьезом газетной хроники. И в его повести жалкий скопидом-чиновник приобретает черты зловещие, пугающие. Скрытый в углу за ветхими ширмами засаленный тюфяк, набитый серебряными и медными деньгами, обороняет своим тощим телом уже не какой-то там безобидный скупердяй, а этакий канцелярский Гарпагон – фигура одновременно забитая, уродливая и устрашающая.
Власть денег, власть безденежья… Со времени приезда в Петербург автор «Господина Прохарчина» на себе испытал неотвязную тяжесть каждодневной заботы о деньгах. Вот и теперь снова сидел он по уши в долгах. Гонорары за «Бедных людей» и «Двойника» ушли на уплату прежним кредиторам, на обновы (хотелось пофрантить), как-то незаметно растаяли, испарились. Весной 1846 года пришлось занять денег у Краевского. Летом, отправляясь к брату в Ревель, снова обратился к Краевскому. А расплачиваться он мог только работой: за каждые пятьдесят рублей печатный лист. Волей-неволей «Господина Прохарчина» отдал не в альманах Белинского, а в уплату за долг в «Отечественные записки» Краевскому. И всё деньги, проклятые деньги…
Летом, в семье брата, он, как всегда, отдыхал душою. Педантически размеренное и сонное ревельское житье по-прежнему вызывало в нем раздражение. Но зато петербургские заботы представлялись отсюда какими-то бесконечно далекими, не страшными и даже, может быть, вовсе не существующими. Он то подолгу возился с трехлетним племянником Федей, то вдруг, к ужасу Эмилии Федоровны, начинал горячо убеждать брата бросить службу и ехать в столицу – пробивать себе дорогу в литературе.
Михаил уныло вздыхал, глядя на детей:
– Как тут рисковать?..
Лето минуло быстро. И вот уже снова гудит под ногами пароходная палуба, мерно врезаются в воду лопасти огромного колеса. Вспоминаются печальные глаза Михаила, розовый чепчик Эмилии Федоровны, насупленное личико Федора Михайловича-младшего. Бесконечно тянется время в сырой каюте и на палубе под ветром и дождем. И наконец из серых вод поднимается знакомый силуэт Кронштадта.

На городской окраине. Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.
Приехав в Петербург, прямо с пристани Достоевский отправился к Константину Трутовскому, у него и остановился на первых порах. Отдохнув с дороги, стал подыскивать квартиру. В этом году, до поездки в Ревель, успел сменить уже две квартиры. Григорович еще ранней весной уехал в имение к матери. Оставаться одному в трех комнатах было накладно. Достоевский снял сперва две меблированные комнаты «от жильцов» в доме купца Кучина на углу Кузнечного переулка и Гребецкой, затем жил в Кирпичном переулке между Малой и Большой Морскими улицами. Квартиры непременно снимал в угловых домах. Такая была фантазия. И теперь тоже присмотрел две маленькие, но хорошо обставленные комнаты в доме Кохендорфа на углу Большой Мещанской и Соборной площади – против Казанского собора. Торговаться не стал, сразу согласился с назначенной хозяином ценой – четырнадцать рублей серебром в месяц. Тотчас послал свой новый адрес Михаилу и просил поскорее написать: такая грусть на сердце! В сырой мгле грядущей осени ему виделись изнурительная работа, одиночество, тоска, болезни…
«Петербург – ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь! А здоровье мое, слышно, хуже. К тому же я страшно боюсь. Что-то скажет, например, октябрь – до сих пор дни ясные… Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в первое время болезни».
Если бы вырваться, уехать хоть на полгода в теплые края, к южному морю и там, в благодатном климате, по-настоящему поправить здоровье!.. Ведь недаром врачи в один голос твердят: «Поезжайте на юг, поезжайте в Италию…» Но как уехать?.. Впрочем, если бы удалось подороже сбыть книгопродавцам право на отдельное издание двух первых романов и двух новых повестей, денег на поездку, пожалуй, стало бы.
Краевский по его просьбе переговорил с издателями – купцами Ратьковым и Кувшинниковым. Те предложили за все рукописи 4000. Долгов нужно было уплатить 1600 рублей, следовательно, оставалось 2400. «Я обо всем расспрашивал: проезд стоит 500 (крайнее). Да в Вене я сделаю платья и белья на 300 рублей, там дешево, всего 800; останется, стало быть, 1600».
В голове его сложился великолепный и заманчивый план. Он проживет в Италии восемь месяцев. Разумеется, будет там не гулять, а работать. «В Италии, на досуге, на свободе хочу писать роман…» Печатать его станет в «Современнике» Некрасова. С нового, 1847 года журнал «Современник» будут издавать Некрасов с Панаевым, а главным критиком у них Белинский. Отослав в «Современник» первую часть романа и получив за нее тысячу двести рублей, он на два месяца съездит из Рима в Париж. Вернувшись в Россию, напечатает вторую часть романа.
Ему уже виделось полуденное небо Кампаньи, шумные Елисейские поля. «Мы, брат, долго теперь не увидимся. Но по приезде из-за границы прямо заеду к тебе, где бы ты ни был. К 20 октября – время окончания сырого материала, т. е. Сбритых бакенбард – мое положение означится наияснейшим образом…»
И действительно, положение его вскоре совершенно прояснилось, но только совсем иначе, чем он предполагал.
В середине октября вышел номер «Отечественных записок» с «Господином Прохарчиным». Достоевский настороженно ждал отзыва Белинского. В глубине души надеялся, что тот останется доволен. Но, увы, в отзыве явно сквозили разочарование и досада.
– В вашем «Прохарчине», – говорил Белинский, – сверкают яркие искры большого таланта. Но сверкают они в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю. Повесть походит более на рассказ о каком-то истинном, но странном и запутанном происшествии, чем на поэтическое создание.
Вот как обернулось дело с «Прохарчиным»…
Федор Михайлович много думал об отзыве Белинского. Значит, другие – и даже Белинский – не видят в его созданиях того, что видит он сам. Ему казалось, что предпринятое им исследование характера господина Прохарчина обнаруживает те крайние пределы, те Геркулесовы столпы духовного убожества, до которых доводит человека совершенное подчинение власти денег. Разве мало поэзии в его мысли представить в образе господина Прохарчина весь современный мир, поклоняющийся денежному мешку? Нет, все дело, конечно, в том, что Прохарчин обрисован не довольно подробно, решительно и смело. Надо отбросить всякую робость, ни на кого не оглядываясь, высказаться полно и свободно, довериться своему вдохновению – и тогда глубокие мысли, таящиеся в душе его, откроются всем, и прежде всего – Белинскому.
Недавние радужные планы пришлось перечеркнуть одним махом.
«…Все мои планы рухнули и уничтожились сами собою. Издание не состоится. Ибо не состоялось ни одной из тех повестей, о которых я тебе говорил. Я не пишу и „Сбритых бакенбард“. Я все бросил; ибо все это есть ничто иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал „Сбритые бакенбарды“ до конца, все это представилось мне само собою. В моем положении однообразие гибель. Я пишу другую повесть, и работа идет как некогда в „Бедных людях“ свежо, легко и успешно».
Камни Вечного города, зеленые холмы Монмартра остались где-то в недоступной дали. А перед ним на столе лежал только что начатый роман «Неточна Незванова», первую часть которого он обязался представить Краевскому через десять недель, к 5 января 1847 года.
«Так велики благодеяния ассоциации!»
Осенью, вскоре после возвращения из Ревеля, Достоевский писал Михаилу: «Я обедаю в складчине. У Бекетовых собралось шесть человек знакомых, в том числе я и Григорович. Каждый дает 15 коп. серебром в день, и мы имеем хороших чистых кушаний за обедом два и довольны».
Речь шла о братьях Бекетовых. Старший – Алексей – был тот самый Бекетов, с которым Достоевский дружил еще в училище. Второй – Николай – учился на естественном факультете Петербургского университета.
Добрые, умные, гостеприимные братья Бекетовы влекли к себе людей. Тянуло к ним и Достоевского. Иной раз, придя к Бекетовым обедать, Федор Михайлович оставался у них до вечера, когда дом наполнялся молодежью. Завсегдатаями были молодой поэт Плещеев, доктор Яновский, студент Ханыков и многие другие. Порою в небольшой квартире собиралось человек десять, а то и пятнадцать. Кому не хватало места на стульях и на диване, сидели прямо на полу, на ковре. Густой табачный дым полосами плавал в воздухе. Разговор шел то вполголоса по углам, то становился общим, и тогда вниманием присутствующих завладевал изящно одетый юноша, чьи усы и пышные бакенбарды не столько скрывали, сколько подчеркивали его молодость. Он говорил негромко, но уверенный, а порою и страстный тон его суждений заставлял прислушиваться. Нетрудно было заметить, что товарищи поглядывали на него уважительно, безусловно признавая его авторитет и права наставника.

В. Н. Майков. Рисунок Н. Майкова. 40-е годы XIX в.
Валериан Майков – так звали юношу – был сыном известного в Петербурге художника. Отец, сам человек просвещенный и к тому же состоятельный, постарался дать детям наилучшее воспитание. Девятнадцати лет Валериан Николаевич окончил юридический факультет Петербургского университета. Путешествовал по Германии, Италии, Франции. Слушал лекции в Сорбонне. Его блестящий и оригинальный ум более всего занимали насущные проблемы века. Он стремился к научному их разрешению. Изучал историю, политическую экономию, философию. Еще студентом написал исследование «Об отношении производительности к распределению богатства», по возвращении из-за границы начал обширный трактат «Общественные науки в России». Он находил время и для занятий химией и агрономией. Перевел с немецкого «Письма о химии» Либиха.
Но страстью его было искусство. Имея высокое понятие о роли художника в жизни людей, молодой ученый разрабатывал новую эстетическую теорию. Он стремился поставить изучение искусства в ряд положительных, экспериментальных наук. Блестящий ум и критический талант Майкова были уже известны в литературном мире. Когда в начале 1846 года Белинский ушел из «Отечественных записок», острый нюх Краевского учуял в Майкове подходящую замену. А Валериан Николаевич, согласившись возглавить критический отдел журнала, говорил друзьям:
– Я никогда не думал быть критиком в смысле оценщика литературных произведений. Я всегда мечтал о карьере ученого и до сих пор нимало не отказался от этой мечты. Но как добиться того, чтобы публика читала ученые сочинения? Я вижу в критике единственное средство заманить ее в сети науки.
И писал, и говорил Майков увлекательно. Мало-помалу вокруг него сгруппировался кружок молодых литераторов и ученых. Собирались то в редакции «Отечественных записок», то на квартире Майковых, но чаще всего – попросту, по-студенчески – сходились у гостеприимных Бекетовых. Здесь можно было говорить без стеснения, рассуждать и спорить до хрипоты.
– Ни энергия, ни благость, ни любовь, ни дружба не обеспечивают человека от бедствий! – решительно восклицал Майков. – Ничто не может служить ручательством за последующие его поступки, за то, что когда-нибудь он не окажется самым злостным, самым возмутительным человеком, что в нем не отразятся в увеличенном виде все злодеяния, от которых некогда пострадал он сам. Эта мысль важна именно потому, что она доказывает непрочность личных, индивидуальных добродетелей и ведет прямо к тому убеждению, что закон добродетели и обеспеченности человека заключается в организации общества!..
Достоевский уже слышал сходную мысль от Белинского: сперва накормите голодного, а потом уже спрашивайте с него добродетели. Но как накормить всех? Как избавить человека от страха необеспеченности? Майков излагал и толковал теории французских, английских и немецких социалистов. Все они считали главным злом современного общества частную собственность, разделяющую людей, рождающую жестокость и ненависть. Шарль Фурье, например, проповедовал соединение бедняков в ассоциации, фаланги, где все бы трудились сообща, по-братски делили плоды своих трудов и жили бы вместе, в обширном и великолепном, как дворец, здании – фаланстере. Новое устройство общества должно было обеспечить всеобщее благоденствие, исправить нравы. Гармония в человеческих отношениях, постепенно распространяясь, отразилась бы и в природе и даже в самом космосе… Другой мечтатель, Этьен Кабэ, собирал средства, чтобы купить в Северной Америке землю. Он задумал переселить туда сотни французских рабочих и организовать по собственному плану социалистическую колонию «Икария». Замысел историка и публициста Луи Блана был скромнее – он требовал для облегчения положения рабочих основать в Париже первые государственные предприятия – Национальные мастерские…
На сходках у Бекетовых с такой горячностью говорили о будущем человечества, точно от немедленного выяснения его грядущей судьбы зависела и участь каждого из присутствующих. В спорах рождались и сталкивались молодые дерзкие мнения. «О чем бы ни шла речь, – вспоминал через много лет Григорович, – касались ли событий в Петербурге, в России, за границей, обсуждался ли литературный или художественный вопрос, во всем чувствовался прилив свежих сил, живой нерв молодости, проявление светлой мысли, внезапно рожденной в увлечении разгоряченного мозга; везде слышался негодующий, благородный порыв против угнетения и несправедливости».
В кружке часто повторяли только что написанные двадцатилетним Алексеем Плещеевым стихи:
Вперед, без страха и сомненья!
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!..
Григорович, проведший это лето в родительском имении, принес к Бекетовым написанную им в деревне повесть. Она так и называлась – «Деревня». Как прежде в «физиологическом» очерке о шарманщиках, Григорович в своей повести подробно и без прикрас рассказал о том, что увидел своими глазами. Мрачным и щемящим получился рассказ. Когда он прочел «Деревню» в кружке, восторг был общим. Майков торжественно взял у него рукопись, пообещав напечатать в «Отечественных записках». «Григорович написал удивительно хорошенькую повесть, стараниями моими и Майкова, который, между прочим, хочет писать обо мне большую статью к 1-му января», – рассказывал Достоевский брату.
Статья Майкова вскоре явилась. Это был обзор всей русской литературы за 1846 год, но добрую половину его занял разбор сочинений Федора Достоевского. Майков не побоялся прямо сопоставить талант Достоевского с талантом Гоголя. «…Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский – по преимуществу психологический, – утверждал он. – …Собрание сочинений Гоголя можно решительно назвать художественной статистикой России. У г. Достоевского также встречаются поразительно художественные изображения общества, но они составляют у него фон картины и обозначаются большею частию такими штрихами, что совершенно поглощаются огромностью психологического интереса…» Критик восторженно оценил первый роман Достоевского, но едва ли не еще выше ставил второй. «„Двойник“ имел гораздо меньше успеха, чем „Бедные люди“, – писал Майков, – что, по нашему мнению, еще менее говорит в пользу успехов всего нового. В „Двойнике“ манера г. Достоевского и любовь его к психологическому анализу выразились во всей полноте и оригинальности. В этом произведении он так глубоко проник в человеческую душу, так бестрепетно и страстно вгляделся в сокровенную машинацию человеческих чувств, мыслей и дел, что впечатление, производимое чтением „Двойника“, можно сравнить только с впечатлением любознательного человека, проникающего в химический состав материи… Впрочем, если нам скучно было читать „Двойника“, несмотря на невозможность не сочувствовать созданию Голядкина, то в этом все-таки нет ничего удивительного: анализ не всякому сносен; давно ли анализ Лермонтова многим колол глаза, давно ли в поэзии Пушкина видели какое-то нестерпимое начало?»

Первая линия Васильевского острова, угол Большого проспекта. Литография К. Беггрова. 20-е годы XIX в.
Упоминал Майков и о «Господине Прохарчине». Предположив, что Достоевский не развернул вполне мысль рассказа потому, что испугался новых обвинений в растянутости, критик посоветовал автору больше доверять силе своего таланта.
Сам Валериан Николаевич ни минуты не сомневался, что талант Достоевского огромен. В смелом писателе-психологе он видел выразителя стремлений всего молодого поколения, к которому и сам принадлежал. По убеждению Майкова, людям 40-х годов XIX века выпало на долю открыть и в науке, и в искусстве новые пути, новые способы небывало глубокого, всестороннего и вместе аналитического исследования жизни. И первым из русских писателей на эту дорогу вступил именно автор «Бедных людей» и «Двойника».
Глазами Майкова смотрела на Достоевского и вся молодежь, сходившаяся у Бекетовых. У Бекетовых ему легко прощали неровности характера. Более того, многие в кружке сумели понять и даже полюбить в нем и самые странности его натуры – столь порывистой, чуткой к добру и как-то по-детски беззащитной перед окружающим злом. «Брат, – писал Достоевский в Ревель, – я возрождаюсь, не только нравственно, но и физически. Никогда не было во мне столько обилия и ясности, столько ровности в характере, столько здоровья физического. Я много обязан в этом деле моим добрым друзьям Бекетовым, Залюбецкому и другим, с которыми я живу; это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером. Они меня вылечили своим обществом. Наконец, я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки, по всем частям хозяйства, все не превышает 1200 руб. ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации! У меня своя комната и я работаю по целым дням. Адрес мой новый, куда прошу адресовать ко мне: на Васильевском острове, в 1-й линии, у Большого проспекта, в доме Солошича, № 26, против лютеранской церкви».
Они сняли вместе большую квартиру, обзавелись общим хозяйством и устроили «ассоциацию».
«Ассоциация»… Как отрадно было писать это слово тому, кто так страстно мечтал о всеобщем благоденствии. В скромной квартире на Васильевском острове ему виделись ростки того нового, к чему призывали благороднейшие умы человечества.








