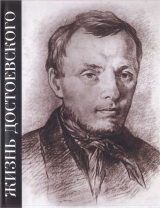
Текст книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"
Автор книги: Марианна Басина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
«Самая восхитительная минута во всей моей жизни»
Этим же утром Некрасов уже был у Белинского.
– Новый Гоголь явился! – с порога воскликнул он и протянул Белинскому рукопись «Бедных людей».
– У вас Гоголи-то как грибы растут, – строго заметил критик.
– Прочтите, – в увлечении настаивал Некрасов. – Сами то же скажете.
– Я теперь очень занят. – И Белинский равнодушно отодвинул рукопись.
– Да вы только начните! – убеждал Некрасов теми же словами, какими вчера убеждал его самого Григорович. – Только начните – не оторветесь.
– Полноте! Я уже не в тех летах. Для меня нет теперь книги, от которой я не мог бы оторваться для чего угодно – хоть для пустого разговора.
Белинский был человеком страстным, увлекающимся. В своих пристрастиях к людям, идеям, книгам он не знал середины и порою, увлекшись до самозабвения, потом должен был с сердечным сокрушением и раскаянием сознаваться в своей ошибке. И быть может, не было в его жизни ничего горше и мучительнее этих минут разочарования. Не в силах изменить свою натуру, Белинский старался, по крайней мере, показать друзьям, что с годами он стал осторожнее и, наученный горьким опытом, смотрит на вещи спокойнее и трезвее.
– Я еще зайду, – пообещал, уходя, Некрасов.
– Вечером? Хорошо, заходите.
– И вы мне скажете ваше мнение.
– Да неужто вы думаете, что я вот так брошу все и примусь читать.
– Но ведь отличная повесть. Прочтите сегодня.
– Нет, сегодня никак не могу.
– Когда же?
– Да вот… прочту как-нибудь…
После ухода Некрасова Белинский не удержался и заглянул в принесенную рукопись. Он прочел страницу, другую. Отложил тетрадь и прошелся по комнате. Потом позвал слугу, приказал ему никого не принимать, улегся на диван и принялся читать дальше.
Около восьми часов вечера Некрасов снова был у Белинского. Услыхав звонок, Белинский выбежал в прихожую. Лицо его выражало досаду и нетерпение.

В. Г. Белинский. Рисунок К. Горбунова. 1843 г.
– Где вы пропадали? Я вас жду, жду; думал уж посылать к вам. Что автор – молодой человек?
Увидев в руках Белинского знакомую тетрадь, Некрасов понял, о ком идет речь.
– Молодой.
– А как?
– Ему, я думаю, лет двадцать или двадцать четыре.
– Слава богу! – в восторге воскликнул Белинский и перевел дух, точно у него камень с души свалился. – Этот вопрос меня очень занимал. Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?
– Никак не более двадцати пяти.
– Ну, так он гениальный человек! – торжественно произнес Белинский.
– Я вам говорил! – обрадовался Некрасов.
– Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришел, оставил рукопись, повернулся и пропал!.. Превосходная вещь… Мало ли что мы называем превосходной вещью!
И, не в силах сдерживать своего восторга, Белинский тут же стал делиться с Некрасовым своим впечатлением от романа Достоевского.
– Главное, что поражает в нем, – это удивительное мастерство живьем ставить лицо перед глазами читателя, очеркнув его только двумя-тремя словами, но такими, что если бы иной писатель исписал десять страниц, то и тогда лицо это не выступило бы так резко и рельефно. И потом, какое глубокое, теплое сочувствие к страданию. Скажите, что он, – должно быть, бедный человек и сам много страдал?
Некрасов рассказал все, что успел узнать о Достоевском от Григоровича и что заметил сам насчет характера и образа жизни молодого писателя.
– Всего более радует, – не уставал повторять Белинский, – что ему только двадцать пять лет. Если бы он был человеком уже зрелого возраста, тогда, всего вероятнее, что из него ничего более не вышло бы. Тогда на «Бедных людей» можно было бы смотреть как на результат целой и лучшей половины жизни умного и наблюдательного человека, много пережившего и перечувствовавшего. Но написать такую вещь в двадцать пять лет может только гений!..
Белинский говорил и о недостатках «Бедных людей». Он находил в них некоторую растянутость, многословие, неуместное повторение одних и тех же слов, обличающее некоторую манерность. Но все это, по мнению его, было следствием молодости и неопытности автора – той самой молодости, от которой он ждал столь многого для русской литературы.
Прощаясь с Некрасовым, Белинский потребовал, чтобы тот на следующий же день непременно привел к нему Достоевского.
По дороге домой – как ни поздно было – Некрасов забежал на Владимирскую и передал автору «Бедных людей» свой разговор с Белинским. Хотя и накануне Некрасов видел радостное выражение в лице Достоевского, но что была та радость перед счастием, озарившим теперь его лицо. Слабым, неровным, дрожащим от волнения голосом переспрашивал Достоевский: так ли точно сказал Виссарион Григорьевич? – и повторял его отзывы, стараясь вникнуть в них поглубже, взвесить значение каждого слова. Разумеется, тут же уговорились, что завтра поутру вместе отправятся к Белинскому.
Когда на следующее утро литератор Анненков, приятель Белинского, вошел во двор дома, где жил Виссарион Григорьевич, то увидал его у раскрытого окна с большой тетрадью в руках. Заметив Анненкова, Белинский закричал ему:
– Идите скорее, сообщу новость!
И едва поздоровавшись с приятелем, стал рассказывать:
– Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это – роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли, еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, то есть не подозревая и сами, что у них выходит. Дело тут простое: нашлись добродушные чудаки, которые полагают, что любить весь мир есть необычайная приятность и обязанность для каждого человека. Они ничего и понять не могут, когда колесо жизни со всеми ее порядками, наехав на них, дробит им молча члены и кости. Вот и все, – а какая драма, какие типы! Да, я и забыл вам сказать, что художника зовут Достоевским, а образцы его мотивов представлю сейчас…
И Белинский, волнуясь, стал читать вслух наиболее поразившие его страницы романа.
Между тем Некрасов, удивленный и растерянный, стоял перед Достоевским. Хотя назначенный час уже прошел, автор «Бедных людей», побледневший и осунувшийся за ночь, сидел на постели в халате и, казалось, никуда не собирался идти.
– Как? Что такое? Отчего? – изумился Некрасов.
– Да я так думаю, – неуверенно говорил Достоевский, – вот он вчера расхвалил, а теперь, может быть, поохладел и уже совсем иначе думает…
– Федор Михайлович! Какое ребячество! Белинский не такой человек, да и «Бедные люди» не такая вещь, чтобы так скоро разочароваться!
Некрасов горячо убеждал, настаивал, просил. Наконец Достоевский пересилил себя – и они пошли.

Дом на Невском проспекте, где в 1842–1846 годах жил В. Г. Белинский. Фотография.
Дом, где жил Белинский, стоял на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Вошли во двор, поднялись по темной лестнице на третий этаж. Достоевский не помнил, как оказался в кабинете Белинского.
«Этого грозного, этого страшного» Белинского он мысленно рисовал себе фигурой властной, величественной, крупной и был поражен, увидав перед собой невысокого, худощавого, сутулого человека с белокурыми волосами, спадавшими на лоб, с чертами лица неправильными и на первый взгляд даже невзрачными.
Хозяин встретил гостей серьезно, сдержанно, даже с некоторой, как показалось Достоевскому, важностью.
«…Но не прошло, кажется, и минуты, – вспоминал потом Достоевский, – как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать».

Ф. М. Достоевский. Рисунок К. Трутовского. 1847 г.
Белинский заговорил возбужденно, до того прикрытые опущенными ресницами его большие прекрасные серые глаза точно заискрились.
– Да вы понимаете ль сами-то, – повторил он несколько раз, вскрикивая, по своему обыкновению, от сильного волнения, – вы понимаете ль сами-то, что это вы такое написали! Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник – ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности, и почти за вольнодумство считает признать, и когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, – он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого, как он, мог пожалеть «их превосходительство», как он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки – да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художники, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар. Цените же ваш дар и оставайтесь верным ему, и будете великим писателем!..

Невский проспект у Аничкова моста. Литография с рисунка И. Шарлеманя. Середина XIX в.
Они разговаривали долго. Белинский расспрашивал о том, как работал Достоевский над «Бедными людьми». Потом стал показывать гостям собранные им автографы знаменитых русских писателей. Прощаясь, Белинский просил Достоевского заходить к нему почаще и запросто, без церемоний.
«Я вышел от него в упоении, – рассказывал Достоевский. – Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) „И неужели вправду я так велик“, – стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда – разве можно было это вынести! „О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду „верен“! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А все говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о, к ним, с ними!“ Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни».
«Двойник»
Лето 1845 года Достоевский проводил у брата в Ревеле. Как и год назад, бродили они вдвоем по узким ревельским улочкам. Михаил Михайлович все так же жаловался на скудность жалованья, скуку провинциальной жизни, читал свои стихи и отрывки из перевода Шиллерова «Дона Карлоса». И здесь, в сонном и неизменном Ревеле, Достоевский еще отчетливее ощущал, как разительно переменилась в короткое время собственная его судьба. Он точно поднялся на огромную высоту, точно смотрел теперь на мир откуда-то сверху – еще вчера никому неведомый офицеришка, каких тысячи, а теперь в глазах умнейших и просвещеннейших людей России – гордость и надежда отечественной литературы.
Он привез брату на прочтение рукопись «Бедных людей». Не уставая, пересказывал свои недавние беседы с Белинским, с которым в несколько недель сблизился и сдружился. Рассказывал и о новом своем романе, который только что начал – «Двойник, или Приключения господина Голядкина». Обещал, что новый роман будет еще лучше и, во всяком случае, куда оригинальнее «Бедных людей».
Михаил Михайлович гордился братом, глядел на него радостно и восхищенно. Он-то всегда знал, что Федор человек необыкновенный, он всегда верил в него и не только пятьюстами карепинскими рублями, но головою готов был поручиться, что Федор станет большим, знаменитым писателем. Михаил и сам, быть может, не подозревал, как всегдашняя эта его вера и всегдашнее стремление понять брата, разделить его мысли и облегчить его горести укрепляли и поддерживали Федора в трудные времена. Рядом с Михаилом Федор никогда не ощущал той страшной тоски, той заброшенности и сиротливости, что порою отравляли петербургскую его жизнь. И теперь, когда он вступил на новую дорогу, еще неизведанную и, конечно же – он прекрасно понимал это, – ох, какую нелегкую, Федор при встрече с братом и потом, при расставании с ним, испытывал чувства особенно нежные и тревожные.
«Драгоценнейший друг мой!.. – писал он Михаилу на другой же день по возвращении в столицу. – Привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, и необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю… Сегодня, проснувшись в восемь часов, я увидел перед собой моего человека. Порасспросил его. Все как было; по-старому. Квартира моя слегка подновлена. Григоровича и Некрасова нет еще в Петербурге, а известно лишь по слухам, что они явятся разве-разве к 15-му сентября, да и то сомнительно… Я отправился по делам и ровно ничего не сделал. Познакомился с журналами, поел кое-что, купил бумаги и перьев – да и кончено. К Белинскому не ходил. Намереваюсь завтра отправиться, а сегодня я страшно не в духе… Ах, брат, ты не поверишь, как бы я желал теперь хоть два часочка еще пожить вместе с вами. Что-то будет, что-то будет впереди? Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же… Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение…»

Начальник и подчиненные. Рисунок П. Федотова. 40-е годы XIX в.
Как всю прошлую зиму и весну он жил только печалями и заботами Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой, так теперь изрядную часть собственного его существования составляли страдания безумного чиновника Якова Петровича Голядкина. Прозвание его произвел он от слова «голядка» – что значит «голь», «бедняк». И в одном из писем к брату прямо назвал своего «Двойника» исповедью. Нет, разумеется, не впрямую, а в форме иронической и причудливой, но и здесь он писал о себе. Он писал о том сокровенном, что таится в глубинах души всякого бедняка, – о мучительной робости, подозрительности, болезненной гордости, ежеминутно уязвляемой действительными и мнимыми обидами.
О, его господин Голядкин был горд, весьма и весьма горд! «Полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с нею перед людьми каждодневно», – так говорил Яков Петрович Голядкин. Но притом он никого, решительно никого не задевал. Напротив, он всегда готов был уступить, он даже рад уступить – только чтобы не очень уж его самого-то прижимали, чтобы уж не совсем затирали в грязь, как поганую ветошку. А то ведь и он может обидеться – обидеться и… промолчать. Потому как нет у него другой защиты, кроме смирения. «Как увидят, что я ничего не протестую и совершенно смиряюсь, с смирением переношу, так и отступятся, сами отступятся, да еще первые отступятся». Он терпит, он сносит. Прощает все обиды. Держится до той самой минуты, пока толчками в спину выпроваживают его из дома Олсуфия Ивановича Берендеева… Тут уж он решительно не в силах терпеть. Тут уж он готов отвечать ударом на удар, готов пустить в ход интригу, со своей стороны вести подкоп и надеть маску. Да только поздно! Судьба господина Голядкина уже решена. «Дело сделано, кончено, решение скреплено и подписано…»
В одном из тихих петербургских закоулков, в самой что ни на есть обыкновенной чиновничьей прихожей случилось ничтожное и, на первый взгляд, даже забавное происшествие. А в душе бедняка разыгралась трагедия – да еще какая!..

Вечерние тени. Набросок к картине П. А. Федотова «Игроки». 1851 г.
Ненастной ноябрьской ночью бежит по пустынным столичным улицам господин Голядкин. С позором изгнанный из дома статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева, потрясенный и убитый, не чуя под собою ног, бежит Яков Петрович от Измайловского моста к себе, в Шестилавочную улицу. Вооруженная ветром, дождем и мокрым снегом жестокая ночная непогода точно бы старается довершить дело врагов господина Голядкина, пронимая его до костей, залепляя ему глаза, продувая со всех сторон и сбивая с пути и с последнего толка… Человек самый обыкновенный, человек как и все, человек не хуже других, Голядкин вздумал было искать руки Клары Олсуфьевны, дочери статского советника Олсуфия Ивановича Берендеева. Увы, Голядкину предпочли некоего счастливого юношу – столько же делового, сколько и благонравного, который к тому же доводился племянником Андрею Филипповичу, начальнику отделения в том самом департаменте, где служил Голядкин. Яков Петрович не хотел сразу сдаться, Яков Петрович вздумал хоть тут-то, хоть раз в жизни постоять за себя! Что же? Его попросту и весьма неблагородно спустили с лестницы. И вот, гонимый стыдом и отчаянием, поспешая вдоль пустынных улиц, безмолвие которых нарушал лишь вой ветра, тоненький скрип фонарей да журчание и хлестание воды, стекавшей с крыш, крылечек, желобов и карнизов, в сумятице и мелькании ноябрьской вьюги и хмари Голядкин видит внезапно – кого бы вы думали? – самого себя! Самого господина Голядкина, совершенного своего двойника!.. Мутится бедный ум его, раздваивается сознание. Темные силы собственной души воплощаются для Голядкина в фигуре двойника. И вот этот-то второй господин Голядкин, господин Голядкин-младший в больном воображении Голядкина-старшего точно бы в самой действительности принимается отчаянно интриговать, изворачиваться, подличать, вести подкоп и надевать маску. Он мучает, теснит и, наконец, вовсе вытесняет Голядкина из жизни – в сумасшедший дом…

Вечерние тени. Набросок к картине П. А. Федотова «Игроки». 1851 г.
Нет, вовсе не то важно, что безумие Голядкина – болезнь. Куда важнее, что такие вот тяжкие, порой нестерпимые душевные муки сносит всякий бедняк, возмечтавший сохранить в этом мире хоть крупицу своего человеческого достоинства.
В «Бедных людях» Достоевский заставил героев самих рассказать свою жизнь – со всеми ее мелочными подробностями. В «Двойнике» он стремился как бы распахнуть настежь людскую душу – чтобы невидимые, неуловимые, казалось бы, внутренние движения ее запечатлеть, вытащить на свет Божий. А средством запечатлеть, словесно выразить как раз и было безумие героя. В безумном мозгу Голядкина обретали очертания, получали краски и голоса невещественные, невидимые никому, но такие жестокие, такие привычные душевные страдания бедного маленького человека.
Небывалый сюжет, разработка смелая, острая до дерзости… Будущее не сулило Якову Петровичу Голядкину столь привычной и милой его сердцу безвестности. Литературная судьба его обещала быть громкой – либо решительным успехом, либо совершенным падением… Нет, именно успехом! Автор «Двойника» верил в это. «Голядкин выходит превосходно; это будет мой chef-d’œuvre…»
«Любопытство насчет меня страшное…»
«Бедные люди» еще не были напечатаны, «Двойник» еще не был окончен, а имя Достоевского уже повторял весь литературный Петербург.
Давно ли он гадал: пожелают в «Отечественных записках» прочесть его роман или так и вернут, не прочитав? «…А если прочтут, так через полгода. Там рукописей довольно и без этой. Напечатают, денег не дадут…» Теперь издатель «Отечественных записок» Краевский, как великую милость, получил от Некрасова на денек корректуру «Бедных людей». Сам прочитал и одолжил известного писателя князя Владимира Федоровича Одоевского – дал ему роман на одну ночь с условием никому не показывать и к утру возвратить.
Первое письмо, которое отправил Достоевский брату по возвращении в Петербург, исполнено было тоски и мрачных предчувствий. Но прошло всего несколько дней, и его сплин рассеялся. С удивлением и робостью увидел Достоевский необыкновенное внимание к своему роману и к самой своей особе. Восхищение Белинского, восторженные отзывы Некрасова, неумолчные хвалы Григоровича, разнесенные присяжными вестовщиками во все уголки читающего Петербурга, в две-три недели сделали имя его знаменитым в литературном кругу. Волей-неволей пришлось принять на себя роль известного писателя, и, правду сказать, роль эта забавляла и радовала его, как ребенка.

В. А. Соллогуб. Литография Л. Вегнера. 1843 г.
«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб… обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского? Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что Достоевский не захочет вам сделать чести, осчастливить вас своим посещением…»
Спустя некоторое время, прочитав «Бедных людей», модный писатель и светский денди граф Соллогуб сам разыскал их автора. Войдя в его квартиру, окинул удивленным взглядом маленькую комнату и поношенный сюртук хозяина, заметил, что рукава сюртука были чрезвычайно коротки, точно его шили на кого-то другого. Федор Михайлович предложил гостю кресло, как увидел Соллогуб, единственное в комнате, старомодное и ветхое. На все вопросы о своем романе Достоевский отвечал негромко, скромно и весьма неопределенно. Посидев минут двадцать, граф поднялся и, прощаясь, очень звал к себе.
– Нет, граф, простите меня, – Достоевский как будто смутился, – я, право, в большом свете отроду не бывал и не могу никак решиться…
– Полноте, любезный Федор Михайлович! Мы с женой принадлежим к большому свету и ездим туда, но к себе его не пускаем!..
Граф настаивал, Достоевский отнекивался, но, наконец, пообещал как-нибудь посетить Соллогуба.
Разумеется, всеобщее внимание к его особе и повсеместное любопытство на его счет приятно тешили самолюбие молодого писателя. Но куда больше, чем эта шумная известность, радовало его то, что он как свой, как равный – нет, пожалуй, как первый среди равных! – принят был в кругу избранных, в кругу Белинского.
«Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикоюи оправдание мнений своих». Пылкий критик проникся к юному автору «Бедных людей» истинно отеческой нежностью. Его умиляла даже внешность Достоевского – то, что он был невысок, худощав, бледен.
– Невелика птичка, – говорил Белинский приятелям и указывал рукой чуть не на аршин от полу, – невелика птичка, а коготок востер!
Немало удивились приятели, когда увидели, что «птичка» ростом выше самого критика. Но Белинский-то смотрел на своего нового любимца глазами многоопытного, умудренного жизнью наставника. Он хотел объяснить Достоевскому его самого. Обещал после выхода «Петербургского сборника» написать большую статью о «Бедных людях».
– Да вот увидите, – говорил Белинский, – я буду писать. Тогда только раскроется все художественное значение «Бедных людей». Это такой роман, о котором можно написать целую книгу вдвое его толще!
– Признаюсь, – пожимал плечами Достоевский, – я не нашел бы, чем наполнить и коротенькую рецензию. Похвала коротка – а если растянуть ее, выйдет однообразно.
– Это только доказывает, – улыбался Белинский, – что вы не критик и взялись бы не за свое дело. Разбирать подобное произведение – значит выказать его сущность, значение, причем легко можно обойтись и без похвалы: дело слишком ясное и громко говорит само за себя – но сущность и значение подобного художественного создания так глубоки и многозначительны, что в рецензии мало только намекнуть на них.

И. С. Тургенев. Рисунок К. Горбунова. 1846 г.
Подолгу просиживали они, беседуя, в скромном кабинете Белинского. Эта тесная комнатка запомнилась Достоевскому на всю жизнь. Два окна, направо от окон большой письменный стол, рядом конторка. Над столом множество портретов – великие писатели, друзья. Вдоль других стен – высокие стеллажи с книгами. Книги с верхних полок Белинский доставал с помощью складного табурета-лесенки. На подоконниках цветы – множество горшков с цветами. И нигде ни соринки, безукоризненная опрятность и чистота.
Для него – и для него одного! – здесь часами говорил человек, к суждениям которого жадно прислушивались во всех уголках России.
«…Привязавшись ко мне всем сердцем, – вспоминал Достоевский, – он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере, в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма».
– Нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставленными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, – горячо восклицал Белинский, – нелепо и жестоко требовать от человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел!..
Зажигаясь собственной речью, отчего лицо его покрывалось лихорадочным румянцем, а глаза горели, Белинский говорил о необходимости устроить человеческое общество на новых, справедливых началах и провозгласить новую мораль взамен христианской морали старого мира.
– Христос, если бы родился в наше время, – сказал он как-то, – был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и нынешних двигателях человечества.
– Ну, нет! – подхватил бывший при разговоре один из друзей Белинского. – Ну, нет! Если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его.
– Да, – согласился Белинский, – он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними!..
Помочь несчастному, страждущему человечеству – ведь именно об этом мечтал и он, Федор Достоевский. Пусть не все мысли Белинского разделял он вполне, но сама безоглядная решимость этого болезненного, одержимого человека завораживала, захватывала его, и на дружескую горячность Белинского сердце его отвечало не менее пылкой и радостной привязанностью.
Так же скоро и как-то особенно доверительно сошелся Достоевский с Николаем Алексеевичем Некрасовым. Всегда немногословный, сдержанный, Некрасов наедине с Достоевским неузнаваемо менялся, душа его будто приоткрывалась. Он начинал говорить порывисто, со страстной откровенностью. Однажды рассказал о своем ужасном детстве, о безобразной жизни помещика-отца, о своей покойной матери, которую нежно любил, о неутешных детских слезах – как он рыдал, обнявшись с матерью, где-нибудь в уголке, украдкой, чтобы не увидели. И боль этого так рано истерзанного сердца слышалась теперь Федору Михайловичу в горьких гневных стихах, которые читал ему Некрасов:
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть…
В начале ноября к Белинскому пришел только что вернувшийся из Парижа молодой поэт Иван Сергеевич Тургенев. Его и Достоевского тотчас представили друг другу.
Прочитав «Бедных людей», Тургенев загорелся пуще самого Белинского.
«На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал), – рассказывал Федор Михайлович брату, – и с первого раза привязался ко мне такою привязанностью, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет – я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо-прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе… На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не знают как любить меня. Влюблены в меня все до одного…»
Им восхищались, за ним ухаживали. Жизнь его покатилась весело и празднично. Новая обстановка, новые лица – и все обращены к нему, все улыбаются…
Как-то ноябрьским вечером Некрасов и Григорович привели его к Панаевым. В обширной и богато обставленной квартире толпился народ – по большей части писатели, переводчики, артисты.

И. И. Панаев. Рисунок К. Горбунова. 40-е годы XIX в.
С Иваном Ивановичем Панаевым, давним приятелем Белинского, автором бойких занимательных повестей, человеком веселым, добрым, безалаберным и легкомысленным, Достоевский уже был знаком. О жене Панаева – Авдотье Яковлевне – наслышался от Некрасова. Узнал, что она умна и образована, что на весь Петербург славится своей красотой. Он заранее ждал встречи с женщиной необыкновенной, но нет, он и вообразить себе не мог такого прелестного и странного смешения несовместимых, казалось, черт в одном человеческом существе. Во всем ее облике сквозило нечто гордое. Посадка головы, высокий спокойный лоб, чуть короткая верхняя губка маленького рта – все выражало какую-то надменность, даже презрительность. И в то же самое время большие темные глаза смотрели доверчиво и простодушно. Ему почудилось что-то тревожное, что-то затаенное и мучительное в самой странности, в самой противоречивости этой удивительной натуры. И с первого взгляда он исполнился сочувствием и нежностью к этой прекрасной и, как показалось ему, страдающей женщине.
«Вчера я в первый раз был у Панаева, – писал он в Ревель 16 ноября, – и, кажется, влюбился в жену его. Она славится в Петербурге. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя».

А. Я. Панаева. Акварель К. Горбунова (?). 40-е годы XIX в.
Радушно, ласково встречала Авдотья Яковлевна в своем доме этого застенчивого юношу, которого сам Белинский называл гением. Но не похвалами Достоевскому объяснялась ее приветливость. Она видела, как робко входил он в комнату, как беспокойно перебегали с предмета на предмет его опущенные серые глаза, как нервно подергивались губы, и женским своим чутьем понимала, что, несмотря на все успехи, новоявленному светилу живется нелегко, сиротливо, одиноко и что он чувствует себя потерянным в большом незнакомом обществе. Она старалась ободрить его, шутила с ним. И эта милая ее заботливость рвала ему сердце. Благодарность мешалась с отчаянием оттого, что так же ласково, так же весело и вместе слегка надменно встречала она и многих других. Хотелось кинуться к ней, упасть к ее ногам и попросить жалобно: «Не привечивайте вы их всех, Авдотья Яковлевна. Привечивайте только меня, меня одного».








