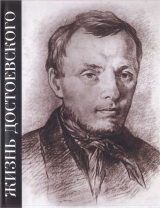
Текст книги "Жизнь Достоевского. Сквозь сумрак белых ночей"
Автор книги: Марианна Басина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
«А не почитать ли нам, господа, Гоголя!»
В ящике его письменного стола лежали две почти оконченные драмы. Он подумывал о том, чтобы снести их в театр. Мысленно примеривая главные роли своих пьес на первых столичных актеров, не пропускал теперь ни одного сколько-нибудь замечательного спектакля. Видел знаменитого Каратыгина в «Гамлете»: статный, красивый, гордый, тот был холодноват, но скульптурно отчетлив и благороден в каждом жесте, в каждом движении. Порою Каратыгин умел без единого слова очертить характер своего героя. В драме «Велизарий», когда полководец-триумфатор появлялся на сцене в торжественной колеснице, влекомой народом, в одной лишь его осанке и во взгляде выражалось столько величия, что театр восторженно вскипал рукоплесканиями. Когда же оклеветанный герой, не в силах отвечать на обвинения, лишь печально заворачивался в тогу и долго стоял так, недвижно и в молчании, зрительный зал тоже замирал, недвижный и потрясенный. В мольеровском «Тартюфе», возобновленном на Александрийской сцене, являлся молодой комик Мартынов, в котором проницательные ценители уже угадывали великого артиста. Пеструю вереницу пустых и порою забавных водевилей расцвечивал своею веселостью изящный и музыкальный Дюр, представлявший все больше лихих повес, франтов, волокит, но порою и «комических стариков»… Точно голодный на лакомство, накинулся Достоевский на театральные удовольствия. Он стал ходить и в оперу, и даже в балет.

Разъезд из Александрийского театра. Литография Р. К. Жуковского. 1843 г.
В театре изучал он игру актеров, законы сцены. Дома неустанно перечитывал великих драматургов прошлого. Читая, он невольно становился рядом с Шекспиром, с Шиллером, все время прикидывая: а как бы он сам написал вот эту реплику, вот эту сцену?.. Такое непрестанное, изо дня в день, соревнование с мастерами было нелегкой школой. Но его увлекало это самостоятельное постижение сокровенных законов и приемов искусства, изучение людских страстей и характеров, человеческой психологии. Писателей, изображающих страсти, ставил он особенно высоко. Пусть даже в произведениях некоторых из них поэтическая форма поражала его странными условностями, казалась устарелой – он легко прощал эти внешние недостатки ради выстраданной, открытой ими высокой правды о человеческом сердце.
Как-то в одном из писем к нему Михаил пренебрежительно отозвался о «старике» Корнеле. Федор вознегодовал и тотчас же по-братски отчитал своего корреспондента: «Теперь о Корнеле. Послушай, брат. Я не знаю, как говорить с тобою; кажется, à la Иван Никифорович: „гороху наевшись“. Нет, не поверю, брат! Ты не читал его и оттого так промахнулся. Да знаешь ли, что он по гигантским характерам, духу романтизма – почти Шекспир. Бедный! У тебя на все один отпор: „классическая форма“… Читал ли ты: „Le Cid“? Прочти, жалкий человек, прочти и пади в прах пред Корнелем. Ты оскорбил его! Прочти, прочти его. Чего же требует романтизм, ежели высшие идеи его не развиты в Cid’e?.. Впрочем, не сердись, милый, за обидные выражения, не будь Иваном Ивановичем Перерепенко».
Чтобы не обидеть брата, свою взволнованную речь в защиту автора «Сида» он и начал и окончил шутливыми ссылками на гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». И так всегда – лишь только хотел он сказать что-нибудь забавное – на язык невольно просились смешные словечки и выражения из Гоголя: «Лентяй ты такой, Фетюк, просто Фетюк!»; «…Я совершенно согласен с Гоголевым Поприщиным: Письма вздор, письма пишут аптекари…»
В первый раз он взял в руки Гоголя еще в Москве, в пансионе Чермака. Поначалу автор «Коляски» и «Носа» более всего нравился ему именно блеском и остротой оборотов, неистощимой роскошью словесных узоров, сплетавшихся в упругую ткань его произведений. Гоголь пленял его неподражаемой способностью выставлять в фантастическом свете самые, казалось бы, скучные фигуры и происшествия привычной, обыденной жизни. Он читал повести Гоголя с наслаждением, с восхищением. И все же его почтительно обнаженная голова склонялась тогда перед творениями иного рода. Шекспир, трагедия – так в двух словах мог бы он обозначить свои литературные пристрастия.

В. Каратыгин в роли Гамлета. Гравюра. 20-е годы XIX в.
Как-то Михаил сообщил ему, что пишет драму, и пересказал ее содержание. «Сюжет твоей драмы прелестен, – отвечал Федор, – видна верная мысль, особенно то нравится мне, что твой герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное – когда он любим. Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир».
Беспредельные, необъятные стремления духа, величественные, необузданные страсти, бурные трагические характеры – все это он и сам стремился изобразить в своей «Марии Стюарт» и в своем «Борисе Годунове». Он по десять раз переписывал каждую сцену, чтобы потом вымарать ее и заменить другой, которую тоже без конца переделывал. И с каждым днем все явственнее виделось: не то, не то… Его заветные мысли, те, что мечтал он высказать, казалось, случайно заблудились среди шотландских дворцов и русских теремов и бродят там как неприкаянные. Нужны иные положения, иные лица, другие слова, чтобы выразить все накопившееся в душе.
И вот тут-то как раз явились эти новые, поразительные создания Гоголя!
Летом 1842 года вышел первый том «Мертвых душ». Достоевский читал его и перечитывал – и про себя, и вслух приятелям. «Тогда это бывало между молодежью, – рассказывал он после, – сойдутся двое или трое: „а не почитать ли нам, господа, Гоголя!“– садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь». Избрав предметом своей новой книги плутовские проделки подлеца приобретателя, Гоголь умудрился таким образом переплавить, пересоздать комический, «низкий», совсем, казалось бы, не поэтический сюжет, что каждая строка его «Мертвых душ» зазвучала благородным металлом чистейшей поэзии. Ведь недаром Гоголь и сам назвал свое сочинение поэмой…

Петропавловская крепость летней ночью. Литография по рисунку К. Беггрова. 1820-е гг.
Не успел остыть первый восторг от чтения «Мертвых душ», а из петербургской типографии вышел 3-й том Собрания сочинений Гоголя, где явилась повесть «Шинель». В ней Гоголь точно так же сметал и опрокидывал привычные литературные представления. В его повести заурядное уличное происшествие принимало размеры мирового события, а букашка-чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин вырастал в фигуру огромную, страшную, истинно трагическую. Сердце переворачивалось в груди от этих пронзительных слов беззащитного, убогого существа: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?»…
Много лет спустя, оглядываясь назад, на тот путь, что прошел он сам и писатели его поколения, Достоевский мог сказать: «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя».
А тогда, осенью 1842 года, он отложил в сторону две свои незавершенные драмы и вскоре принялся за третью. Главным лицом в ней был уже не царь, не королева, но безвестный еврей Янкель. Не случайно, должно быть, он назвал своего героя так же, как звали одного из персонажей гоголевского «Тараса Бульбы»…
Страстно, напряженно, мучительно работал инженер-прапорщик Достоевский, отыскивая свою дорогу в литературе. Вот уже и третья его драма пухлой грудой черновиков возвышалась над письменным столом, а он по-прежнему не сказал еще ничего из того, что мечтал, что необходимо должен был сказать.
Он писал, правил, писал наново и снова ожесточенно правил. И так проходили месяц за месяцем.
Между тем труды его на поприще военно-инженерных наук продолжались своим чередом. Подошла весна, а с нею экзамены: последние в его жизни – выпускные. Опять адская зубрежка, бессонные ночи и, наконец, – выпуск.
30 июня 1843 года Алексей Ризенкампф лежал больной в своей постели. Вдруг дверь его комнаты отворилась, и вбежал Достоевский – радостный, бодрый, взволнованный. Он с порога объявил, что принимает поздравления, что отныне он уже не школяр: училище окончено, и он определен на службу в чертежную инженерного департамента, что покуда имеет отпуск в город Ревель на двадцать восемь дней, что желает ввиду всего этого весело отобедать и решительно требует, чтобы Ризенкампф немедленно вылезал из постели и отправлялся вместе с ним в ресторан.
Не слушая возражений, Достоевский стащил приятеля с кровати, заставил одеться, усадил в пролетку и повез на Невский проспект, к Лерху. Там он потребовал отдельную комнату с роялем, заказал роскошный обед, велел подать шампанского. Они выпили, Ризенкампф сел к роялю, сыграл одну пьесу, другую и – вопреки всем законам медицины – выздоровел.
На следующее утро Ризенкампф проводил Федора Михайловича на пароход, отправлявшийся в Ревель.
«Служба надоела, как картофель»
Летом 1843 года в Петербург приехал знаменитый французский писатель Бальзак. Извещая своих читателей об этом событии, петербургская газета «Северная пчела» писала: «Прежде всего поделимся с читателями известием, любопытным для всех любителей литературы, – на пароходе „Девоншир“, прибывшем из Лондона и Дюнкирхена в прошлую субботу 17-го числа, приехал известный французский писатель Бальзак. Говорят, что он намерен провести у нас всю зиму».
Бальзак поселился на Большой Миллионной улице, в доме Титова.

О. Бальзак. Литография. 40-е годы XIX в.
Не успел великий романист выехать из Парижа, как вслед ему полетела шифрованная депеша от поверенного в делах России во Франции Киселева к российскому министру иностранных дел графу Нессельроде. Депеша касалась весьма тонкого дела по поводу книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».
Маркиз де Кюстин – убежденный монархист – побывал незадолго перед тем в России, чтобы воочию убедиться, сколь благодетельно для страны самодержавное правление. Но то, что он увидел, привело его в ужас. И, возвратившись во Францию, он выпустил книгу, где выставил в весьма невыгодном свете и российское правительство, и русские порядки. Император Николай Павлович разгневался донельзя. Так описать Россию! И вот Киселеву пришло на ум уговорить Бальзака печатно опровергнуть «пасквиль» Кюстина и обелить Российскую империю в глазах Европы.
Но Бальзак был занят своими личными делами, и только ими.
Между тем о его пребывании в России по Европе ходили всевозможные толки. Так, издававшаяся в Баварии «Аугсбургская газета» уверяла, что, приехав в Петербург, Бальзак послал императору Николаю такую записку: «Господин де Бальзак-писатель и господин де Бальзак-дворянин покорнейше просит его величество не отказать ему в личной аудиенции», на что Николай якобы собственноручно ответил: «Господин де Бальзак-дворянин и господин де Бальзак-писатель могут взять почтовую карету, когда им заблагорассудится». Газета также уверяла, что обиженный Бальзак будто бы немедленно покинул Петербург.
Это были международные толки. Но что вполне соответствовало действительности, так это то, что власти и высшее петербургское общество приняли Бальзака чрезвычайно холодно. «Я получил пощечину, предназначавшуюся Кюстину», – сказал Бальзак.
Иначе к его приезду отнеслись читающие жители столицы.
Вездесущий Григорович рассказывал, что в театре публика устроила Бальзаку овацию.
В октябре, сообщая об его отъезде, «Северная пчела» заключила: «Бальзак навсегда останется одним из первых писателей своей эпохи».
Инженер-подпоручик Федор Достоевский вполне разделял это мнение. «Бальзак велик! Его характеры – произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека».
Он преклонялся перед Бальзаком, писателем и человеком. Безвестный юноша, одержимостью, трудом и гением завоевавший Париж… Да что Париж! Весь мир!..
А он сам? Как завоевывает он Петербург?
Каждое утро отправлялся он теперь в чертежную Первого отделения военного департамента и с линейкой и циркулем вычерчивал планы фасадов казарм, цейхгаузов, караулен. Его посылали наблюдать за строительными работами в Кронштадтской крепости, где трудились арестанты в кандалах.
Школьное честолюбие утихло в нем – не было больше соревнования с товарищами, экзаменов, баллов. Прежние ученические добродетели – старательность, исполнительность – казались смешными и детскими. Он их перерос. Порою его чертежи, составленные неправильно, без масштаба, возвращались обратно с резкими замечаниями начальства. Федор выслушивал почтительно, но так равнодушно, будто дело касалось кого-то другого. Он ничего не мог поделать с тем, что в его голове для фортификации с архитектурой оставалось все меньше места… «Сидя или колотясь на работах, смотря как кладут кирпичи, не много отрадных мыслей войдет в голову», – признавался он Михаилу. И все чаще подумывал об отставке.
Но как он будет жить? Чем добудет себе каждодневное пропитание? Его давно подмывало попробовать заработать себе на жизнь литературой, заняться переводами… Да, его спасут переводы: занятие по душе, заработок и избавление от долгов. Драмы свои он считал неотделанными, незаконченными, не надеялся на них и боялся показать их людям, имеющим касательство до театра. А переводы при нынешнем положении вещей – верный кусок хлеба. Сумей он зарабатывать литературным трудом – и побоку эполеты, прощай, служба! Он независим, свободен. Да почему бы и не заработать? Французские романы наполняют отделы словесности всех журналов, у публики идут нарасхват. Про известного переводчика Струговщикова рассказывают, что он на переводах нажил состояние. Да и других немало. С чего начать? Конечно, с Бальзака. Лучшего не придумаешь. «Нужно тебе знать, – писал он Михаилу, – что на праздниках я перевел Евгению GrandetБальзака (Чудо! чудо!). Мой перевод бесподобный. Самое крайнее мне дадут за него 350 руб. ассигнациями. Я имею ревностное желание продать его, но у будущего тысячника нет денег переписать; времени тоже. Ради ангелов небесных пришли 35 руб. ассиг. (цена переписки)».

Роман О. Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Ф. М. Достоевского. Страница журнала «Репертуар и Пантеон».
При его манере обращаться с деньгами скромного жалования не хватало. Суммы, изредка присылаемые из Москвы – доходы с имения, – тоже проскальзывали между пальцами. Он был весь в долгах. Дошло до того, что пришлось спознаться с ростовщиком. Имелся в Петербурге отставной унтер-офицер, служивший некогда во Втором сухопутном госпитале приемщиком мяса у подрядчика. На этой приемке погрел он руки, сколотил капиталец и теперь промышлял тем, что давал под залог деньги за зверские проценты. К нему и вынужден был обратиться Федор Михайлович. Чтобы раздобыть денег, он дал ростовщику доверенность с поручительством казначея Инженерного управления. По этой доверенности ростовщик получил вперед жалование подпоручика за первую треть 1844 года. Причем из трехсот рублей сто считались процентами.
Но теперь – теперь все изменится…
Поразведав, как обстоят дела на книжном рынке, решил он взяться за перевод с французского большого романа Эжена Сю «Матильда, или Исповедь молодой женщины». Первая часть «Матильды» была уже переведена за год перед тем и возбудила живейшее любопытство публики. Продолжения не последовало. А роман ждут. Если взяться за дело хватко, быстро перевести, то к началу наступающего 1844 года дело будет сделано. Правда, в столь малый срок одному не сдюжить. Надо еще кого-нибудь. Достоевский заразил своим энтузиазмом товарища по училищу Оскара Паттона. Они сговорились: вместе переведут, вместе напечатают и поделят барыши. Паттон был знаком с известным литератором, профессором и цензором Никитенко. Тот предсказывал успех.
Обегали все бумажные лавки, всех типографщиков. За бумагу вперед требовали треть цены – остальное в долг, под залог отпечатанных экземпляров. Нашелся француз-типографщик, согласившийся за тысячу рублей все отпечатать и ждать полной расплаты до продажи книг.
Чтобы ускорить предприятие и найти недостающие деньги, решили привлечь и Михаила. «Мы разделяем труд на три равные части и усидчиво трудимся над ним… Переводить нужно начисто прямо, т. е. разборчиво. У тебя хороша рука и ты можешь это сделать… Денег нужно самое малое 500 руб. сереб. У Паттона готовы 700 [5]5
Имеется в виду 700 рублей ассигнациями. Рубль ассигнациями равнялся 33,5 копейки серебром.
[Закрыть]. Мне пришлют в Генваре руб. 500 (ежели же нет, то я возьму вперед жалованье). С своей стороны ты распорядись, чтобы иметь к февралю 500 руб. (к 15-му числу), хоть возьми жалование. С этими деньгами мы печатаем, объявляем и продаем экземпляры по 4 руб. сереб. (Цена дешевая, французская). Роман раскупается… 300 экземпляров окупают все издержки печати. Пусти весь роман в 8 томах по целковому, у нас барыша 7 тысяч».
Дело казалось верным.
Но вдруг Паттон заявил, что уезжает служить на Кавказ. Обещанных денег не дал. Все планы рушились.
Пришлось срочно писать Михаилу. «Все эти причины понудили меня просить тебя, друг мой, оставить покамест перевод. Весьма в недолгом времени уведомлю тебя о последнем решении; но вероятно не в пользу перевода».
Федор Михайлович не ошибся. Столь, казалось бы, блестяще задуманное предприятие лопнуло, как мыльный пузырь.
Правда, «Евгению Гранде» Бальзака удалось пристроить в журнал «Репертуар и Пантеон». Ее напечатали.
Происшествие же с «Матильдой» не расхолодило Достоевского. Он еще ревностнее взялся за дело – начал переводить повесть Жорж Санд «Последняя Альдини». И вдруг опять неудача, да еще какая! Работа подходила к концу, когда обнаружилось, что повесть уже несколько лет как переведена и напечатана.
Да, карьера переводчика оказалась не столь доступной и доходной, как мнилось поначалу.
Другой, более слабый духом, непременно впал бы в отчаяние, отказался бы от мечтаний. Но только не он – Федор Достоевский. Неудачи, казалось, лишь раззадоривали его. Жизнь бросала ему вызов – он его принял.
Он обдумывал новые литературные планы – еще более грандиозные, более заманчивые. Вопреки житейской мудрости, наперекор ей, именно теперь он утвердился в мысли безотлагательно бросить службу, выйти в отставку и целиком заняться «изящной словесностью». «Служба надоела, как картофель», – писал он Михаилу. И будь что будет, а он навсегда расстанется с постылой чертежной инженерного департамента.
«Видение на Неве»
Сестре Вареньке писал он редко. То, что лежало на сердце, то, что желал бы он ей сказать, было не для бумаги, не для чужих глаз. И потому он посылал лишь поздравления – к Варварину дню, на Новый год. Так было и в декабре 1843 года.
«Милая сестрица! Давным-давно уже не писал я ничего тебе; винюсь душевно, но видишь ли, я избалован твоею добротою и расположением ко мне и потому всегда надеюсь на прощение. Со мною нужно быть строже и злопамятнее – два качества, совершенно противных твоему доброму, любящему сердцу. Желаю тебе счастья большего и большего, добренькая сестрица. Желаю счастья и здоровья и малюткам твоим. Пусть вырастут тебе на радость и утеху. Искреннее желание мое прими, а за видимую холодность (молчание) не сердись. Каюсь перед тобой! Но ведь ты простишь мне, я это знаю. Прощай, милая Варенька…»
В ночные часы, когда, случалось, не спалось, вспоминалась ему Москва, думалось о сиротах – братьях и сестрах. Особенно о Вареньке. Тетенька Александра Федоровна гордилась, верно, тем, что удачно пристроила бедную племянницу. «Блестящая партия…» А Федор до боли, до бешенства жалел сестру, отданную во власть какому-то Карепину, который почему-то представлялся ему огромным мужчиной с бычьей шеей. И рядом – Варенька, беспомощная, юная.

Варвара Михайловна, сестра Достоевского. Акварель Стрелковского. 1840 г.
Но что он мог поделать, как воспротивиться? Сестру, верно, не неволили. Сама заторопилась, только бы не быть приживалкой, не есть чужой хлеб, не услыхать от тетеньки упрека в неблагодарности. Варенька не жаловалась на свою судьбу, но при мысли о ней нестерпимо болело сердце.
Чаще всего он вспоминал сестру девочкой в Даровом. Вот она сидит подле маменьки с куклой в руках. Вот она на крыльце в белом платье пристроилась рядом с няней Аленой Фроловной и что-то вышивает. Вот гуляет с няней по опушке рощи, и ее белое платье то мелькнет, то исчезнет в зеленых зарослях.
Роща в Даровом… В детстве она манила его несказанно. Убегать далеко одному не разрешали, но он все же убегал. Он любил забраться в самую чащобу, туда, где начинаются овраги – крутые, глубокие, поросшие деревьями, верхушки которых приходятся вровень с краем пропасти. Какой странной смесью детской отваги, любопытства и страха наполняли его душу эти прогулки украдкой в таинственном летнем лесу…
И другое воспоминание часто посещало его. Широкий, поросший травою двор Мариинской больницы для бедных в Москве. Рано поутру на ступеньках у входа стоят, сидят, лежат явившиеся с ночи пациенты – хромые старики, сгорбленные старухи, до невозможности худые мужики, увечные мастеровые, бедно одетые люди невесть какого звания, бабы с орущими младенцами, замотанными в тряпье. Докторским детям, конечно, запрещали подходить к ним близко, да он и сам лишь изредка заглядывал в тот конец двора. Детской душе не по силам было зрелище человеческой немощи, уродства и унижения. Он убегал и прятался, он стыдился, точно сам был виноват в несчастьях этих жалких людей…
Теперь судьба опять столкнула его с такими же точно бедняками, как те, что когда-то тянулись на Божедомку. Это были пациенты его соседа доктора Ризенкампфа.
Вот в прихожей раздается прерывающееся, несмелое дребезжание колокольчика, и в дверях появляется очередной посетитель – испитой, в худой одежонке, смущенный и суетливый.
– Что вам угодно?
– Животом, батюшка, маюсь…
– К доктору сюда. Проходите.
Алексей Ризенкампф принимал больных бесплатно: молодому медику нужна была практика. Те, кто платили деньги, шли к врачам посолиднее, с какой ни на есть «репутацией». А беднякам, зачастую не имевшим за душой гроша ломаного на хлеб, не то что на лечение, привередничать не приходилось. И пациенты к Ризенкампфу шли и шли.
Нередко, когда Ризенкампфа не было дома, встретив в прихожей больного, Достоевский вел его к себе, усаживал, расспрашивал, поил чаем. Случалось, день-два спустя больной заглядывал уже не к доктору, а к его соседу – потолковать, закусить, обогреться.
Особенно усердно посещал Достоевского некий молодой человек по фамилии Келер – вертлявый, угодливый, почти оборванный, он рекомендовал себя комиссионером, то есть брался выполнять всевозможные поручения, «комиссии». По склонности или по обстоятельствам молодой человек не брезговал и ролью нахлебника, приживала. Заметив, как охотно Федор Михайлович слушал его рассказы, комиссионер стал являться к нему ежедневно – к завтраку, к обеду, к ужину. И все рассказывал презабавные и престранные анекдоты из жизни петербургских подвалов, чердаков, «доходных квартир» и «доходных углов».
Проводив Келера или кого-либо другого из пациентов Ризенкампфа, Достоевский иной раз присаживался к столу и записывал для памяти услышанное от гостя словцо, фразу, подробность. Постепенно нутро столичных трущоб открылось ему вплоть до самых ничтожных и самых страшных житейских подробностей.
«У нас чижики так и мрут. Мичман уже пятого покупает, – не живут в нашем воздухе, да и только. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай. В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немного, но ничего: поживешь и попривыкнешь. С самого раннего утра… у нас возня начинается, встают, ходят, стучат – это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют…»
Достоевский попытался было заглушить в себе чувство вины перед теми, кто обижен и несчастен. Чтобы избавиться от мучительного беспокойства, он и принялся строго и беспристрастно исследовать существо людской жизни, людских характеров. В своих драмах обратился к временам давно минувшим, а характеры избрал с чертами величия и вместе злодейства. Но нет – роль спокойного, стороннего наблюдателя окружающей жизни никак не давалась ему. Он все чувствовал себя в долгу и перед бедной сестрицей Варенькой, и перед тем убогим чиновником, что вчера ввечеру приходил за советом к Алеше Ризенкампфу…
Как-то – это было в декабре 1843 года – Федор вытащил из ящика письменного стола свои неоконченные драмы. Перечел – в который уж раз! – и с досадою сунул обратно в ящик. Растянуто, холодно, слабо. Надо писать иначе. И писать о другом, совсем о другом!.. Внезапно и с необыкновенной отчетливостью увидел он то, о чем станет теперь писать. Это было как откровение, как нечто сверхъестественное. Через много лет в одной из своих статей он назвал случившееся с ним – «видением на Неве».

Чиновник и дети, просящие милостыню. Картина Ф. Журавлева. Середина XIX в.
«И замерещилась мне тогда другая история, – в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое… а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».
Горячо, торопливо набросал он первые страницы будущего романа. Оскорбленную и грустную девочку, свою героиню, назвал именем сестры – Варенькой. И в память добрых сельских воспоминаний их детства дал ей фамилию Доброселова. И старую няньку Вареньки назвал так же, как звали их няньку, – Фроловной. А богатую родственницу, которая, пользуясь беззащитностью сироты, хочет запродать ее некоему помещику Быкову, окрестил Анной Федоровной, почти как звали московскую тетушку.

Екатерининский институт на Фонтанке, близ Инженерного замка. Литография. 1830-е гг.
Варенька, сбежавшая от «благодетельницы», поселилась в огромном, набитом жильцами доме неподалеку от набережной Фонтанки и Гороховой улицы – это рукой подать от его Владимирской улицы. И здесь же, в том же доме, чтобы только быть поближе к Вареньке, снимает угол полунищий чиновник, немолодой и неказистый, со странным, каким-то наивно-трогательным прозванием – Макар Девушкин. То самое титулярное сердце, честное и чистое. Девушкин влюблен в Вареньку и в своем темном, грязном и зловонном углу чувствует себя счастливым, когда в окошке – через двор, напротив – видит ее головку, прилежно склоненную над шитьем. Варенька безрадостное и безнадежное свое существование скрашивает воспоминаниями о прекрасных днях детства, в котором было и приволье тихой деревенской жизни, и одинокие прогулки украдкой в веселой и таинственной роще.
«…Деревья так приветно шумели, так важно качали раскидистыми верхушками, кустики, обегавшие опушку, были такие хорошенькие, такие веселенькие, что, бывало, невольно позабудешь запрещение, перебежишь лужайку как ветер, задыхаясь от быстрого бега, боязливо оглядываясь кругом, и вмиг очутишься в роще, среди обширного, необъятного глазом моря зелени, среди пышных, густых, тучных, широко разросшихся кустов…»
И рядом с этими светлыми, совсем простенькими и обыкновенными картинками давно прошедшего, какой странной, какой давящей и даже невероятной – точно тяжелый сон – кажется сама ежедневная петербургская явь.
«…Вышел я походить по Фонтанке. Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж смеркается, – вот как теперь! Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. По небу ходили длинными, широкими полосами тучи. Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с лицом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, – вот какова была публика… Судоходный канал Фонтанка! Барок такая бездна, что не понимаешь, где все это могло поместиться. На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы. Скучно по Фонтанке гулять! Мокрый гранит под ногами, по бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами туман, над головой тоже туман. Такой грустный, такой темный был вечер сегодня».
Светлые детские воспоминания, промозглые петербургские дни – все это переплеталось, сталкивалось в его душе, завязывалось тугими узлами сюжета, расцвечивалось найденными на ходу подробностями, все это сгущалось и формировалось, обретая живые черты живых людей… Все это становилось романом.








