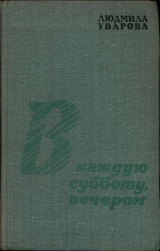
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
– Подумай только, я опять влюблена. И знаешь, как это все случилось? Я была на трудфронте, на лесозаготовках. Это недалеко от Москвы, по Савеловской дороге. И он тоже был там. Он – инженер. На два года моложе меня. То есть, на самом деле, на восемь лет, но он думает, что на два.
– Это ничего, что моложе, – сказала я, потому что надо было что-то сказать. Но она словно бы и не слышала моих слов.
– Конечно, женатый. Мне всегда везет на женатых. А жена никуда не эвакуировалась, наверно, боялась оставить одного. И он ее боится, как водится. Придет ко мне, то и дело на часы смотрит, как бы домой не опоздать. Ну скажи, Катя, легко мне все это?
Ляля обращалась ко мне, словно к равной. А я не знала, что ответить. Впрочем, она сама спрашивала и сама отвечала.
– Каждый раз я его уговариваю – приходи, приходи! Хоть на час, хоть на сорок минут… Правда, ему тоже вырваться трудно, он же на казарменном. Он знаешь где работает? На кондитерской фабрике. Они теперь выпускают витамины для фронта. Хочешь угощу? Он мне иногда приносит.
– Нет, не хочу, – сказала я.
– Как хочешь. Только знаешь, я все понимаю, семья есть семья, но каждый раз вымаливаешь у него этот несчастный час…
Глаза ее потемнели.
– А что мне делать? Ведь мне тоже хотелось бы иметь семью, чем я хуже других?
Я не знала, что сказать. И не знала, что посоветовать, чему научить.
– Очень боюсь старости, – сказала Ляля, вынув новую папиросу. – Старость – это одиночество, а одиночеством я и так сыта по самое горло!
Закурила, задумчиво следя за голубым слоистым дымом.
– Сколько их уже у меня было! И один похож на другого, каждый придет, прошастает по коридору, чтобы его никто не увидел, этого они все, как один, боятся, а после выскочит из подъезда и скорее побежит подальше, а сам оглядывается, вдруг, думает, жена его выследила, что тогда? А я все одна, и в праздник одна, и в будни одна, он с женой в кино, а я с подругой или вовсе ни с кем и только дни считаю, когда он снова заглянет, и так с каждым получается, кого ни возьми…
Украдкой я глянула на часы. Мне уже пора было ехать.
Но Ляля продолжала говорить дальше:
– Я вот что придумала. Я тоже теперь решила иначе действовать. Он придет ко мне, скажет, как всегда, что ему некогда, времени в обрез, а я ему тут же: «Милый мой, я тоже прямо как на иголках, мне до того некогда…»
Должно быть вообразив себе, как это все будет, Ляля засмеялась не без злорадства.
– Пусть тогда раз в жизни и обо мне подумает! Пусть помучается, поревнует, куда это я тороплюсь. Верно?
– Верно, – сказала я и, уже не скрываясь, снова поглядела на часы.
– Тебе что, тоже некогда? – спросила Ляля.
– Да, вроде того…
– Всем некогда, одной мне делать нечего, – сказала она.
– Разве вы не работаете?
– Работаю, конечно, с прошлого года перешла в райисполком, но мне сегодня к одиннадцати.
– А мне сейчас надо ехать по делам.
– Слушай, Катя, что я тебя попрошу…
Она замялась.
– Ты не обидишься?
– Нет, а что?
– Если откажешь, я тоже не обижусь.
– О чем вы говорите?
– Дай мне кусочек сала с собой.
– Господи, да берите, конечно.
Она спросила обрадованно:
– Правда? Можно?
– Конечно, можно. Отрежьте сами.
– А тебе не жаль?
– Нет.
Она отрезала три тоненьких ломтика.
– Это для него. Угощу, когда придет. Он сало любит.
– Возьмите еще заварки.
Я отсыпала ей ложечку заварки.
Ляля широко улыбнулась:
– Я ему сегодня пир устрою!
Прижала к себе сверточек с салом и заваркой.
– Сегодня я ему еще ничего не скажу, а в следующий раз, как придет, сразу же огорошу, так прямо в лицо и выложу: «Прости, милый, мне очень некогда». Что тогда скажет? А?
Глаза ее блестели, словно видела она сейчас не меня, а того, с кем собиралась встретиться. Морщинки возле глаз казались глубже, все ее сорок, тщательно скрываемых, лет как бы разом вылезли наружу.
Как только Ляля ушла, Иван Владимирович снова появился на кухне.
– Ну что? Наслушалась всяких баек?
– Было дело. А вообще, жаль ее, какая-то она неприкаянная…
– У меня от нее морская болезнь.
– И все равно жаль ее, – повторила я. – И Кот, помню, тоже всегда жалел ее.
– Кот всех жалел…
– Я ухожу, – сказала я.
– Возьми, – он протянул мне ключи. – Может, придешь раньше меня.
– А вы когда будете?
– Наверно, к вечеру. У нас сегодня общее собрание ткацкой фабрики. А ты?
– Я тоже буду к вечеру, – сказала я.
* * *
Дом стоял на Вокзальной улице, самый обычный дом: два окна на улицу, два сбоку, палисадник, чахлый забор и снег, снег кругом – в палисаднике, на крыше, на заборе…
Я вошла в калитку. Из будки, которой я вначале не заметила, ко мне бросилась черная пушистая дворняжка. Сперва облаяла, глядя прелестными, выпуклыми, совсем не злыми глазами, потом завиляла хвостом и подошла ближе. Почувствовала, что я люблю собак.
На крыльцо вышла девушка, одетая в стеганку, прикрикнула на собаку:
– Час, а ну перестань, слышишь?
– Что за смешное имя, – сказала я. – Почему Час?
– Это брат так назвал его, он нашел щенка года три назад в лесу в час ночи. Вот потому и Час…
Чем дольше я смотрела на нее, тем лицо ее все больше казалось мне знакомым. И вдруг я поняла, это же, очевидно, сестра Сергея Кукушкина…
– Вы что, к нам? – спросила она.
– Мне нужно к Кукушкиным…
– Идемте. Мы и есть Кукушкины…
Я прошла вслед за ней в сени. На стене висел велосипед с выгнутой, должно быть, не раз чиненной рамой.
«Наверно, велосипед Сергея», – подумала я.
– Сюда идите, – сказала девушка, раскрывая дверь.
Небольшая комната встретила меня отрадным после мороза теплом. Топилась печь, облицованная кафельными плитками, белыми и голубыми. Почему-то мне подумалось, что Сергей сам укладывал плитки.
Возле дверцы, в которой уютно трещали дрова, стояла женщина, уже немолодая, в темной вязаной кофте. Отблеск огня окрасил ее лицо в розовый цвет, или, может быть, лицо ее вспыхнуло при виде меня?
Так вот какая она была, мать Сергея Кукушкина…
Она разглядывала мою шинель, серую бобриковую ушанку, а глаза ее – широко расставленные, схожие по цвету с глазами сына. Я шагнула к ней, а она молча стояла возле печки и только смотрела, не спуская глаз. И сестра тоже смотрела на меня.
Наконец мать спросила:
– Вы кто? Оттуда?
Я кивнула.
Сестра подвинула мне стул.
– Разденьтесь, – сказала она. – Здесь тепло.
Я сняла шинель, и она взяла ее, повесила на крючок возле двери.
– Значит, ты была там вместе с Сережей, – сказала мать.
Села за стол, и я села напротив нее.
– Мы прошлым летом получили письмо…
Глаза матери были совершенно сухие. Сестра стала рядом с матерью, положив руки на ее плечо.
– У нас многие говорят, – сказала сестра. – На фронте бывает всякое, напишут, что погиб, а на самом-то деле…
Я не ответила ей. И мать поняла, что я знаю, как все было.
– Ты мне все расскажи, слышишь? – сказала она.
– Сережа погиб, – сказала я, – утром пятого июля сорок второго года.
Сестра вдруг всхлипнула, но мать строго сказала:
– Замолчи, Ольга!
Глянули на меня.
– Сама видела?
– Да. Он спас меня и погиб. От мины.
– Как же это все случилось?
– Он упал на меня и закрыл собой…
Мать встала, подошла к комоду, выдвинула ящик, вынула письмо в измятом конверте.
Раскрыла конверт, прочитала негромко:
– «Ваш сын погиб смертью героя за свободу и независимость нашей Родины…»
Ольга заплакала. Должно быть, слова, прочитанные матерью, как-то по-новому обожгли ее, или просто ей подумалось: вот перед ними та, из-за которой погиб Сережа…
А мать не заплакала. Бережно сложила письмо, сунула его обратно в ящик комода и снова села за стол.
– Ты дружила с Сережей?
– Да.
Сама не знаю, как вырвалось у меня это «да».
– Может, еще до войны дружила?
– Нет, мы познакомились на фронте.
– Он нам писал, что у них в части есть одна девушка, стало быть, это ты?
Я кивнула.
О какой девушке писал Сережа? Не все ли равно, теперь уже не узнать.
Но я решила держаться до конца. Наверно, думала я, им обеим будет легче жить, сознавая, что Сережа успел полюбить кого-то там, на фронте…
Опустив голову, мать разглядывала узоры клеенки, покрывавшей стол, красные и серые, уже порядком стертые от времени.
Она была, вероятно, немного старше Ляли, но Ляля судорожно боялась старости, а мать, видно, решилась и шагнула в старость без страха. Или, вернее сказать, просто не думала о близкой старости, потому что ей было не до того.
– Расскажи мне еще раз про Сережу…
Я молчала. Мать сказала сурово:
– Ты не думай, мы, Кукушкины, сильные, все выдержим…
Она слушала меня, не проронив ни слова. Потом сказала дочери:
– Поставь-ка чайник. Будем чай пить…
Сколько буду жить, никогда не забуду, как мы сидели втроем и пили чай.
Мать подала мне чашку первой.
– Это его чашка. Никто из нее не пьет, а тебе можно…
Чашка была белая, с розовой каемкой по краям.
– Ты сидишь на его месте, – сказала мать. – Он всегда здесь сидел…
Ольга сказала:
– Мама каждый день ставит на стол его чашку…
Имела ли я право сидеть на его месте и пить чай из чашки, из которой пил он?
– Подожди, я тебе сейчас покажу его тетради, – сказала мать.
Тетради были обычные, школьные, в косую линейку.
– Вот его сочинение, помню, его тогда в роно на выставку отправили…
Сочинение он написал в седьмом классе.
«Самый счастливый день в моей жизни».
– Прочитай вслух, – приказала мне мать, и я стала читать. У него был разборчивый почерк, только иногда буквы в конце страницы сползали вниз.
«Самый счастливый день в моей жизни был в пионерском лагере, когда я научился ездить на мотоцикле. Наш пионервожатый Костя Воробьев научил меня, и я сел на его мотоцикл и вдруг сразу понял, что машина послушна мне. Тогда я дал газ и поехал к лесу. Я еще никогда раньше не был таким счастливым, как тогда…»
Я читала, а они обе, мать и Ольга, слушали меня и одинаково шевелили губами, как бы повторяя за мной слова, очевидно наизусть выученные ими.
– Он хотел накопить деньги, – сказала Ольга, когда я кончила читать. – Он, когда поступил на работу, все говорил: «Вот накоплю денег и куплю мотоцикл…»
– Только ничего у него не получилось, – сказала мать. – Он ведь был у нас главный, все на нем, отец умер, ему и пяти лет не было…
– А это его велосипед висит в сенях?
– Его. Сам собрал из какого-то старья.
– Он был на все руки… – сказала Ольга. – Сам крышу чинил, сам колодец чистил. Все умел…
Мать снова встала, подошла к комоду. Вынула из ящика альбом, старинный, покрытый потускневшим малиновым плюшем.
– Смотри, это он совсем еще маленький…
– Видишь, как был курносым, так и остался, – сказала Ольга.
– Весь в отца пошел, – сказала мать. – А здесь он уже когда в школе стал учиться, в первом классе.
– В той самой школе, – вставила Ольга, – где мама работала техничкой.
– Да, тридцать лет проработала, а теперь в госпитале, в Мытищах, санитаркой.
– Рабочую карточку дают, – сказала Ольга.
– Он тебе рассказывал, как ногу сломал? – спросила мать.
– Кажется, нет.
– Это он крышу красил, да не удержался… Целых два месяца на костылях ходил…
– А знаешь, его однажды с урока географии выгнали, – сказала Ольга. – Он тогда в шестом классе учился, вышел к доске, учительница говорит: «Покажи мне на карте Индийский океан», а он ищет, ищет, никак отыскать не может. Потом говорит ей: «Такого океана нет, есть Великий или Тихий, есть Атлантический и Северный Ледовитый, а Индийского нет». А она у нас очень нервная была, спрашивает его: «Так что же, я сама выдумала Индийский океан?» Сережа вдруг как ляпнет: «Может, и правда сами выдумали…»
– Он очень обиделся на учительницу за то, что выгнала его из класса, – сказала мать. – Даже в школу не хотел идти, едва уговорила его…
– А помнишь, мама, как ты его крапивой огрела?
– Как не помнить. Он тогда купаться ушел с ребятами, все вернулись, а его нет как нет. Я просто с ума чуть не сошла, бегаю по поселку, ищу его… Гляжу, в десять вечера является. «Я, говорит, в Москву ездил, на метро катался…» Ну, тут я его как вытяну крапивой.
Мать отпила глоток остывшего чая из своей чашки.
– А теперь вот вспомнишь…
– А он смеялся, – сказала Ольга. – Ты за ним с крапивой бегаешь, а он смеется…
– Он у нас веселый был, – вспоминала мать. – И заботливый. Первую получку принес мне, вот сюда на стол положил, говорит: «Давай, мама, купи себе все, что хочешь», а денег-то всего ничего, и не знаешь, какую дыру прежде заткнуть…
– Он всю получку маме сполна отдавал, – сказала Ольга.
– Смотри, – мать показала мне карточку. – Это он снялся, когда работать пошел…
Он был на всех фотографиях одинаковый, такой, каким я запомнила его, – светловолосый, с широко расставленными глазами.
– Он любил сниматься, – рассказывала Ольга. – Бывало, говорит: «Вот стану совсем старый, увижу на фото, каким был в молодости, сам себе позавидую…»
– Ты любила его? – помолчав, спросила мать.
– Любила.
– И он тебя тоже?
– Конечно.
– Сережа не умел кривить душой, – сказала Ольга. – Если любил, так любил, это уж точно…
Они вспоминали о Сереже, перебивая друг друга, должно быть находя в воспоминаниях горькую отраду.
И жизнь этого человека, которая до того была совсем мне неизвестна, вдруг раскрылась передо мной.
Я видела его школьником, который не мог отыскать на карте Индийский океан и написал сочинение о самом счастливом дне своей жизни. Видела на мотоцикле, когда он впервые ощутил машину послушной его рукам и поехал в лес, и ветер гудел в ушах, и руки его крепко держали руль.
Видела, как он собирает велосипед, как взбирается на крышу, чтобы покрасить ее, и ходит потом на костылях, и, наверно, боится, что на всю жизнь останется хромым. И приносит матери получку, чтобы она купила себе все, что хочет…
Мне уже не было совестно оттого, что я назвалась его любимой, потому что я и в самом деле полюбила его…
Был уже вечер, когда я собралась домой.
– Я провожу тебя, – предложила Ольга.
– И я с вами, – сказала мать. – Мне все равно скоро уже на ночное дежурство, в госпиталь…
Мы вышли гуськом на дорогу, ведущую к станции. Час бежал впереди, поминутно оглядываясь на нас.
Времени было еще достаточно, до поезда целых двенадцать минут.
– Значит, завтра обратно на фронт? – спросила мать.
– Да. В пятнадцать ноль-ноль надо быть на вокзале…
Мать остановилась, и я остановилась тоже.
– Господь с тобой, – мать широко перекрестила меня. – Смотри, пиши нам…
– Конечно, буду писать.
– Адрес запомнила?
– Еще бы!
Вдали послышался шум поезда.
– Счастливо тебе, Катя, – сказала Ольга.
А потом мать положила мне руки на плечи. В темноте слабо белело ее лицо. И глаза казались очень большими.
– Будь здорова, дочка, – сказала мать и прижала меня к себе.
Я не хотела плакать, я держалась весь день, как могла, потому что мать тоже не плакала, а тут слезы против воли покатились по моим щекам, и я целовала ее лицо, руки, волосы, и опять плакала, и говорила какие-то слова, теперь уже и не помню какие…
Она молчала, не отрывая от меня глаз.
И вдруг сказала:
– Если бы у тебя ребеночек от Сережи остался…
Тяжело дыша, поезд подошел к платформе и остановился, замер на минуту.
В последний раз я обняла мать, потом вскочила в вагон. И поезд тут же тронулся.
Тетя Чайпить
В моей жизни случались люди, которые, казалось бы, прошли мимолетно, но я их запомнила и порой представляю себе так ясно, словно только вчера рассталась, и мысленно говорю с ними, и думаю о них…
Где теперь тот загорелый черноглазый мальчик, что поднес мне однажды чемодан от вокзала до гостиницы в Конотопе?
Уже вечер спустился над городом, не было ни машин, ни трамваев, и я стояла на привокзальной площади, не зная, куда идти, в какую сторону. И тут подошел он, спросил:
– Тетенька, вы приезжая?
– Приезжая, – ответила я.
– Вам в гостиницу, поди, нужно? – продолжал он. – Идемте, я провожу вас…
– А ты знаешь дорогу? – спросила я.
Он взял мой чемодан, улыбнулся через плечо:
– Как же, конечно!
До сих пор помнится его крепкая загорелая рука, державшая ручку чемодана, и смуглое лицо, и короткие, ежиком стриженные темно-русые волосы.
Мы дошли тогда до гостиницы, и я вынула рубль, хотела заплатить ему, но он заложил руки за спину, не глядя на меня, пробормотал:
– Зачем? Я же так, мне нетрудно…
И побежал. А я все стояла, смотрела ему вслед, и было так совестно за этот свой рубль…
Живет ли на свете толстая, добродушная хозяйка маленького домика на Цимле?
Помню, она удивила меня, сказав:
– Я счастливая, дальше некуда!
Был дождь, осенняя непогодь, когда я ввалилась к ней в дом, попросила приютить на ночь, и она, не говоря ни слова, вздула самовар, накрыла на стол, а я все медлила сесть за стол, потому что до того отрадно было сидеть возле теплой печки, когда за окнами бушует гроза, ветер завывает в трубе и немилосердно раскачивает хлипкие ставни…
Мы проговорили с нею до поздней ночи.
Она была одна-одинешенька на всем свете, все близкие перемерли, и жилось ей, должно быть, не так уж весело, но какая же у нее была открытая, распахнутая навстречу людям душа, как искренне умела она радоваться чужой, пусть даже и далекой для нее радости…
Я спросила, не скучно ли ей жить одной, не бывает ли тоскливо, особенно вечерами.
Вот тогда она мне и ответила:
– А когда скучать? Я ведь счастливая, дальше некуда!
– Чем же вы такая счастливая? – подивилась я.
– А всем. Потому как для людей живу, а они в свой черед для меня…
И я поверила ей. Поверила потому, что человек, непритворно любящий людей, не может быть одиноким.
И не забыть мне кассиршу Ленинградского вокзала, касса, кажется, третья, последняя слева.
Как сейчас вижу – узкое бледное лицо, рыжеватые волосы, веснушки на щеках.
Я выстояла тогда долгую очередь, чтобы сдать билет.
Я сказала:
– У меня беда, тяжело заболел муж…
Она взяла мой билет, как и положено, выдала обратно деньги и потом, когда я уже собралась отойти от окошка, бросила мне негромко:
– Может, все еще обойдется…
И мне внезапно стало в этот миг легче, словно оперлась я на чью-то крепкую дружескую руку, и чувство единого человеческого братства охватило меня.
Я хотела ответить ей, сказать какие-то теплые слова, просто сказать «спасибо», но кругом все спешили, всем было некогда, и едва я получила деньги, как меня тут же оттерли от окошка, я успела лишь бегло взглянуть на кассиршу и унести с собой ее сочувственный взгляд, бледное, в осыпи веснушек лицо, негромкий, с хрипотцой голос…
Поняла ли она тогда то, что я хотела сказать ей, но так и не сказала? Хочу верить, что поняла…
Наверное, у каждого в жизни случился человек, который умел безыскусно поделиться всем тем добрым, чем владел сам. Для меня таким человеком была Ольга Ефремовна Усольцева, тетя Леля, или, как я называю ее всю жизнь, «тетя Чайпить».
Я приехала из Ленинграда в Москву в сорок третьем. Было мне от роду девять лет, и поместили меня в детский дом номер пятьдесят четыре, в котором вместе со мною обитали многие ленинградские дети, вывезенные «дорогой жизни» в столицу из блокадного города.
Ни одной ночи не могла я заснуть. Только закрою глаза, бывало, как вижу огонь, пылавший в окнах нашего дома на Васильевском острове, вижу маму, упавшую на снег, всю охваченную огнем. Я знала, уже никогда больше не придется увидеть ее, и я все равно звала маму, и плакала, и просила отправить меня обратно, домой…
Однажды к нам в детский дом пришла маленького роста круглолицая женщина.
– Я с завода «Красный пролетарий», – сказала она. – Рабочие просят, чтобы ребятам разрешили приходить к ним домой раз в неделю.
Наш директор Алевтина Ивановна, строгая и придирчивая, долго, дотошно расспрашивала ее, что за люди эти рабочие, какие условия могут предоставить детям, где кто живет…
Тетя Леля (это была она) подробно рассказала, что рабочие сами решили между собой приглашать в гости детдомовских ребят, живут рабочие большей частью в Замоскворечье, а условия такие, какие у всех в войну.
В тот раз я зачем-то зашла в кабинет Алевтины Ивановны, и тетя Леля, обернувшись ко мне, просияла улыбкой:
– Вот хотя бы эта девочка, пусть приходит ко мне!
– А вы ее сами спросите, захочет ли, – ответила наша Алевтина Ивановна.
И я сказала сразу:
– Хочу…
– Тогда давай знакомиться, – сказала она и протянула мне руку. – Меня зовут Ольга Ефремовна, попросту тетя Леля, а тебя как?
– Надя, – ответила я, пожимая ее пухленькую, теплую ладонь.
– Одну минуточку, – произнесла неугомонная Алевтина Ивановна. – Я хотела бы знать, кем вы работаете на заводе?
– На заводе никем. Я надомница, а на заводе у меня муж работает, токарь-карусельщик, а я дома сижу, ну, считается, вроде дали мне общественное поручение.
Говорила она это все с улыбкой, удивительно шедшей к ее мягкому, в ямочках лицу, и я невольно потянулась к ней и, не выпуская ее руки из своей, сказала:
– Можно, я приду прямо завтра?
– Договорились, – ответила она.
Жила тетя Леля вместе со своим мужем Василием Кузьмичом в ту пору на Пятницкой, в деревянном доме с палисадником.
Дом выглядел неказистым, совсем провинциальным, и комнаты в нем были маленькие, жарко натопленные, в самой просторной комнате – изразцовая печь, от нее тепло во все стороны, на окнах герань, китайская роза и зеленое, разлапистое, с красными, быстро вянущими цветами растение, которое, как я после узнала, зовется в народе ванька мокрый.
Василий Кузьмич – я его вскоре же стала называть дядей Васей – был бригадиром.
Приходил он с работы поздно, иной раз и вовсе оставался на заводе, и тетя Леля говорила:
– У них нынче опять фронтовая вахта…
Она была быстрая, живая, веселая, в первый же день, когда я пришла к ней, рассказала, что единственный сын Володя весной ушел на фронт, письма от него приходят нечасто, потому как и писать ему, наверное, некогда и вообще он не очень любит писать письма.
Показала она мне Володины карточки, на всех на них он улыбался широкой материнской улыбкой, и вообще был он похож на нее круглым лицом, небольшими ясными глазами, ямочкой на подбородке…
Должно быть, тетя Леля сильно тосковала, боялась за сына, но старалась не показывать вида, что тоскует, чтобы не огорчать дядю Васю.
И он тоже держался стойко, часто говорил:
– Наш Володька молодец, никогда и нигде не пропадет!
Спустя много лет, когда я стала взрослой, тетя Леля призналась мне, что поначалу боялась дяди Васи, он был много старше ее, и на первых порах она все никак не могла привыкнуть к нему.
И только после рождения сына она привязалась к дяде Васе и уже не мыслила себе жизни без него и привыкла поступать так, как он скажет.
До сих пор помнится, как прихожу к ней воскресным утром, она встречает меня на пороге, и все ямочки на щеках непритворно радуются мне.
– Вот и хорошо, – скажет, – сейчас будем чай пить…
И так это у нее вкусно получалось «чай пить», словно невесть что, самое отрадное сулили эти два слова, которые в конце концов стали казаться мне одним слитным «чайпить».
Я прозвала ее «тетя Чайпить». Она была великой чаевницей: кто бы ни зашел, что бы ни случилось, первым делом предлагала чай пить, ставила самовар, никогда не уставая по многу раз в день расставлять на столе посуду.
И казалось порой, я не просто пью чай из фаянсовой голубой с белой каемкой чашки, а словно бы с каждым глотком вбираю в себя доброту, внезапно нахлынувшую на меня, одинокую, разом потерявшую родной дом и маму.
Нет, не могу сказать, что в детском доме мне было плохо, неуютно.
К нам ко всем относились одинаково, на постели стлали чистое белье, покупали билеты на новые кинофильмы и старались кормить досыта, но только здесь, у тети Лели, я обрела настоящий уют, заботу, тепло.
Поэтому я считала дни, когда снова отправлюсь к ней, и все время жила этим ожиданием – опять увидеть тетю Лелю и дядю Васю…
Приходя домой с работы, дядя Вася первым делом садился за стол и долго пил чай, стакан за стаканом, чуть не весь самовар осушал, а потом, распаренный, благодушный, начинал расспрашивать меня о моем житье-бытье и давал различные, как он полагал, необходимые мне советы.
Он любил давать советы. Казалось, он знал все, о чем его ни спроси, и советовал каждый раз по-своему, так, как ему казалось лучше, я слушала его рассеянно, потому что обычно думала о чем-нибудь другом.
А он, может быть и понимая, что я думаю о другом, все равно продолжал советовать: как решать задачи по геометрии, где лучше кататься на лыжах, что ответить учителю по географии, который явно придирается ко мне…
Одного его совета я все-таки послушалась.
Это было тогда, когда я окончила семь классов, и он сказал:
– Вот что я тебе посоветую, давай приходи к нам на завод.
Сам привел меня в инструментальный цех, сам отрекомендовал мастеру, видать, давнему приятелю:
– Гляди, друг, вот эта самая девчушка у нас со старухой вроде за дочку…
Я стала учеником токаря, а жить устроилась в общежитии завода, но по выходным дням аккуратно навещала своих стариков. Они в самом деле стали для меня самыми что ни на есть родными.
Поначалу они звали меня к себе.
– Я бы тебе посоветовал поселиться у нас, – говорил дядя Вася. – Мы тебя пропишем, все чин чинарем проведем, будет у тебя, стало быть, своя площадь, а как помрем со старухой, останешься хозяйкой в доме, владычь да царствуй…
Но я не согласилась царствовать. Слов нет, жить в семье было бы куда лучше, чем в общежитии, однако, хорошенько обо всем подумав, я наотрез отказалась. Было боязно, вдруг старики и вправду подумают, что я жду, пока они умрут, чтобы завладеть их площадью, и потом, я знала, все эти годы они неустанно продолжали ждать сына.
Он так и не вернулся с фронта. На все запросы дяди Васи ответ был один: «Пропал без вести».
И они утешали друг друга:
– «Пропал без вести» намного лучше, чем если бы написали: «погиб». Как ни говори – есть надежда, – утверждал дядя Вася.
И тетя Леля соглашалась с ним:
– Конечно, какое сравнение…
И приводила в пример множество случаев, известных ей, когда солдаты, считавшиеся пропавшими без вести, в конце концов возвращались домой. И он тоже вспоминал подобные случаи, и они все уговаривали один другого, а по ночам неотступно думали о сыне, притворяясь, что крепко спят…
Мне исполнилось девятнадцать лет, на заводе я считалась неплохим токарем-инструментальщиком.
Дядя Вася был скуповат на похвалы, боялся избаловать меня, а тетя Леля открыто гордилась мной, особенно тогда, когда я поступила на заочное отделение станкостроительного института, и подробно рассказывала соседкам о том, как много заданий дают в институте и как это трудно в наше время учиться и работать, она бы на моем месте нипочем бы не справилась.
Жизнь моя в общем-то текла размеренно, все было рассчитано: окончу институт, стану работать на заводе сменным инженером, когда-нибудь, может, и комнату дадут в заводском доме, который строился в том же районе, неподалеку от «Красного пролетария», но, как оно часто бывает, вмешался случай, разом изменивший все мои планы.
Случай звали Артемом, мы вместе работали на заводе, он собирался ехать на целину в Кустанай, и я, поменяв свою фамилию на его, решилась ехать вместе с ним.
Морозным февральским утром дядя Вася с тетей Лелей провожали нас.
Они стояли рядышком возле вагона, улыбались мне, дядя Вася не уставал давать всевозможные советы по устройству семейного быта, и я слушала его, но сердце мое сжималось от боли.
Почему так получается, что, вырастая, мы неизбежно стремимся покинуть самых своих близких? Выходит, что в ответ на любовь мы отвечаем неблагодарностью? И забываем в конце концов о тех, кого нельзя забывать? А потом, впоследствии, спустя годы, и нам самим предстоит неотвратимый этот удел расставаться с теми, кого мы любили…
Мысли мои прервал Артем. Он сказал:
– Пять минут осталось…
Я вскочила на подножку и, обернувшись, все смотрела назад, туда, где остались мои старики, и они смотрели на меня, улыбаясь чересчур радостно и безмятежно, совсем как я.
Спустя три с половиной года я приехала в отпуск в Москву.
Много воды утекло с тех пор: дяди Васи уже не было в живых, и домик на Пятницкой сломали, а тетя Леля переехала в заводской дом, в однокомнатную квартиру.
Прямо с вокзала я отправилась к ней.
Поначалу мне показалось, моя тетя Чайпить нисколько не изменилась, те же пухлые, в ямочках, щеки, та же сияющая улыбка, и, только вглядевшись, увидела: волосы ее стали совершенно седые, и кожа на лице сморщилась, и глаза потускнели.
Мы сидели с ней в крохотной кухоньке, облицованной белым кафелем, знакомые голубые чашки стояли на столе, электрический самовар, мой подарок, заменивший тот, старый, исходил паром.
Я сказала:
– А вы вроде все та же, тетя Чайпить, все та же, прежняя…
– Нет, – ответила она. – Ты меня, пожалуйста, не утешай, и сама знаю, здорово постарела.
Потом оглядела меня:
– А вот ты выросла! Я на тебя теперь гляжу снизу вверх.
– Как на начальство, – ответила я.
Она засмеялась:
– Ну, нет, я на свое начальство отродясь так не смотрела, потому как начальство у меня было одно – дядя Вася.
– А вы ведь и вправду были с ним одного роста.
– Я чуток повыше, на самый чуток…
Она рассказала о том, как он умер. Смерть его была легкой, в одночасье. Пришел с завода, присел за стол, видно, хотел сказать что-то, внезапно опустил голову, захрипел. И все.
Говорила она обо всем этом просто, с тем философски осмысленным и мудрым спокойствием старых русских людей, которые в предчувствии недалекого своего конца относятся к смерти как к неизбежности, равно ожидающей каждого живущего на земле.
А мне все думалось, вот сейчас откроется дверь, войдет дядя Вася, сперва будет долго, со вкусом плескаться под краном, смывая с себя заводскую копоть, а потом сядет за стол, обеими ладонями охватит горячий стакан с крепким, заваренным так, как он любит, чаем, скажет мне:
– Вот что я бы хотел тебе посоветовать…
Я посмотрела на тетю Лелю. Глаза ее были устремлены на дверь, тоненькая морщинка вспухла на лбу. Может, и ей подумалось в этот миг то же самое, что и мне…
Вечером мы отправились с нею в театр. Я добыла билеты, разумеется, в Художественный театр на спектакль «Анна Каренина». Очень хотелось, чтобы моя тетя Чайпить посмотрела именно этот спектакль.
Мы вышли из дому часа за полтора до начала: тетя Леля очень боялась опоздать.
Несмотря на ранний час, к нам уже на улице Горького то и дело подходили жаждущие, одинаково вопрошая:
– Нет ли лишнего билета?
– Все, как было и до моего отъезда, – сказала я. – И тогда тоже возле театров вечно спрашивали билетик…
– Это у нас в Москве так заведено, – с гордостью ответила тетя Леля.
Нарядные девушки – я машинально отметила, что мода, во всяком случае, изменилась, – вышагивали вокруг театра, держа под мышкой завернутые в газету или в целлофановый мешок туфли.
Одна женщина, крохотная, ростом с семилетнюю девочку, одетая в малюсенькое пальто, подбегала к каждому и спрашивала одно и то же:
– Нет ли билета? Все равно какого, хоть на балкон или на галерку?








