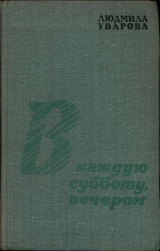
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
Тогда был тоже жаркий день, августовское солнце палило нещадно.
Ярослав пришел к Тусе, сказал твердо:
– Вот что, Рыжик, война войной, а жизнь идет своим чередом.
Туся зевнула. Она пришла с ночного дежурства и хотела спать.
– Давай распишемся, – сказал Ярослав.
– А ты не уйдешь на фронт? – спросила Туся.
– У меня зрение плохое, и пока меня не возьмут, – сказал Ярослав. – А что будет дальше – поглядим.
Туся снова зевнула, прикрыла рот ладошкой.
– Спать, умираю, – сказала она, улыбаясь. – Ночная смена самая тяжелая.
Он взял ее на руки, перенес на диван.
– Спи, Рыжик, пока я не приду, а потом пойдем погуляем…
Туся закрыла глаза и словно провалилась куда-то. Он постоял над ней, глядя на ее бледное, усталое лицо, на тени под глазами.
Вышел в переднюю, снял с вешалки старый шерстяной платок, накрыл Тусины ноги.
Спустя три часа пришел снова. Туся, свежая, умытая, как и не спала вовсе, встретила его на пороге.
– А я уже давно проснулась, все жду тебя…
Он молча привлек ее к себе. Надо же было так – случайно зимой познакомились в кино, потом он проводил ее до дома.
Ему приходилось встречать девушек интереснее, веселее, умнее Туси, но ни одна из них не запала ему в сердце.
Он и отцу писал на Дальний Восток:
«Я на всю жизнь приговорен к ней».
Он говорил Тусе:
– Ты навечно прописана в моем сердце.
Туся смеялась.
– Значит, я имею право на половину.
– На все, – серьезно отвечал он. – На все полностью.
Небо за окном внезапно потемнело, заметались в разные стороны раздираемые ветром деревья.
– Будет дождь, – сказала Туся. – Гулять – отменяется.
Ярослав охотно согласился:
– Посидим дома вдвоем.
Вынул из кармана небольшой сверток в розовой глянцевитой бумаге.
– Отец прислал тебе с оказией. Можешь считать свадебным подарком.
Туся проворно развернула бумагу; не сдержавшись, ахнула. Тончайшего шелка кимоно скользнуло на пол. Блеснули при свете лампы серебристые птицы, расшитые золотом диковинные цветы.
Ярослав поднял кимоно с пола.
– Примерь-ка…
Кимоно было широким, рукава словно крылья. Туся сразу же утонула в них. Рванулась к зеркалу, замерла от удивления.
– Красавица, – сказал Ярослав, любуясь Тусей. – Ты ведь просто-напросто красавица!
Щелкнул замок входной двери.
– Мама пришла, – сказала Туся.
Мама остановилась посреди комнаты, сощурила глаза, вглядываясь.
– Что это?
– Это мой отец прислал, – ответил Ярослав. – Один генерал прилетел оттуда, и отец прислал Тусе в подарок.
Мама подошла ближе, пощупала тонкую ткань.
– Настоящий шелк, – веско произнес Ярослав.
Мама сдержанно согласилась:
– Да, конечно…
Туся очень огорчалась, она чувствовала, мама недолюбливает Ярослава. Не один раз она допытывалась у мамы, почему Ярослав не нравится ей.
– Не знаю, – отвечала мама. – Это необъяснимо.
Туся приподняла свои крылатые рукава, поправила растрепавшиеся волосы и решилась сказать все сразу:
– Мама, мы завтра идем с Ярославом в загс…
– Куда? – невнимательно спросила мама и вдруг поняла. Посмотрела на Тусю, странно изменившуюся, непохожую на себя в этом блистательном наряде, и глаза ее стали такими скорбными, что Тусино сердце разрывалось на части.
Туся сбросила кимоно и снова превратилась в саму себя.
– Мамочка, будем чай пить? Да?
– Я не буду, – ответила мама. – Пейте без меня. Мне надо на работу.
– А что такое?
Смущенная улыбка скривила мамины губы.
– Я, кажется, забыла спустить штору на окно в кабинете директора. Вдруг дежурный не заметит и свет зажжет…
Туся хотела рассердиться на маму, но вместо этого рассмеялась.
– Ты все никак не можешь привыкнуть к светомаскировке!
– А пора бы, – заметил, улыбнувшись, Ярослав.
Мама не ответила на его улыбку. Она казалась такой жалкой, растерянной.
– Я все понимаю, – сказала она. – Давно уже… Я даже пасьянс раскладывала, будет ли Туся счастлива…
– Ну? – весело, чересчур весело, спросил Ярослав. – Как, вышел?
– Со второго раза, – грустно ответила мама.
Протянула руку Ярославу, прощаясь, и он задержал ее ладонь в своей.
– Я ничего другого не хочу, – начала мама. – Ничего другого. Пусть все хорошо…
Она не докончила, повернулась, выбежала из комнаты.
Ярослав закурил, отгоняя рукой табачный дым от Туси.
– Мы будем счастливы, – сказал просто, уверенно. – Вот подожди, война кончится, и мы с тобой заживем…
– Слушай, – сказала Туся. – Чайник-то, наверное, уже весь выкипел…
Она принесла чайник, расставила на столе чашки, положила по два кусочка сахара на блюдечко и оладьи.
– Все. Больше у нас ничего вкусного нет.
Ярослав беспечно махнул рукой:
– У нас будет все самое вкусное. Отец посылки присылает, и нянька моя знаешь какая искусница…
– Нянька тебя вырастила? – спросила Туся.
– Да, она у нас очень давно. Еще с тех пор, как отец первый орден получил…
– Твоего отца не возьмут на фронт? – спросила Туся.
– Пока не думаю. Он же на Дальнем Востоке, там тоже нужна армия.
Ярослав задумчиво помешал ложечкой в чашке.
– Скажи, а что, твой отец бросил маму или она сама с ним разошлась?
– Он не бросил, – горячо возразила Туся. – И мама с ним никогда бы не разошлась.
Посмотрела на Ярослава, наморщив лоб. Она никому не говорила об этом. Только Асмик и Сережке. И еще Сережкиному отцу. А больше никому. Но Ярослав должен знать. В сущности, завтра они уже будут мужем и женой. А разве между мужем и женой бывают какие-то тайны и недомолвки?
– Папу арестовали, – сказала она.
– За что? – спросил Ярослав.
Туся пожала плечами.
– За спекуляцию? Или еще за что-нибудь?
Туся молчала.
– За что? – повторил Ярослав.
– Я не знаю.
– А, – протянул Ярослав.
Он вынул новую папиросу, зажег спичку, но так и не прикурил.
– Так вот в чем дело…
– Папа был строитель. У него были молодые проектировщики, он им доверился, он вообще был такой доверчивый… А потом дом рухнул, жертв много…
– Однако, – заметил Ярослав.
– Да, – сказала Туся. – Всех судили, и папу тоже…
– С поражением в правах?
– Не знаю.
– Ничего-то ты не знаешь. И конфискация была?
– Не помню…
Ярослав отодвинул стул, встал из-за стола.
– Ты чай не допил, – сказала Туся. – Остыл, наверно, – налить свежий?
– Нет, не надо.
Туся сказала, машинально помешивая ложечкой в чашке:
– Может быть, мне надо было тебе сразу рассказать обо всем?
– Какая разница, – ответил Ярослав, – раньше или позже? Что это меняет?
– Но ты расстроен, мне кажется.
Ярослав улыбнулся. Тусе подумалось, что улыбаются только его губы, а глаза – неподвижны.
– Что ты, – сказал он. – Чем это я расстроен? – Сосредоточенно побарабанил пальцами по столу. – Мне пора.
– Еще рано, – заметила Туся.
– У меня же нет ночного пропуска, Туся.
Обычно он звал ее «Рыжик», очень редко по имени. И ее имя «Туся» прозвучало необычно и странно, словно он забыл и теперь с трудом припомнил.
Она взглянула на него, но он смотрел в сторону. И потом, вспоминая об этой, последней их встрече, Туся не могла простить себе свой взгляд, молящий и, как ей казалось, униженный.
– Надо идти, – сказал Ярослав. – А то опять, как вчера, будет воздушная тревога…
Каждый раз, когда они расставались, Туся говорила:
– Значит, до…
И Ярослав продолжал:
– Завтра…
И теперь она тоже сказала:
– Значит, до…
– Ну конечно, – торопливо сказал Ярослав, быстро глотая слова, словно боялся, что она перебьет его. – Завтра, как мы и договорились. Ты будешь готова, конечно?
Туся кивнула.
– Вот и хорошо, просто чудесно, – он говорил все так же быстро. – Я зайду за тобой, и все будет отлично. Понимаешь? А пока дыши носом и ложись спать…
– Слушаюсь, – ответила Туся.
Он посмотрел на нее. Может быть, хотел еще что-то сказать, но не сказал ничего. Повернулся, закрыл дверь.
В конце коридора затихли его шаги.
6
Они сидели в кафе за нарядным, голубого цвета, столиком. В высоких стеклянных вазочках таяли шарики пломбира, в бокалах искрилась малиновая газировка, лопались пузырьки.
Было жарко. Шумел под потолком разъяренный вентилятор. В зеркале у входа отражалось распаренное, скучающее лицо швейцара.
– Как живешь? Рассказывай, – сказал Ярослав.
– Долго рассказывать. Основное тебе известно. Работаю в газете.
– Стало быть, пошла по литературной части.
– Газета – это еще не литература.
Ярослав улыбнулся.
– Говорят, многие признанные писатели начинали свой путь с газеты.
– Может, и так, – согласилась Туся.
– Часто приходится дежурить в приемной?
– Раз в две недели.
– Надо же было нам встретиться именно в твое дежурство!
В его голосе звучало не то удивление, не то скрытое недовольство.
– Кстати, – сказала Туся. – Расскажи, почему ты пришел к нам?
– А стоит ли? – Ярослав лениво махнул рукой. – Дело-то в общем нестоящее…
– Все-таки?
– Понимаешь, возле нашего дома, как раз напротив, Моссовет собирается строить дом, и получается, что окна нашего дома будут затемнены этим новым строительством. Тогда мы, жильцы, собрались и решили просить помощи вашей уважаемой газеты…
Он говорил с улыбкой, как бы слегка посмеиваясь над жильцами, пославшими его, над самой сущностью этой просьбы.
– Так, значит, – серьезно сказала Туся, – вы хотите, чтобы на этом месте дом не строили?
– Разумеется. Разве мало в Москве места?
– Хорошо, – сказала Туся. – Напиши мне, а я передам твое заявление в отдел строительства, они этим делом займутся.
– Уже написано.
Ярослав положил на столик перед Тусей лист бумаги. Разгладил его ладонями.
– Тут все изложено, и подписи моих соседей. Я живу в хорошем доме, и жильцы там все, как говорится, с положением.
– Понятно.
Туся взяла заявление Ярослава, положила в свою сумочку, потом отпила воды из бокала.
Откинувшись на стуле, Ярослав придирчиво разглядывал ее.
– А ты все такая же красивая.
– Я уже старая.
– Нет, ты красивая, ты почти совсем не изменилась.
Туся поняла, о чем он хочет спросить. Поняла и решила помочь ему.
– Семьи у меня нет. Я не замужем.
Он кивнул. Взгляд его стал цепким, напряженным. Может быть, он ждал, что она спросит, женат ли он?
А она не спросила. Не хотела спрашивать.
Им принесли свежую воду. Теперь уже изумрудно-зеленого цвета. Пожилая, густо накрашенная официантка играла припухшими глазами.
– С такой интересной дамой сидите и пьете газированную воду.
Ярослав комически приподнял брови.
– Я прошу, настаиваю выпить хотя бы шампанского, а дама ни в какую!
Официантка перевела взгляд на Тусю. Немолодые глаза ее казались утомленными. Черточка черного карандаша прошла по веку и дальше по виску. Так мажутся девчонки. У них молодые гладкие виски, а у нее сеть морщинок на желтоватой запудренной коже. И руки рабочие. Коротко обрезанные ногти сверкают кроваво-красным лаком.
Туся смотрела на нее и думала о том, что ей, должно быть, трудно живется. Трудно и невесело.
Официантка отошла.
Ярослав отхлебнул зеленой воды.
– Попробуй, ледяная…
Туся выпила. Она пила воду через соломинку, и ела растаявший пломбир, и курила сигареты одну за другой.
Ярослав сказал:
– Все эти годы я думал о тебе. Не было дня, чтобы я о тебе не вспомнил.
Туся молчала.
– Мне стыдно перед тобой. Я не могу простить себе, до сих пор не могу…
– Перестань, – оборвала его Туся. – Дела давно минувших дней…
Но его не мог обмануть ее нарочито небрежный тон и деланно светская улыбка.
– Нет, послушай меня. Ведь главное – это когда себе не можешь простить. Сам себе. Любой простит, но если сам себе не прощаешь?
Туся все молчала, и он продолжал:
– Одно пойми, я не мог тогда поступить иначе. Я думал об отце, он был на такой работе, ты же знаешь…
Туся залпом выпила весь бокал, забыв о соломинке. До чего холодная вода, даже зубы заломило. На самом дне звенят льдинки.
– Хочешь еще воды? – спросил Ярослав.
– Закажи водки, – ответила Туся. – Двести граммов, не больше.
Он удивился: в такую жару – и вдруг водка, но ничего не сказал Тусе и подозвал официантку.
Тоскующее лицо официантки вдруг оживилось. Она вскинула на Тусю ресницы, на нижних веках тушь смазалась, и глаза от этого стали печальными, даже слегка загадочными.
– Давно бы так, – изрекла она и вскоре уже поставила на стол графинчик с двумя рюмками.
– За что выпьем? – Ярослав поднял свою рюмку.
– За что хочешь.
Тусе и в самом деле все равно было за что. Просто захотелось выпить. В конце-то концов, может же человек когда-нибудь без всяких тостов, просто взять и выпить рюмку водки? Что в этом такого особенного?
Она выпила свою рюмку, закурила новую сигарету и, чтобы доказать, что водка на нее никак не действует, сказала деловым тоном:
– А заявление твое я передам обязательно. Не позднее завтрашнего дня…
7
Нет, он не солгал ей. Он думал о ней часто, очень часто, куда чаще, чем ожидал сам.
И еще – было совестно. Просто страшно – вдруг встретишься ненароком, увидишь ее, что тогда? Что скажешь?
Может быть, она-то ничего и не скажет. Только взглянет и пройдет мимо, но это самое страшное, мимоходом увидеть ее глаза.
Он уехал к отцу. Отец был тактичный, ни о чем не спросил его, и он ничего не сказал. Приехал и приехал, и дело с концом.
Отец устроил его вольнонаемным в армейскую газету, но потом сам Ярослав решил пойти на фронт. Почему так решил? Перво-наперво, надоело отвечать знакомым и незнакомым, отчего это такой молодой и здоровый не на фронте. Поди объясняй, что зрение подгуляло: кто поверит, а кто не очень…
И потом, не всем же дано погибнуть. Ведь иной раз, видишь, воюют люди, возвращаются домой целехоньки, вся грудь в орденах…
Его не хотели из-за зрения брать на фронт, но он добился, окончил курсы лейтенантов, и его отправили на Курскую дугу.
Бог миловал Ярослава – ни разу не был ранен, даже контузия, даже самая легкая царапина миновали его.
К концу войны уже был майором, служил в комендатуре небольшого немецкого городка.
Там и застала его Победа. В немецком городке он пользовался известностью: жители охотно шли на прием к обходительному, вежливому советскому майору, который к тому же превосходно изучил немецкий язык. У него были врожденные способности к языкам.
Он умел играть, как он выражался, «на струнах сердца».
В сущности, это была беспроигрышная игра. И он преуспел в ней. Он говорил: «Самое дешевое – вежливость. Зато дороже всего ценится».
И он был вежлив решительно со всеми, с каждым, кто бы ни встретился ему на пути, – с гитлеровцем, который явился с повинной, с молодым советским солдатом, с безработной актрисой из еще не открывшегося варьете.
Он любил показать себя, умел подчеркнуть широту, безудержную удаль своей натуры.
В День Победы раздобыл где-то на складе ящик с лайковыми перчатками, с утра до вечера ездил по городу в своем «джипе» и раздавал перчатки русским регулировщицам. И от души радовался, глядя на простодушные, загорелые лица девчат, одетых в аккуратно подогнанные шинели, блистающих девственной белизной бальных перчаток.
Он легко сходился с женщинами и беспечно забывал о них, заботясь лишь об одном – никого не обидеть, чтобы избежать возможных неприятностей и осложнений.
Иные, правда, обижались, но он умел заставить понять себя. Понять и простить. И женщины прощали ему.
А он искренне хотел все время влюбиться. Не думая ни о чем, не рассчитывая, отчаянно и бездумно.
Но ему никак не удавалось влюбиться. Как ни старался, ничего не выходило.
И тогда, в который раз, вспоминал о Тусе. И что в ней было такого, особенного? Он пробовал анализировать: подруга юности, – что ж, это, конечно, имеет свое обаяние, ну, правда, хороша собой, но ему встречались женщины куда красивее, в его вкусе, холеные хищницы с мерцающим взглядом и пышными волосами. И умнее они были, и откровенней в любви, больше знали, больше умели…
И все-таки все они как-то сливались для него, и только одна Туся помнилась так ясно и отчетливо, словно он всего лишь вчера расстался с нею.
Приехав в Москву, он демобилизовался, окончил институт связи и стал работать старшим инженером районного телефонного узла.
Работа была, что называется, не пыльной, устраивала его, при случае он мог оказывать услуги нужным, интересным ему людям – поставить телефон, установить параллельный номер, ускорить проводку кабеля, достать импортный аппарат. Ему это было нетрудно, а люди помнили об его услугах и, когда нужно было, платили добром за добро.
Отец его умер, нянька сильно одряхлела. Временами, когда он трезво и беспощадно думал о своей жизни, ему становилось жаль себя. Да, как ни странно, все кругом считали его обаятельным, счастливчиком, везуном, а сам он в глубине души жалел себя.
В сущности, он был одинок, ни к кому не привязался, никого по-настоящему не любил. И друзей у него не было в подлинном значении слова. Их заменяли нужные люди, интересные, перспективные связи. А друзей не было.
Порой снова всплывали мысли о Тусе. Но нет – на это он не мог решиться. С Тусей покончено, раз и навсегда, и самое лучшее для обоих – никогда не встречаться.
Как-то он поехал в командировку в Свердловск и там случайно познакомился с сотрудницей одного научно-исследовательского института. Она была недурна собой и, как он сразу понял, обладала уравновешенным характером. Не молоденькая, что-то около сорока. С мужем разошлась, муж сильно пил, жила вдвоем с десятилетней дочкой.
Она понравилась ему ровно настолько, чтобы не быть для него скучной и обременительной. Она была умна, а это уже немаловажно в семейной жизни, к тому же и нрав у нее был не вздорный, а покладистый и сравнительно мягкий.
Он привез ее в Москву. Нянька сразу же привязалась к ее дочке и как бы заново расцвела, с утра до вечера хлопотала по хозяйству. Он и жена днем работали, девочка училась в школе, к вечеру все собирались вместе, все было, как полагается в каждой нормальной семье.
В общем, он не ошибся, недаром многие считали его человековедом. С женой установились добрые, неутомительно ровные отношения, ее дочка звала его «дядя Яра», и он понемногу привык к девочке и даже скучал, когда она уезжала на лето в лагерь. Одиноким он себя больше не ощущал. Напротив, с гордостью признавался:
– У меня семья. Дочь-невеста, еще год-другой, глядишь – замуж выдадим…
И ему самому казалось, что в голосе его начинают звучать дребезжащие, уже старческие нотки.
И это его ничуть не огорчало. Он умел приспосабливаться ко всему, вживаться в ту роль, какую выбрал себе, и играл превосходно, даже сам начинал верить себе.
8
Первое боевое крещение Асмик получила еще в поезде, когда ехала на фронт. На их состав напали фашистские самолеты.
Осколком бомбы ранило машиниста, пожилого, болезненного человека. Рана была, как потом оказалось, неопасной, но крови вышло много. Машинист лежал под кустом, неподалеку от разрушенной станции. Примятая обугленная трава вокруг него была залита кровью, хлеставшей из раны.
Помощник машиниста, молодой парень на протезе, бегал вдоль линии и кричал:
– Врачи, кто здесь есть врачи, сюда скорее!
Первой к машинисту подбежала Асмик. Почему-то так получалось – и в школе и в институте Асмик всегда была впереди всех.
И теперь, хотя с нею вместе ехали ее товарищи-студенты, она раньше всех бросилась к машинисту.
Старик громко стонал, приговаривал:
– Вот беда… И все на меня одного… Что теперь будет?
Асмик разрезала бритвой рукав его куртки, стала быстро промывать рану перекисью водорода.
Обеспамятев от боли, машинист рванулся в сторону.
– Подождите, – сказала Асмик. – Потерпите, еще немного…
Он не выдержал, длинно, витиевато выругался.
Тампон с ватой выпал из рук Асмик. Такого ей еще никогда не приходилось слышать.
Однако она постаралась сделать вид, что ничего не произошло. Ровным счетом ничего.
Очистила рану, промыла, залила йодом. Ловко перевязала туго-натуго.
Старик покосился на свое плечо:
– Заживет, думаешь?
– Бесспорно.
Кряхтя и морщась, он с ее помощью поднялся с земли, сказал смущенно:
– Ты, дочка, не серчай на меня. Я и сам черных слов не жалую. Только уж в самом таком случае…
– Договорились, – сказала Асмик.
«Первый пациент – это как первая любовь, – писала Асмик бабушке с фронта. – Забыть его невозможно».
В каждом письме бабушка повторяла:
«Следи, чтобы у тебя всегда ноги были в тепле».
Асмик читала и усмехалась. Поглядела бы бабушка на нее, хотя бы тогда, когда их медсанбат переезжал на новое место и пришлось им всем, врачам и сестрам, всю ночь просидеть в болоте, что бы тогда написала?
Однажды, это было уже на третий год войны, на фронт приехала выездная бригада артистов. Выступали в лесу, под открытым небом. Эстрадой служил грузовик. Бледный, с напудренным лицом артист пел:
«Не страшна нам бомбежка, не страшны нам налеты, и врагов не боимся в кровавом бою!»
Асмик не выдержала, крикнула громко:
– Вранье!
Артист оборвал пение.
Асмик почувствовала, что вся залилась краской. Кажется, даже белки глаз покраснели.
И все-таки крикнула еще раз:
– Вранье! Бомбежки страшны, и самолеты тоже…
После, когда артисты уехали, она не переставала возмущаться:
– Подумать только! Такое мог написать только тот, кто никогда не был на войне! Ему не страшно, он дома, за столом, свои стишата сочиняет, а попробовал бы с наше…
Самой себе она казалась старым, испытанным бойцом. Но все равно не скрывала страха, когда начинались бомбежки. Случалось, оперировала под огнем.
А потом писала бабушке:
«За меня не беспокойся. На нашем участке фронта все время затишье».
Когда-то она хотела стать врачом. Представляла себе мысленно своих пациентов, внимательно осматривала каждого, расспрашивала, беседовала на всякие житейские темы, – одним словом, проводила психотерапию, которая так необходима больным.
И, уже учась в институте, крепко запомнила слова Павлова:
«Словом можно воскресить и убить».
Она видела себя врачом в ослепительно белом халате, в белой шапочке на голове.
Вот она подходит к койке, садится рядом, заводит долгий, душевный разговор…
Наяву была жизнь – грубая, жестокая. Голые, развороченные тела, истерзанные минами, автоматами, осколками бомб, кровавые, ставшие жесткими, словно жесть, бинты, тазы, где в крови плавают осколки, извлеченные из ран.
Раненые кричали, срывали с себя повязки, ругались, звали ее к себе и гнали прочь.
Временами ее охватывала ярость. Впору бросить бы все и бежать куда глаза глядят, чтобы не видеть, не слышать, не знать ничего…
Но через минуту уже становилось совестно перед самой собой. И она забывала об усталости, о бессонных ночах, о том, что халат весь в пятнах, и ноги кажутся не своими, и во рту еще крошки не было…
Ближе всех в медсанбате Асмик сошлась с Верой Петровной Ордич, опытным хирургом, ленинградкой.
Вера Петровна была значительно старше Асмик, далеко за пятьдесят, худая, костистая, стрижена коротко, под мальчика.
Беспрестанно курила, кашляла и снова сворачивала себе «козьи ножки» худыми, желтыми от махорки пальцами.
Все в медсанбате побаивались Веры Петровны, ее сумрачных глаз, острого, злого языка, даже сам главный врач. Все, кроме Асмик.
Как ни странно, Асмик была по душе эта грубоватая, с мужскими ухватками женщина, умевшая ругаться, курить и пить водку не хуже любого мужика.
Вера Петровна категорически утверждала:
– Пока еще ты обсосок, но когда-нибудь… Из тебя врач получится. Вот так, как мой муж…
– Он тоже врач? – спросила Асмик.
– Был, – сказала Вера Петровна. Она скупо рассказала о нем: – Он на моих руках умер. Зимой сорок второго. От голода.
Замолчала, стала быстро сворачивать новую цигарку. Руки ее дрожали.
– Дайте мне, – сказала Асмик. – А то у вас вся махорка просыпалась.
Свернула ей цигарку, толстую, словно сигара.
– Правильно свернула?
– Сойдет.
Вера Петровна взяла цигарку и тут же забыла о ней.
– Он сам себе диагноз поставил. Дистрофия, сказал. Полная. Излечению не подлежит…
– Он был хирург?
– Нейрохирург. Отличный клиницист. Его весь наш Васильевский остров знал. Так и звали кругом: наш доктор.
Иногда, в короткие минуты передышки, обе они выходили в лес, синевший неподалеку от деревни.
– Если бы дома побыть, хоть бы час, пусть даже только полчаса, – говорила Асмик.
Вера Петровна молча курила. У нее не было дома – разбомбили в первые же дни.
С неожиданным в этом внешне грубом существе проникновенным чувством она касалась рукой белых, светящихся в темноте стволов берез. Как-то сорвала уютно примостившийся под елью гриб, показала его Асмик:
– Смотри, на шляпке роса, словно бриллиантик. И сам весь крепенький, самодовольный!
– Интендант, – заметила Асмик.
Вера Петровна нежно провела рукой по коричневой влажной шляпке гриба.
– Плюшевая, правда? И ворс такой ровный-ровный. Вот сволочь какая!
Отвернулась от Асмик, быстро, порывисто затянулась, выпустила длинную струю сизого дыма.
Однажды она сказала Асмик:
– У меня один тип лежит, пулевое ранение в шею; говорит, у тебя колоритное лицо.
– Ну да? – удивилась Асмик.
– Хочешь, погляди на него.
Асмик пришла, поглядела. Еще молодой, курносый, веселые, быстрые глаза. Протянул ей руку, засыпал словами:
– Я – кинооператор. У меня глаз наметанный, можете поверить. Вы на редкость фотогеничны, особенно в таком ракурсе, вот, если повернуть голову, приподнять подбородок…
Вера Петровна покосилась на Асмик, пробурчала неодобрительно:
– Нечего смущать девчонку! Еще вобьет себе в голову, что красивая…
– Ничего я не вобью, – ответила Асмик.
Он уже поправлялся, стал ходить. Иногда приглашал Асмик погулять вместе.
Он ей не нравился, чересчур развязный, откровенно наглый, хвастливый. Любил говорить о себе, причем называл себя в третьем лице, явно упиваясь своей звучной фамилией – Горданский.
Сразу же выложил о себе все, два раза был женат, оба раза неудачно, пользуется успехом у женщин, прекрасный кинооператор.
Так и сказал о себе:
– Горданский – сила. Лучшего кинооператора даже в Голливуде не откопаешь!
Рассказал ей о том, как до войны снимал картину «Весенние сны». Там должен был быть майский сад, весь в цветах, а стоял уже август, что было делать?
– Но Горданский нашелся, – сказал он. – Горданский из любого положения найдет выход. Сад, представьте себе, весь как игрушечка, яблоки наливаются, вишни. Горданский приказал все яблоки оборвать, а на ветки нацепить белые цветы, из парашютного шелка их сделали. Весь реквизитный цех, всех монтажеров, гримеров, даже осветителей засадил за дело, цветов наделали, как говорится, хоть на экспорт, хоть на импорт, сила. Колхозники идут, глазам не верят – август, листья уже желтые, а сад – белый-белый, и все Горданский придумал. Силен мужик?
Вера Петровна уверяла:
– Он в тебя втрескался.
Асмик не верила, хотя ей было приятно его внимание. Он не очень нравился ей, но она не была избалована мужским вниманием.
Вера Петровна несколько раз заводила разговор о Горданском, о его веселом, легком характере, о том, что он, как видно, увлечен Асмик.
Асмик отшучивалась, но временами он начинал казаться ей симпатичным, и она думала: может быть, кто знает…
Но все кончилось разом, в один день.
Был вечер. Где-то недалеко совсем по-мирному кричали петухи, медленно плыли облака над землей, и Асмик подумалось: вдруг и в самом деле война уже кончилась, и можно поехать домой, и снова мир, мир, о котором, кажется, все уже позабыли…
Улыбаясь своим мыслям, она повернула голову и увидела на бревнах, в стороне от крыльца, Горданского. Он сидел не один, с черноглазой кокетливой сестрой Асей. Оба были увлечены беседой и не заметили Асмик.
Асмик хотела уже подойти к ним, но тут услышала громкий Асин голос:
– Ну и трепач же вы несусветный!
– Горданский трепач? – удивился Горданский.
– Еще какой. То за нашей докторшей Григорян утрепываете, а то теперь мне вот черт-те что напеваете.
Горданский рассмеялся:
– Григорян? Придумала тоже! Горданский прежде всего эстет. Ему красота нужна, на первом плане красота. А тут – тяжелый бомбовоз, и ничего другого…
Ася расхохоталась. Горданский одной рукой обнял ее за плечи, потом повернул голову, встретился глазами с Асмик.
Больше она не видела его. Он выписался на следующее утро.
Вера Петровна сказала:
– Эти люди искусства все-таки какие-то ненормальные. То просил оставить его еще немного, а то вцепился в меня – выписывать немедленно, и никаких гвоздей!
– Может быть, ему надоело здесь, – сказала Асмик.
Вера Петровна бегло посмотрела на нее:
– Он тебе, кажется, не очень?
Асмик засмеялась:
– Будет вам, еще чего выдумали!
Сама для себя она решила:
«Больше ничем никогда не буду забивать голову. У меня свое дело, и я должна думать только о деле».
И написала письмо бабушке:
«Не бойтесь, я на фронте замуж не выйду. И вообще, я не хочу выходить замуж ни теперь, ни потом. Просто я даже не думаю об этом».
Она знала, бабушка искренне обрадуется этому письму. А почему бы ее и не порадовать, тем более что так оно и есть на самом деле?
9
Всему приходит конец. Пришел конец и бабушкиной командировке.
Утром она объявила Асмик:
– Сегодня беру билет на завтра. Решено!
Асмик торопилась к себе в больницу, ей было некогда уговаривать бабушку. Однако она попыталась воздействовать на нее самым примитивным, еще в детстве испытанным способом.
– Подождите, бабушка, хотя бы еще три дня. Мне кажется, я заболеваю гриппом.
Но бабушка, кинув взгляд на цветущие щеки Асмик, коротко посоветовала:
– Врачу – исцелися сам.
Вечером после работы Асмик забежала в «Арагви», тамошний метрдотель когда-то был ее пациентом, нагрузилась там купатами, цыплятами табака, лоби в остром соусе – эти блюда бабушка любила со всем пристрастием истой южанки – и быстро помчалась домой, чтобы приготовить прощальный ужин.
Но бабушки все не было. Цыплята остывали на плите, зажаренные до густо-шоколадного цвета, чесночный соус томился в духовке, Асмик злилась, потом стала нервничать, места себе не находила – и так до десяти часов вечера, когда в прихожей раздался звонок.
– Я не одна, – сказала бабушка. – Примешь нас двоих?
Асмик вгляделась. Бабушка стояла совершенно одна в полутемной прихожей.
– Я приму кого хотите, – ответила Асмик. – Но я никого не вижу.
– Боже мой, – сказала бабушка. – Где же твои глаза?
Она подтолкнула к Асмик небольшую собаку с острой, словно у лисицы, мордочкой.
– Понимаешь, иду по Мерзляковскому переулку, смотрю, стоит, я посвистела, она за мной. Что тут будешь делать?
Собака смотрела на Асмик широко раскрытыми глазами.
– Хороша? – с гордостью спросила бабушка.
– Вы же знаете, для меня нет плохих собак, – ответила Асмик.
Боязливо покосилась на дверь соседки.
– Только вот Эмма Сигизмундовна, она не выносит собак…
– Я ее сама не выношу, твою Эмму Сигизмундовну, – отрезала бабушка и вместе с собакой прошла в комнату.
При ярком свете люстры и торшера Асмик хорошо разглядела собаку. Без сомнения, обыкновенная чистопородная дворняжка, хвост пушистый, шерсть коричневая в белых пятнах.
– Прекрасные глаза, – сказала Асмик. – Совсем человечьи.
– Еще чего, – возмутилась бабушка. – Лучше, чем человечьи. У людей бывают рыбьи глаза, а у нее мудрые, всезнающие.








