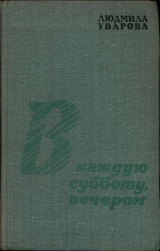
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Хоть до утра буду прыгать, все равно не стану тоньше…
Потом получилось так, что они все вместе пошли из школы домой – Туся, Асмик и Сережка.
Асмик сказала:
– Наши мальчишки присудили тебе первое место.
– За что? – рассеянно спросила Туся.
– За красоту. Я тоже считаю, что ты лучше всех. Правда, Сережка?
– Правда, – безразлично ответил Сережка.
А Туся обиделась. Что это за равнодушный тон? Почему? Мог бы ответить и повежливей!
Она молчала всю дорогу, а Сережка о чем-то говорил с Асмик, и Асмик смотрела на него, и щеки ее рдели сильнее обычного, и черные глаза блестели.
Асмик раздражала Тусю непоколебимым добродушием, готовностью первой посмеяться над собой; это свойство делало ее просто неуязвимой. И еще тем, что все в классе любили ее; она ровно ничего не делала для того, чтобы завоевать чью-нибудь любовь, а ее любили.
Асмик была прочно защищена от любого недоброжелательства уверенностью в том, что все люди, если разобраться, хорошие.
Не раз Туся слышала, как Асмик говорила:
– Каждый по-своему хороший. Надо только уметь раскопать в нем это хорошее…
Туся хотела поссориться с Асмик.
Она при всех говорила:
– Твоя простота граничит с глупостью.
– Наплевать, – отвечала Асмик.
Туся из себя выходила:
– Тебя многие дурой считают, самой настоящей дурой.
– Ну и пусть, – смеялась Асмик. – Ведь главное, кем сам себя считаешь. Я-то про себя знаю, какая я!
Сережка говорил про Асмик:
– У нее умное сердце.
Туся подсмеивалась над ним:
– Ты влюблен в нее?
– Вот уж нет, – отвечал Сережка. – Мы с ней просто друзья.
«Нет, так дело не пойдет, – решила Туся. – Ты будешь дружить только со мной, ни с кем другим…»
Она старалась понять его вкусы, наклонности, привычки. Он признавал людей откровенных, начисто лишенных хитрости. Ему было доступно рыцарское стремление защитить, помочь слабому, поддержать любого, кому трудно.
Он влюбился в Тусю очертя голову. Может быть, и сам того не хотел, а влюбился, ничего не мог с собой поделать. Ходил за ней как привязанный, глаз с нее не сводил. И все, что бы она ни делала, что бы ни говорила, казалось ему прекрасным, необыкновенным, пленительным.
Асмик сразу же поняла все как есть. А Тусе хотелось прежде всего Асмик доказать, что Сережка дружит не с ней, а с Тусей, что он предан душой и телом одной лишь Тусе.
«Я хочу, чтобы она поняла: совсем не все люди хорошие, – думала Туся. – Пусть отрезвеет. Пусть скинет розовые очки!»
Но Асмик продолжала жить в непоколебимой уверенности – во всех людях непременно можно отыскать что-то хорошее, иначе и быть не может.
А Сережка по-прежнему тянулся к Асмик, он любил бывать с нею, и, если они с Тусей собирались на каток, в кино, в парк культуры, он всегда звал с собой Асмик.
Асмик никогда не отказывалась. Туся пробовала быть с ней холодной, едва цедила слова сквозь зубы или подсмеивалась над ней, выискивая самое больное, чтобы уколоть. Но Асмик словно раз и навсегда надела на себя непроницаемую для ударов кольчугу, хоть руки сбей до крови – не прошибешь!
– За что она ко мне хорошо относится? – допытывалась Туся у Сережки. – Я же не притворяюсь и совсем не хочу показать, какая я хорошая. И она видит, я не люблю ее!
Однажды Сережка признался:
– Я ей рассказал про тебя. Про твоего папу…
Туся разозлилась. Как он смел?! Она поделилась с ним, а он взял да и выболтал!
Она даже разговаривать с ним перестала.
Асмик первая подошла к Тусе, сказала ей:
– Ты чего с ума сходишь? Как тебе не стыдно?
Туся с надменным видом приподняла длинные брови.
– Это еще что такое?
Но Асмик невозможно было остановить.
– Сережка страдает, а тебе и горя мало? За что ты на него злишься? Что он тебе сделал?
– Это тебя не касается, – холодно отрезала Туся.
– Нет, касается! – крикнула Асмик. – Мы с ним товарищи, то, что его касается, это и мое дело! Ты разозлилась за то, что он мне рассказал о твоем папе? Да? Скажи правду! Так я же никому не скажу. У меня оба погибли, и папа и мама, они в катастрофу попали, и я тебя понимаю, так понимаю…
Толстые щеки ее побледнели. Губы дрожали.
– Да ну тебя, – сказала Туся, невольно улыбнувшись.
Асмик обрадовалась так, словно получила желанный подарок.
– Помиришься с ним, да?..
Мир был восстановлен, только Туся поймала себя на том, что ей не хочется больше смеяться над Асмик, поддразнивать ее. Не хочется, и все.
И даже когда кто-то из ее поклонников-десятиклассников обронил пренебрежительно, в надежде рассмешить Тусю: «Асмик похожа на шар, наполненный горячим паром», – Туся резко оборвала:
– Не тебе судить об Асмик!
Она удивлялась ей. Удивлялась и в то же время незаметно для себя привязывалась к Асмик.
Ей уже не хватало этой искренности, лишенной расчетов, открытой доброты, сквозившей в каждом поступке Асмик.
И в конце концов она поняла: Асмик и не думала надевать на себя какую-то непробиваемую броню.
Она была такая от природы и потому могла разрешить себе роскошь никогда не притворяться.
Она говорила и делала то, что чувствует, не изменяя себе ни на йоту.
Туся первая предложила ей:
– Мы с тобой друзья на всю жизнь. Идет?
– А как же? – ответила Асмик.
Когда они окончили школу и Туся стала встречаться с Ярославом, она рассказала о нем Асмик.
Асмик прежде всего опечалилась за Сережку.
– Я познакомлю тебя с Ярой, – предложила Туся.
Но Асмик отказалась знакомиться.
– Я его заранее не люблю…
Туся уговаривала, смеялась, сердилась, пробовала даже обидеться – ничего не помогало. Асмик стояла на своем. И Туся отступила.
Не хочет, не надо, и Ярославу не велика честь добиваться ее расположения. Для него важно одно, чтобы Туся его любила, а до остального ему, в сущности, дела нет.
Однажды зимой, примерно за полгода до начала войны, Туся и Сережка договорились пойти в свою школу, на традиционный вечер встречи.
Эти встречи устраивались каждый год. Приходили обычно и те, кто учился давным-давно, и совсем недавно окончившие.
– Иногда неплохо вернуться к юности, – сказал Сережка. Он предвкушал удовольствие вновь побывать в знакомых стенах, да еще вместе с Тусей.
Предупредил ее с самым серьезным видом:
– Я буду ослепительно элегантен, так что учти…
– Наденешь новый костюм? – спросила Туся.
– Само собой, и белую рубашку, даже галстук, хотя ты знаешь, галстук – не моя стихия…
Туся тоже решила блеснуть нарядом, надела синее платье, белые бусы, белый лайковый пояс.
Посмотрела на себя в зеркало, осталась довольна. Как будто бы хороша, не к чему придраться даже самому взыскательному взгляду.
И тут позвонил Ярослав.
– Я взял билеты в кино, на последний сеанс…
– Не могу, ухожу на вечер в старую школу, – с сожалением сказала Туся.
– В школу? – переспросил Ярослав. – А что, если возьмешь меня, можно?
– Спрашиваешь! – ответила Туся.
Она дала ему адрес школы, условилась встретиться в актовом зале.
Против своего обыкновения, Сережка пришел чуть позднее Туси. Она увидела его издали, отметила про себя: новый костюм сидит мешковато, галстук стягивает шею, должно быть, порядком стесняет, и Сережка, наверно, мечтает улучить момент и снять его.
Она хотела было окликнуть его, но вдруг заметила Ярослава. И забыла тут же о Сережке, обо всем позабыла.
А Сережка увидел ее и пошел к ней сквозь толпу танцующих. Туся улыбалась, и он шел на ее улыбку.
И вдруг остановился. Какой-то незнакомый парень, одетый в щегольскую куртку, обогнал его. Он подошел прямо к Тусе. Тусина улыбка предназначалась ему.
Сережка повернул в другую сторону. Потом издали посмотрел на Тусю, и она увидела его, и взгляд ее стал холодным, отстраняющим.
И Сережка понял: Туся боялась, как бы он не подошел к ней.
Он не подошел. И не говорил с нею после обо всем этом. Как не было ничего. И она не говорила. Оба молчали, словно сговорились.
И вот прошли годы, много лет, а Тусе до сих пор помнился этот давний случай. И она, кляня себя и терзаясь, страстно мечтала, понимая всю несбыточность своего желания, – мечтала вырвать из прошлого этот день, один только день.
13
Володя Горностаев любил говорить в глаза людям то, что о них думает. А так как он относился решительно ко всем скептически и умел отыскать в каждом что-либо дурное, мысли свои он высказывал с прямотой, которая мало кому нравилась.
На него, естественно, обижались, а ему было все равно. Себя он считал умнее, талантливее всех.
– Так ли это необходимо говорить человеку прямо в глаза неприятные вещи? – усомнилась однажды Асмик.
Он ответил:
– Но это в логике моего характера.
И она приняла его слова как должное. В логике характера, – стало быть, так оно и есть и иначе не может быть.
У него был трудный характер. И на редкость неуживчивый. За несколько месяцев своей работы он успел перессориться со многими врачами и сестрам говорил в лицо несусветные дерзости и даже профессору Ладыженскому, благоволившему к нему, выпалил:
– Ваши методы устарели, как и вы сами…
Но Асмик принимала его таким, какой он есть, со всеми его причудами и недостатками. Она любила его.
С самого начала, познакомившись с нею, он посчитал ее уродливой. Так и сказал ей при первой же встрече:
– А вы, голубушка, на личность весьма страхолюдны.
Асмик не смутилась:
– Вы шутите, конечно, или у вас аберрация зрения.
Она сказала это так просто, так уверенно, что он на секунду даже опешил, пристально вглядываясь в ее лицо. Может, и в самом деле ошибся?
Асмик продолжала:
– Моя мать дружила с Сарьяном. Мать у меня тоже была толстая и красивая. А Сарьян говорил: «Женщина должна быть либо подобна терракотовой статуэтке, либо обладать откровенно пышными формами, воспетыми Рубенсом и Малявиным». Считайте, что я принадлежу ко второй категории.
– Постараюсь, – усмехнулся Володя. – Хотя на мой взгляд – вы уродина!
Ей все нравилось в нем – и дергающиеся губы, и мрачные, чуть скошенные к вискам глаза, и постоянно растрепанные волосы.
В раздевалке она осторожно, чтобы не заметил дядя Вася, быстро прижималась щекой к Володиному пальто.
Володя жил один, снимал комнату где-то в Перловке. Родители его проживали в Костроме, он неохотно говорил о них.
Однажды сказал Асмик:
– Мать у меня второй раз замужем. Как будто бы удачно. – Потом мрачно добавил: – Для нее, конечно.
У Асмик сердце болело при виде обтрепанного воротничка его сорочки, старых ботинок с оборванными шнурками.
– Вы, наверно, плохо питаетесь, Володя, – сказала она ему.
Он ответил:
– Пожалуй, да. Мой аппетит обгоняет мои возможности…
Это было сказано не очень понятно, но, как бы там ни было, Асмик задумала пригласить его к себе, угостить на славу. Она была хлебосольна и еще отменная кулинарка, но как подступиться к нему – не знала.
Он сам разрешил ее сомнения. Как-то, выходя вместе с нею из больницы, сказал:
– Ужасно хочется чаю. Хоть бы напоили когда…
Асмик обрадовалась:
– Хоть сейчас!
С ужасом вспомнила: дома, кроме сыра и кофе, нет ничего. Но она не привыкла отступать.
Взяла его за руку, решительно повела за собой.
– Поехали…
Приехав домой, она усадила его на тахту, сунула в руку яблоко, сказала строго:
– Сидите, жуйте, а я покамест похозяйничаю.
– Только не очень долго, – сумрачно ответил он. – А то я с голоду могу все ваши подушки на тахте сжевать.
Но она одной ногой уже была на лестнице, помчалась в гастроном на углу. Недаром ее все считали чертовски энергичной.
Бросилась к директору магазина, задыхаясь, выпалила:
– Я – врач. Живу вон там, рядом. Ко мне приехали друзья, помогите!
Ошеломленный директор, разумеется, ничего не понял.
– Чем помочь? Что надо сделать?
– Быстро заказ. Прошу вас. Чтобы ни минуты в очередях!
И директор сказал:
– Всего-то навсего? Да со всей душой…
Она примчалась домой, увешанная покупками, словно елка игрушками.
Володя удивился:
– Банкет толкаете? На сколько персон?
– Живо за стол, – вместо ответа скомандовала Асмик.
Он послушно сел за стол, налил себе коньяк, закусил шпротами.
– Вы угадали, я люблю шпроты.
Асмик просияла:
– Правда? А ветчину любите? Смотрите какая, совершенно без жира, розовая…
Он откинулся на стуле.
– Вы и вправду добрая. Я заметил, вас все любят.
– Это плохо, когда все любят, – недовольно ответила Асмик. – Значит, всем вольно или невольно угождаешь.
– Разве? – спросил Володя.
– Мне так кажется. Это как вода, которая принимает форму любого сосуда.
Он выпил еще коньяку, сказал внушительно:
– Если бы я имел некоторое право на вас, я бы предостерег вас.
– От чего?
– Не знаю. От многого. Прежде всего я бы настоял, чтобы вы не были такой доброй.
– А я вовсе не такая уж добрячка.
– Вы не добрячка, вы добрая. А знаете, я понял, добро следует делать осторожно.
– Как это осторожно?
– Вот именно, осторожно, – повторил он. – Есть люди, которые не прощают добро. Ведь не каждый человек способен не отплатить злом за добро. Есть такие, которым тягостно чувствовать на себе чью-то доброту…
– Я не встречала таких, – сказала Асмик.
– А я встречал. Это было еще там, в Картушинской больнице. Там был один врач, не из самых лучших, но человек старательный. У него ЧП случилось: пошел на аппендицит, и вдруг неожиданно в толстых кишках инфильтрат. Он так замер и не знает, что делать, хоть стой, хоть падай. Тут, правда, старшая сестра, у нас там преотличная сестра была, – Володя усмехнулся. – Вы бы, конечно, определили ее – чудо. Так вот, она сообразила, за мной бросилась, я тут же, в больничном дворе жил, приволокла меня, я, признаться, уходить нацелился, было у меня некоторое неделовое свидание, однако пошел…
– И дальше что?
– Дальше ничего. Как водится, сам взялся за все это дело…
– И что же?
– Все обошлось. У меня, если хотите знать, проколы не часты!
«Хвастушка, – с нежностью подумала Асмик. – Ах, какой же ты хвастушка!»
Посмотрела на его лицо, хорошо освещенное лампой, на сильные пальцы, небрежно постукивающие по столу, мысленно обругала себя:
«Нашла от чего растрогаться! Если бы бабушка такое услыхала!»
Представила себе бабушкины непримиримые глаза и словно бы услышала низкий, чуть хрипловатый голос: «А вы, молодой человек, чрезмерно самоуверенны, что, как известно, ведет к тягчайшим жизненным поражениям».
– Вы слушаете меня? – спросил Володя.
– Да, конечно.
– Ну так вот. Представляете себе положеньице? Больной, само собой, поправился, все в порядке, а коллега мой на меня ни с того ни с сего в обиде. И не глядит даже в мою сторону. Я сперва было подивился, а потом понял.
– Что же вы поняли?
– Да все то же, что говорил. Есть люди, которые не в силах простить добро к себе. Просто не могут забыть и потому даже, случается, мстят за это. Знаете, есть такая турецкая, что ли, поговорка: «За что ты мне делаешь зло? Я же тебе ничего доброго не сотворил!»
– Глупая поговорка, – решительно оборвала Асмик. – Глупая и такая какая-то человеконенавистническая.
– Может быть, – согласился Володя. – Однако и такое существует в жизни.
– Допустим.
Володя осушил свою рюмку.
– Почему вы не пьете?
– Не хочется.
– Тогда я за ваше здоровье.
Он налил себе еще.
– Я вас насквозь вижу, вы все равно, несмотря ни на что, будете сеять это самое, которое доброе и к тому же вечное.
– Пусть так.
Он расхохотался.
– Чудачка вы все-таки. Так и хочется сказать: «А ну, гражданочка, поправьте нимб, малость набок съехал…»
Он стал часто приходить к ней. Сидели, ужинали, порой молчали, порой говорили о всякой всячине.
Он раскрывался не сразу, постепенно, но ей казалось, он все больше привыкает к ней.
Однако ей многое в нем не нравилось. Она не старалась сочинить его, представить себе другим, чем он был. Она видела все то, что в нем почему-либо не нравилось, не могло нравиться ей, и все равно любила его.
Однажды он сидел у нее. За окном шумел дождь, и, как и обычно в дождь, теплая, освещенная ярким светом комната казалась особенно уютной и теплой.
– Люблю дождь, – сказал Володя. – А вы?
– Как-то не думала об этом.
– А я люблю. И солнце люблю. Я, между прочим, все принимаю. Вот когда солнце светит, мне иногда петь хочется. Вот так вот, во все горло. А когда слякоть, сырость на улице, то я начинаю ко всем придираться, на меня что-то находит, и я чертовски злой становлюсь, так на меня всякая осенняя гадость действует…
Улыбнулся, ожидая ее ответной улыбки. Но лицо Асмик оставалось серьезным.
И он сразу же нахохлился.
– Почему вы молчите?
– Мне кажется, – сказала Асмик, – вы не просто живете, как все мы, смертные, а то и дело констатируете свои чувствования.
– Что это значит? – несколько высокомерно спросил Володя.
– Вы все время прислушиваетесь к своим ощущениям: каково вам, как вы относитесь к людям, или к обстоятельствам, или к явлениям природы. Думаете, как они действуют на вас, вызывают ли положительные или отрицательные эмоции…
– Ну и что же? – нетерпеливо перебил ее Володя.
– Да ничего. Просто – вы эгоист, – сказала Асмик. – Даже эгоцентрик.
– Вот как, – заметил Володя. – Неужели?
– Вы сами знаете, это – правда.
– Я никому ничего плохого не делаю, – сказал Володя.
– И хорошего тоже не делаете.
– Откуда вы знаете?
– Мне кажется.
Она посмотрела на его сердитое лицо.
– А эгоистам, наверно, трудно живется. Правда?
– Возможно. А что, альтруистом выгоднее быть?
– Я не пробовала быть эгоистом, – ответила Асмик.
– Все-таки?
– Все-таки, наверно, мне легче, чем вам. Значительно легче.
Он хотел сказать что-то, может быть уязвить ее, но в это время Асмик позвали к телефону.
Она вернулась спустя несколько минут. Вернулась вся погасшая, словно бы разом постаревшая на добрый десяток лет.
Володя удивленно взглянул на нее:
– Случилось что?
– Из больницы звонили, – сказала Асмик. – Фомичева умерла.
– Кто это?
– Моя больная… Она уже давно болела… Лимфогранулематоз…
Он налил боржом в стакан.
– Выпейте, успокойтесь. Вы же давно знали.
И вдруг Асмик не выдержала, зарыдала, сотрясаясь всем телом.
До сих пор Асмик все еще никак не могла привыкнуть к этому переходу, который ей приходилось наблюдать так часто, от живого, исполненного желаний и чувств, к мертвой, совершенной неподвижности.
Другие врачи привыкали, а она не могла.
Володя в изумлении смотрел на нее, а она все стояла, отвернувшись от него, и хотела и не могла удержаться, чтобы не плакать.
– Хватит, – сказал Володя. – Сколько можно? Ну, перестаньте…
Асмик повернула к нему залитое слезами лицо.
– Уйдите, – сказала, не глядя на него. – Я хочу побыть одна…
Володя пожал плечами, но послушно ушел, испытывая в душе облегчение: не выносил женских слез.
Асмик задумала познакомить Володю со своими друзьями. Как-то привела его к Михаилу Васильевичу.
Кроме них троих там была еще Туся.
Володя был не в настроении, молча катал хлебные шарики, откровенно зевал.
Туся удивленно переводила взгляд с него на Асмик. Все никак не могла понять, что же их связывает.
По привычке красивой, избалованной мужским вниманием женщины она даже попробовала пококетничать с ним.
Она сказала, обращаясь к Асмик, но уголком глаза следя за Володей:
– Посмотри, у меня ни с того ни с сего выступили веснушки.
– Почему ты их не сведешь? – спросила Асмик. – Теперь, говорят, их легко сводят.
– Не хочу, – ответила Туся. – Я считаю, что веснушки – одна из примет молодости. – Обернулась к Володе: – А вы как считаете?
– Не знаю, – буркнул Володя. – Я – хирург, а не косметолог.
Туся улыбнулась:
– Вы не самый большой джентльмен из всех, кого я знаю.
– Ну и что из этого? – спросил Володя.
Туся вынула сигарету, закурила, следя глазами за тающим дымком.
– Когда ты курить бросишь? – ворчливо спросил Михаил Васильевич. – Дымит, словно труба паровозная…
– Никак не могу отвыкнуть, – сказала Туся. – А вы, Володя, курите?
– Нет, – ответил Володя.
Разговор, в общем, не клеился. Асмик поняла, первая сказала:
– Пора по домам…
Они шли с Володей вдоль Никитского бульвара.
Асмик спросила:
– Правда, милые люди?
– Кто? – переспросил Володя.
– Михаил Васильевич, Туся. Это мои друзья.
Володя приподнял воротник пальто, словно хотел отгородить себя от всего мира.
– Ничего особенного.
– Как ничего особенного? – возмутилась Асмик. – И Туся тоже ничего особенного? Она же такая красивая…
– Была, – сказал Володя.
Неожиданно это короткое, небрежно сказанное слово укололо Асмик.
– Мы с ней одного возраста, – сухо бросила она.
– Вы – это вы, – ответил Володя. – А она – пшено.
– Что значит пшено?
– То и значит. Пшено не рис и даже не гречка.
Асмик обиделась. Как это он, в самом деле, лихо сплеча рубит! Кто он такой, чтобы походя поносить хороших людей? Что это за непонятное высокомерие?
Она решила не говорить больше ни одного слова. А он не обратил ровно никакого внимания на ее обиду.
Так и шли оба, молчали.
Возле ее дома он сказал:
– Пока. Я поехал.
Было сыро. Дул ветер. Асмик представилось, как он будет сейчас трястись в электричке, потом топать по грязи, добираться лесом домой. А дома, должно быть, холодно, печка давно остыла…
– Идем ко мне, – сказала просто.
Он подумал.
– Я стесню вас…
Вместо ответа она потянула его за рукав.
«Я старше его, намного старше, – с горечью думала Асмик. – Что же потом? Как все будет?»
Порой, под утро, когда он еще спал, она вглядывалась в его лицо, которое во сне казалось неожиданно кротким, словно сон начисто стирал с него всю колючесть. Рассматривала молодую, туго натянутую кожу, смуглую шею с выпирающим кадыком.
Да, она была старше его, и это никак нельзя было оспорить.
Ей довелось в раннем детстве застать извозчиков, пролетки на дутых шинах, частные магазины, Страстной монастырь, немые кинофильмы с участием Мэри Пикфорд и Асты Нильсен.
И самое главное, у нее за плечами была война.
Даже он не раз говорил, что завидует ей.
– Почему? – спрашивала Асмик.
– Ты была на фронте, а это, конечно, самое яркое, что только может быть…
Михаил Васильевич и тот несколько высокопарно говорил подчас:
– Ты, Асмик, держала руку на пульсе эпохи…
Володя признался:
– Мы все в школе мечтали убежать на фронт. Я с одним фронтовиком переписывался, у нас все переписывались, наши девчонки кисеты им вышивали, платки…
Асмик была беспощадна к себе. Подолгу разглядывала себя в зеркало, находя все новые, невесть откуда возникавшие морщины. Мысленно сравнивала себя с ним.
Он не был красив – скуластое, худое лицо, брюзгливая складка рта, длиннорукий, нескладный, но он мог встать среди ночи, работать двадцать четыре часа подряд, болеть, ходить неряшливым, неприбранным, по нескольку дней не бриться – и все равно выглядел молодым и здоровым. Несмотря ни на что!
– Я – старуха по сравнению с тобой, – говорила она, втайне ожидая опровержения.
Он смеялся:
– Еще чего скажешь…
Она радовалась, как ребенок.
– Правда? Ты так не считаешь?
– Нет. Не считаю.
Само собой, в скором времени их отношения перестали быть тайной.
Сестры и санитарки жалели ее:
– Она такая простая, а он – крепкий орешек, еще покажет себя как следует…
Врачи посмеивались: с ума сошла, чуть не на десять лет старше его, какая женщина могла бы на такое решиться?
Даже профессор Ладыженский, далекий от сплетен и пересудов, и тот порой с вопросительной укоризной поглядывал на нее. И дядя Вася при каждой встрече отпускал ни к селу ни к городу странные, многозначительные замечания, а иногда у него вдруг вырывалось:
– Боязно мне за вас, Асмик Арутюновна…
Михаил Васильевич каждый раз, когда звонил ей, осторожно выпытывал, какое у нее настроение, довольна ли она жизнью…
И она понимала, он спрашивал все о том же…
А ей это было все, как говорится, до лампочки. Плевать ей на все мнения, на сочувствие, на боязнь за нее, даже на откровенную жалость.
Она ни в ком и ни в чем не нуждалась. Жила своей любовью и не пыталась скрываться.
Если спрашивали телефон больницы, она отвечала:
– Володя, пять, ноль один, ноль два.
И слово «Володя» произносила с такой бережной нежностью, словно оно было стеклянным.
Она немного осунулась, черные глаза ее потеряли свой блеск. Туся упрекала ее:
– Ты помешалась от любви. Нельзя так отдаваться чувству!
– Можно, – кротко парировала Асмик.
Одного она боялась – смертельно, панически: вдруг в один прекрасный день он встретит какую-то молодую, необыкновенно красивую блондинку, – блондинки казались ей особенно обольстительными и опасными для Володи, – и он влюбится в эту блондинку и, разумеется, бросит ее, Асмик. Порой ей становилось даже боязно. В самом деле, можно ли так любить?
Она ревновала его к каждой мало-мальски смазливой пациентке, к молодым сестрам, врачам, студенткам.
Не стесняясь, она допытывалась у него:
– Ты видел новую сестру на втором этаже? Правда, хорошенькая?
– Какая еще сестра? – нетерпеливо спрашивал Володя.
– Лилечка. Такая беленькая, с золотыми косами.
– Видел. Выдра, – коротко отвечал Володя, и слова его проливали бальзам на сердце Асмик.
Никогда раньше не следила она за собой так, как теперь. Села на жесточайшую диету – ни крошки хлеба, почти без сахара, ничего мучного и сладкого.
Голодала и мучилась, но держалась стойко, жарила Володе отбивные, готовила для него люля-кебаб и шашлыки, пекла пирожки из слоеного теста, а сама ни до чего не дотрагивалась.
– Ешь, дурак мой черный, – говорил Володя, уплетая ее стряпню. – Все равно, потеряешь граммов двести, не больше, а на тебе и десяти кило убытка не заметишь.
Он был прав. В конце месяца Асмик взвесилась, чуть не заплакала от обиды и с горя отправилась вместе с Володей в соседнюю шашлычную.
Соседка по квартире Эмма Сигизмундовна не уставала прививать Асмик правила, требуемые особой дипломатией любви.
– Нельзя выкладывать мужу всю правду, – советовала она. – Женщина, даже если она жена, всегда должна оставаться загадкой, непонятной и непостижимой.
– Как это загадкой? – удивлялась Асмик. – Что я, шарада, и меня надо угадывать?
– Вот именно, – говорила Эмма Сигизмундовна. – Вы должны быть в одном лице шарадой, ребусом, анаграммой…
– Кроссвордом, чайнвордом, – в тон ей продолжала Асмик. – Нет, так я не могу и не буду. Я ему всегда все скажу в лицо, без всякой игры, что я думаю, что хочу…
Так она и делала. Не скрывала от него ничего. Не уставала повторять о том, что любит его, но в то же время, если ей что-то в нем не нравилось, говорила прямо.
Он спорил с ней, он был не из уступчивых, но случалось – соглашался. И говорил удивляясь:
– А ведь ты права! Я и сам не думал…
– Надо думать, – отвечала Асмик, прощая ему все за чистосердечное, от души, признание.
Он был скрытен от природы, но от нее не желал ничего скрывать.
Откровенно признавался:
– Меня все считали одаренным – и в школе, и в институте, и там, в больнице, где я работал. Почему-то все ждали от меня, что я должен совершить что-то необыкновенное.
– Что же? – спрашивала Асмик.
Володя обезоруживающе простодушно пояснял:
– Не знаю. Или сделать какое-то важное научное открытие, или так прооперировать, что об этом заговорит весь мир, или еще что-то…
Асмик возмущалась:
– Ты честолюбив сверх всякой меры…
Володя отвечал убежденно:
– Нет, это не то. Просто я уже давно выдал сам себе большие векселя и потому должен во что бы то ни стало их выкупить.
Ей хотелось оправдать Володю хотя бы в своих глазах.
«Он – талантлив, это же видно невооруженным глазом, а талантливые люди часто отличаются нетерпимостью, излишней самоуверенностью, пренебрежением к людям…»
И все-таки она не могла оправдать его. Как ни пыталась.
Эмма Сигизмундовна почитала своим долгом заботиться о внешности Асмик. Округлив глаза, таинственным шепотом советовала:
– Женщина, особенно тогда когда она несколько старше мужа, должна тщательно любить и холить себя. Понимаете меня?
Эмма Сигизмундовна была моложе Асмик, правда, ненамного, но не упускала случая чисто по-женски подчеркнуть разницу в их возрасте.
– Вы же гораздо опытнее меня, – говаривала она. – Мне у вас учиться, именно у вас!
– Нечему у меня учиться, – отвечала Асмик.
Эмма Сигизмундовна хотела выйти замуж, но никак не могла подобрать себе человека по душе.
– Я еще ни разу не встретила того, кто бы мне по-настоящему подошел, – признавалась она. – Все мои поклонники – это совсем не то, что мне надо!
– А что вам надо? – спрашивала Асмик.
Эмма Сигизмундовна задумчиво щурила подведенные глаза.
– Герой моего романа прежде всего должен бриться стоя и никогда не носить теплого белья.
Асмик не могла скрыть своего удивления:
– И только-то?
– Это основное, – солидно отвечала Эмма Сигизмундовна. – Все уже проверено, поверьте мне. Если он бреется стоя, значит, у него спокойный, веселый характер, а отсутствие теплого белья, даже в сильные морозы, доказывает широту натуры. Уж поверьте моему опыту.
Асмик верила. У нее был совсем небольшой опыт в этих делах.
Не дожидаясь просьб Асмик, Эмма Сигизмундовна приносила ей различные кремы, питательные, дневные, ночные, помаду, тушь для ресниц.
Когда Володя дежурил, Эмма Сигизмундовна зазывала ее к себе в комнату.
– Вот, – объявляла торжественно. – Видите, продается кофта? Хороша?
Кофта была ярко-красного цвета, отделанная тесьмой, ничего особенного, кофта как кофта.
– Последний крик моды, – тоном знатока утверждала Эмма Сигизмундовна.
– Она чересчур яркая, – робко замечала Асмик.
Эмма Сигизмундовна разражалась смехом, одновременно саркастическим и сожалеющим.
– Яркая! Да это же последний писк. Цвет взбесившейся лососины.
– Как? – ошеломленно переспрашивала Асмик.
– Цвет взбесившейся лососины, – невозмутимо повторяла Эмма Сигизмундовна. – Мне идет умопомрачительно. Хотите, примерю?
Асмик постоянно торопилась – то в больницу, то в поликлинику, то на занятия со студентами.
– Хочу, конечно, только побыстрее!
Эмма Сигизмундовна с трудом натягивала немыслимо яркую кофту, охорашивалась, вертелась перед зеркалом.
– Правда, чудесно? Хотите, примерьте, вам тоже пойдет, я уверена.
– Мне некогда, и потом, вряд ли она подойдет, я ведь толстая, – уклончиво отвечала Асмик.
Но Эмма Сигизмундовна умела настоять на своем.
– Прошу вас, дорогая, ну, ради меня…
Асмик уступала, кое-как втискивала свои мощные формы в кофту, трещавшую по всем швам.
Эмма Сигизмундовна долго всматривалась в нее. Лицо ее принимало молитвенное выражение.
– Да, – изрекала она наконец. – Эта вещь создана для вас.
– Правда? – наивно спрашивала Асмик и смотрела в зеркало, поистине не веря своим глазам.
А Эмма Сигизмундовна продолжала:
– Вы в ней совсем другая, тоненькая, как южноамериканская лиана.
И, не краснея, бесстыдно уверяла, что в этой кофте Асмик можно дать на добрых пятнадцать лет меньше, что она в ней девочка, просто девочка, да и только!
– Но я не отдам ее вам, я ее себе оставлю, она мне тоже идет, – заявляла Эмма Сигизмундовна.
Асмик великодушно соглашалась:
– Берите, какие могут быть разговоры!
Эмма Сигизмундовна вздыхала в ответ:
– Нет уж, забирайте, пока я не раздумала. Она как на вас сшита. И совсем недорого – шестьдесят пять рублей.
Асмик выкладывала ей деньги, брала кофту и ни разу не могла надеть ее.








