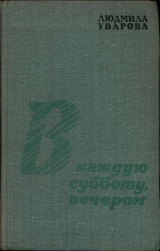
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Был конец мая, на улицах гремели марши, в окнах безбоязненно светились по вечерам цветные абажуры.
В нашей редакции отменили ночные дежурства, уже не было казарменного положения, и я могла отоспаться за все эти годы.
В один из солнечных майских дней в редакцию позвонила женщина и попросила меня прийти в госпиталь на Новинском бульваре.
Сперва я не поняла ничего. Какой госпиталь? Зачем надо мне приходить туда?
Я весело переспросила:
– Это кто меня разыгрывает? Признавайтесь!
Женщина сухо произнесла:
– Никто вас не разыгрывает. Приходите, третье отделение, шестнадцатая палата.
Она бросила трубку, и я поняла: нет, это не розыгрыш, я кому-то нужна, надо идти.
Почему-то не думалось о Васе. Наверное потому, что он сам и я всегда считали, он удачливый, серьезные раны минуют его…
Госпиталь, серый многоэтажный дом, был окружен садом.
Я вошла в шестнадцатую палату и сразу же увидела Васю.
Он лежал возле окна, глубоко вдавив в подушку забинтованную голову.
Я подошла к нему, он подмигнул мне. Я села возле его кровати, он что-то прошептал, я скорее догадалась, чем услышала:
– Как, старуха, держишься?
Руки его лежали поверх одеяла, очень худые, резко белые, с длинными, очень длинными пальцами. И лицо было бледным, – должно быть, потерял много крови. Я осторожно погладила его руки, сперва одну, потом другую.
Он спросил:
– Ну что, разве не Епиходов?
– Лежи спокойно, – сказала я.
Он чуть повернул голову, смотрел на меня, сдвинув брови, пристально разглядывая мое лицо. Глаза его то поднимались кверху, то опускались книзу.
Я преувеличенно широко улыбнулась.
– Прочесываешь меня пронзающим оком?
Он не ответил на мою улыбку.
– Мы давно не виделись…
– Вот потому и проверяешь, какая я есть?
– Потому.
Его кровать стояла спиной к окну. В окне виднелся сад, деревья в белом цвету, свежая зелень молодой травы.
– У нас там яблони, – сказал Вася, проследив за моим взглядом.
– Цветут, как им и положено, – сказала я.
– А пчелы?
– Что пчелы?
– А пчелы там есть? – спросил он. – Знаешь, когда цветут деревья весной, вокруг них всегда пчелы…
– Издали не видно, может, и они там…
– У нас многие гуляют в саду, – сказал Вася.
Я оглядела палату. Впервые увидела, что койки стоят пустые.
– Ты поправишься, и мы с тобой пойдем в сад, – сказала я.
Он кивнул.
– Это будет не скоро, не раньше осени.
– Может, и пораньше.
– Нет, не раньше осени, – упрямо повторил он.
– Есть такое правило, – сказала я. – Если деревья так здорово цветут весной, значит, осенью будет богатый урожай. Это самый верный признак. Вот увидишь!
Он спросил меня:
– Как Илюша?
– В командировке.
Он кивнул. Я догадалась, о чем он хотел спросить.
– Все по-старому, без изменений, – сказала я.
Глаза его пристально смотрели на меня, и, повинуясь этому цепкому, как бы вбирающему в себя взгляду, я продолжала:
– Мы почти не ссоримся. Честное слово.
– Верю, – сказал Вася.
Я не солгала. Мы и в самом деле почти не ссорились, если не считать мелких, быстро гаснущих вспышек, все больше с моей стороны.
Может быть, так было потому, что мы редко виделись, оба много работали, мало бывали дома?
Или же, вернее, потому, что чем равнодушнее, безразличнее становилась я к Илюше, тем удобнее было мне не видеть то, чего не хотелось видеть, и с легкостью, поражавшей самое себя, я даже старалась быть к нему ласковой – ведь мне это ровным счетом ничего не стоило; Илюша расцветал от моих ласковых слов, а мне было все равно, нравятся они ему или нет.
Вася закрыл глаза, – наверное, устал. Я посидела возле него еще немного. Он дышал тихо, почти неслышно. Уснул.
Я снова пришла на следующий день. Он показался мне бодрее, протянул руку.
– Вот и ты…
Его глаза обрадовались мне сразу же, как только я появилась в дверях. Они постоянно радовались при виде меня, его глаза, где бы мы ни встретились.
Он спросил меня:
– Как деревья? Еще не полиняли?
– Нет, белые. И пчелы так и вьются над каждой яблоней.
Он сказал:
– Жаль, не могу головы повернуть.
Вошла палатная сестра, хмурая, коротко, под мальчика, стриженная, уже немолодая. Должно быть, это она звонила мне тогда. Неодобрительно покосилась в мою сторону.
– Не следует утомлять больного.
Вася вдруг произнес звучным, полным голосом:
– Во-первых, я не больной, а раненый…
Он не договорил. Сестра настойчиво тронула меня за плечо. Я встала.
И тут он сказал:
– Поди сюда, старуха. Ближе, сюда…
– Я здесь, – сказала я.
Он прошептал:
– Открой тумбочку. Там, в углу…
Я открыла тумбочку, пошарила рукой, нащупала сверток, завернутый в бумагу.
– Это тебе…
Я развернула бумагу и вынула петуха, фарфорового, розового петуха с наглым рдеющим гребнем.
– Нравится?
– Еще бы! Это немецкий?
– Из самого города Берлина. А хорош, бродяга!
Петух был и вправду красив – необычно розового цвета, глаза рубиновые, ярко-красный гребешок.
Вася хотел еще что-то добавить, но сердитая сестра коротко приказала:
– На сегодня хватит!
Я приходила каждый день, иногда по два раза, утром и вечером.
Он заметно слабел, все спал большей частью или был в забытьи, иногда, очнувшись, взглядывал на меня, но глаза его уже не радовались, как раньше, они словно бы глядели куда-то мимо моей головы, будто пытались увидеть что-то не видное никому другому.
В тот, последний день сердитая сестра разрешила мне оставаться в палате сколько угодно.
Было уже поздно, начало второго. В коридоре на первом этаже гулко били часы. С Киевского вокзала доносился гудок паровоза.
Я глянула в окно. Ночь спустилась над садом, смутно белели в темноте все еще опушенные цветом деревья.
Вася спал. Но пальцы его шевелились, словно безостановочно искали что-то вокруг себя на одеяле.
Удивительно страшным, необычным казалось это сочетание очень белого, неподвижного лица и беспокойных, все время что-то ищущих пальцев.
Я прижалась лицом к его руке. Она была горячей, но какой-то отсутствующей. Она не ответила мне и все сновала, все сновала по одеялу.
Я негромко окликнула его, он не слышал. Тогда я склонилась над самым его лицом и сказала ему то, чего никогда раньше не говорила. Но он все дальше уходил от меня, и только глядя на его руки, я понимала, что он еще жив.
Рано утром я ушла из госпиталя.
Было уже совсем тепло, но меня знобило. Я засунула руки в карманы пальто и нащупала в одном кармане что-то твердое. Это был фарфоровый петух, последний подарок Васи.
4
А петух все кричит по ночам.
Есть что-то исконно русское, идущее от старинных легенд и преданий в этом простом и знакомом «ку-ка-ре-ку».
Он возвращает нас обратно в наше детство, где живут незлобивые выдумщики домовые и лешие и озорная старуха Баба-Яга в избушке на курьих ножках, где звери и люди превосходно понимают друг друга, где солнце самое яркое и трава самая зеленая, а реки глубже и шире моря…
Должно быть, не я одна, каждый, услышав крик петуха, вспомнит о том, что где-то, может и не так далеко, есть широкий русский простор, овраг над речкой, полевые пути, проложенные между колосьев и трав, есть рассветы и закаты, незаметные в городе…
У каждого самого что ни на есть городского жителя есть в прошлом своя деревня, и для каждого по-особому звучит крик петуха.
Говорят, он живет у кого-то поблизости, на балконе.
Вася сказал бы: «Что за удивительный сюжет!»
От нечего делать силюсь придумать историю этого самого петуха.
Может быть, некие люди переехали из деревни в город. И взяли с собой петуха. Не пожелали оставить и взяли. И так бывает.
Или поженились двое молодых. Скажем, оба работают на одном заводе. Им устроили комсомольскую свадьбу, вручили ключи от новой квартиры и для смеху подарили петуха. И они не знают, что с ним делать, как избавиться от него…
А может быть, какой-нибудь чудак просто-напросто выиграл петуха в лотерею? И поначалу хотел было зарезать петуха, но неожиданно для самого себя привязался к нему и, будучи совершенно одиноким, ухаживает за петухом, ездит на Птичий рынок, покупает для него зерно…
Или это артисты цирка. И у них живут гусь, петух и свинья. Совсем как в рассказе «Каштанка». Кто знает…
Я привыкла к нему, жду его крика каждую ночь.
В сущности, не все ли равно, где он живет, почему очутился здесь, в Москве, в самом центре?
Мне вспоминается первая сказка, самая первая, услышанная от бабушки, – про сестрицу Аленушку и братца Иванушку.
Бабушка жила в деревне Капустино, под Смоленском. Каждое лето меня привозили к ней и оставляли до осени.
Дом у бабушки маленький, приземистый, крыша поросла жесткой коричнево-зеленой травой, садик вокруг дома тоже маленький, уютный, и растут в нем ноготки, акация, львиный зев.
Мы сидим с бабушкой на бревнах возле калитки. Бревна эти здесь испокон веку, из года в год бабушка собирается пристроить к дому веранду, такую, как у соседа, сельского учителя, полукругом, поверху выложены цветные стекла ромбиком, красные и зеленые, от этих стекол на веранде праздничный, веселый свет и лица становятся попеременно то багрово-малиновыми, то цвета весенней травы.
Но год идет за годом, а бревна как лежали, так и лежат себе во дворе, сохнут от жары, мокнут под дождем, зимой доверху покрыты снегом, и, надо думать, никакой веранды отродясь не будет построено.
Так вот, мы сидим на бревнах. Вечер. За деревьями розовый закат, все небо в облаках цвета закипающих пенок малинового варенья, – кажется, так бы и лизнула хотя бы одно облачко.
В сарае бьют крыльями куры, усаживаясь на насест.
Бабушка протяжно рассказывает, будто поет:
– «Братец мой Иванушка, отзовись своей сестрице Аленушке, кровиночка ты моя, куда же ты сгинул, тихий мой стебелек, я без тебя одна-одинешенька, словно колокольчик в поле…»
«Колокольчик в поле…» Эти три слова пронзают мне сердце.
Я как бы слышу гаснущий звон колокольчика, затерянного в пустынном поле, над которым несет холодный свет тусклая луна, и я не могу сдержаться, плачу, плачу в три ручья, просто захлебываюсь от слез, а бабушка говорит:
– Ну вот, ежели так, не буду больше сказывать…
Я хватаю ее за руку, прижимаюсь мокрым лицом к темной, шероховатой, словно из старого дерева выпиленной, ладони и твержу сквозь слезы:
– Нет, еще, еще…
И она продолжает дальше.
Ночью в душной избе, в которой пахнет мятой – пучки мяты висят вдоль стен, – я лежу без сна на широкой, жаркой бабушкиной кровати и думаю о брате, о сестре.
Мне кажется, я хорошо знаю обоих. Особенно Аленушку.
О, как ясно видится мне девочка Аленушка, сидящая над тихим озером, в глубине которого, на самом дне, томится ее брат…
Я различаю ниточку пробора на маленькой голове, смуглые пальцы, охватившие колени, печальные глаза, которые стараются разглядеть дно озера, а слабый, чуть слышный голос зовет:
– «Где ты, кровиночка моя?..»
И снова слезы катятся из моих глаз, затекают за уши, я дрожу от страха, потому что мне боязно за Аленушку и жаль ее, жаль Иванушку, до того жаль…
И вдруг – вот радость-то! – первые петухи. Я поднимаю голову с подушки, и сплошная темень за окном уже не кажется такой мрачной.
Я различаю голос нашего петуха.
– Ку-ка-ре-ку! – бесстрашно, весело кричит старый петух по кличке Крикун, такой он нахальный и разбитной. – Ку-ка-ре-ку!
Крикун как бы обращается только ко мне, будто хочет уговорить: все это пустые враки, небыль, которой нельзя верить. Ему ответно откликаются другие деревенские петухи, они кричат наперебой, друг за другом, и я облегченно вздыхаю, поворачиваю подушку на прохладную сторону и засыпаю. И сплю крепко, до самого утра, когда солнечные лучи уже вовсю бродят по бревенчатым стенам, высвечивая кое-где капли застывшей смолы, а в печке горит яркий, красный огонь, и бабушка осторожно, чтобы не разбудить меня, переставляет кочергой горшки и сковороды.
С тех пор раннее солнце и огонь в русской печке слились для меня в одно исполненное счастья ощущение утра, беззаботного дыхания, освобождения от всех ночных хмарей и страхов.
Может быть, так бывает только в детстве, бездумном, счастливом бытии, в котором радость дает все – и тепло солнечного луча, и потрескиванье дров в печке, и крепенькая, налитая янтарным соком капля застывшей смолы…
И потому каждый раз, когда кричит петух, мне кажется, что крик его доносится из далекого далека, из моего детства, где когда-то девочка Аленушка сидела в тоске над обманчиво тихим озером, он доносится из Полесья – партизанского края, и снова передо мной заснеженный лес, заметенные вьюгой дорожки, тяжелое небо над головой, и Вася опять идет рядом, я вижу светлые, в коротких ресницах, глаза, слышу глуховатый голос…
Но почему же сегодня петух не кричит?
Хочу уснуть и не могу. С завистью прислушиваюсь к тихому дыханию Илюши. До чего безмятежно спит!
Я говорю:
– Илюша, проснись на минутку…
Он тут же просыпается. Он умеет мгновенно приходить в себя после самого крепкого сна, и голос его звучит трезво.
– Что такое? Тебе нехорошо?
– Нет, все в порядке. Просто захотелось поговорить с тобой.
– Нашла время! – отвечает он, и я по голосу чувствую, что он улыбается.
– Я закурю, – говорит он.
– Кури, только ты же врач, сам знаешь, курить, особенно ночью, вредно…
Он чиркает спичкой, затягивается дымом.
– Жить тоже вредно, от этого умирают…
Я знаю, что он постоянно изрекает неоспоримые истины и ему трудно противоречить. Поэтому он всегда прав.
Должно быть, у каждого бывают такие вот минуты, когда хочется открыто, безбоязненно выложить о себе все, что есть, и сознавать, что тебя слушают и понимают.
Я говорю:
– Знаешь, у меня была очень добрая и умная бабушка.
– Бабушка? – переспрашивает он. – Ну и что с того?
– Ничего. У меня было хорошее детство, такое, какое необходимо человеку для последующих лет. Детство – это что-то вроде подпорок, чем они сильнее, тем и человек сильнее.
– Дорогая моя, – медленно произносит он и чертит в темноте красным глазком сигареты, – что это с тобой нынче? Почему ты так философски настроена?
– Ничего особенного. Я такая, как всегда. А у тебя было хорошее детство?
Спрашиваю и вдруг понимаю, что я же забыла. Все как есть забыла. Он же мне все о себе рассказал давным-давно.
Но он не обижается на меня за мою забывчивость и охотно отвечает:
– Я – потомственный врач. У нас в семье были все врачи.
– И все умели лечить? – спрашиваю я. – Правда?
– В меру своих сил, – с достоинством говорит он.
Гасит сигарету, шарит ногами по коврику, ищет домашние туфли. Никогда не пройдет босыми ногами по полу. Потомственный врач…
– Друг мой, уж не заболела ли ты? – спрашивает он, подойдя ко мне, и кладет руку на мой лоб.
– Нет, нисколько.
Он щупает мой пульс. В темноте я представляю себе, как он сводит вместе свои красивые, длинные брови и считает про себя удары.
– Да, – говорит он наконец, – пульс нормальный, хорошего наполнения.
– Я знаю. И давление в самый раз.
Он не принимает моего шутливого тона.
– Допустим. Но что-то ты сегодня как-то несуразно изъясняешься. Прими элениум, скорее заснешь. Хочешь?
– Нет, не хочу. Иди ложись, я больше не буду.
Он послушно ложится на свой диван.
– Поспать бы еще немного…
Тихо кругом. И петух молчит. А почему? Ну почему же?
Я говорю громко:
– Куда это наш петух подевался?
– Почему наш? – спрашивает Илюша и, не дождавшись моего ответа, говорит: – Никуда он не подевался. Просто больше он уже не будет нас беспокоить.
– Как не будет? Почему?
– Потому. С ним все, как говорится, инцидент исперчен.
Я встаю, сажусь на кровати. Очень мне это все непонятно.
– Помнишь, у Маяковского? – спрашивает Илюша и первый усмехается. – Он тогда так и написал, не «исчерпан», а «исперчен». Инцидент исперчен.
Я говорю нетерпеливо:
– Знаю, знаю, ты у нас начитанный. Так что же все-таки случилось с петухом?
– Я же тебе сказал: больше он не будет нас беспокоить.
– А где же он?!
– Ну чего ты, в самом деле, волнуешься?
– Скажи, где петух?
– О женщины, кто их поймет? – спрашивает Илюша. – Ты же знаешь, в городе нельзя, недопустимо держать птиц и крупных животных. Они бы еще корову завели.
– Кто они?
– Этого я не знаю. В милиции разберутся, кто такие…
– При чем здесь милиция?
– При том, что я написал в наше отделение и участковый, очевидно, уже забрал его. Или сами хозяева ликвидировали своего крикуна.
– Ты? Ты написал?
– Да, я. А что? Теперь же, сама видишь, полный порядок…
Он удовлетворенно вздыхает, как человек, исполнивший свой долг.
Поворачивается на бок, сонным голосом говорит:
– Еще бы немного поспать…
И засыпает. Он всегда быстро засыпает и никогда не видит снов.
Даже хвастает порой:
– У меня не бывает снов. Значит, мой мозг отдыхает полностью.
И сейчас его мозг отдыхает полностью, он спит, кругом тихо, очень тихо.
А я не сплю. Я плачу, уткнувшись лицом в подушку.
Новоселье
Старуху Пастухову, уборщицу Музея изобразительных искусств, не любили ни на работе, ни дома – соседи по квартире.
Впрочем, она об этом знала, но нисколько не сокрушалась.
– Характер у меня такой, никогда ничего не скрою, всю правду в глаза выложу, ни на что не погляжу, – говорила она о себе и старалась так действовать: не таить в себе ни единой мысли, а высказать каждому прямо в лицо все то, что она о нем думает.
Было ей уже далеко за шестьдесят, и председатель месткома не раз заводил разговор о том, почему бы не пойти ей на заслуженный отдых, ведь достаточно уже потрудилась на своем веку, но она сразу же обрывала его на полуслове:
– Пойду в свое время…
И на этом разговор кончался. Иные спрашивали ее:
– Не скучно ли жить одной?
Она отвечала:
– Я скучать не приучена.
И это было правдой, потому что дел у нее было по горло, ни одного дня не провела она сложа руки. То, придя с работы, займется уборкой – моет полы и дверь, обметает потолок, то задумает стирку или начинает выбивать во дворе старый коврик.
Но главным ее занятием было после работы – подыскивать обмен своей жилплощади.
Она покупала справочники по обмену, изучала предложения, казавшиеся ей заманчивыми, выписывала на бумажку наиболее подходящие, а по выходным дням смотрела комнаты.
Глаз у нее был острый, она сразу замечала все то, на что другой человек и внимания не обратил бы, – скрипучие половицы, неисправную форточку, разбитую дверь, облезлую раковину на кухне.
Не ленясь, она заходила в соседние квартиры, чтобы исподволь раздобыть сведения о жильцах, – каковы в быту, не скандальные ли, есть ли пьющие, или, чего доброго, может, кто на руку нечист, потом шла в домоуправление и допытывалась, не собираются ли снести дом, а ежели собираются, то в каком приблизительно году.
В свой черед люди тоже приходили к ней, и в конечном счете с кем-нибудь из них она сговаривалась меняться.
Начинались новые хлопоты – выписки из лицевого счета, заполнение различных бланков для обменбюро, добывание справок о состоянии домового хозяйства и точно рассчитанном количестве квадратных метров.
Дело доходило до получения ордеров, уже обсуждался вопрос, куда раньше должна прийти машина для перевозки вещей и кому из обменивающихся сторон надлежит произвести ремонт, как вдруг Пастухова ни с того ни с сего отказывалась меняться.
– Я передумала, – упрямо твердила она на все уговоры, – никуда не поеду. Не хочу – и все тут. Что вы со мной сделаете?
И вот таким образом обдуманный с начала и до конца обмен безнадежно рассыпался.
Хотя на работе ее не любили и за глаза называли старой ведьмой, но все отмечали ее исполнительность и точность.
Ни разу за сорок четыре года работы в музее она не опоздала, ни разу не было у нее ни одного прогула.
И на общих собраниях директор музея постоянно ставил ее в пример, считая образцом аккуратности и бескорыстной любви к музею.
Пастухова не подавала вида, но млела от удовольствия, что, впрочем, не мешало ей при случае высказать любому человеку, хотя бы и самому директору, в глаза все то, что считала нужным, например, свое недовольство излишней снисходительностью, проявляемой к малярам, которые, по ее мнению, относились к ежегодному ремонту помещений музея очень недобросовестно.
Говорила она все это с присущей ей горячностью, потому что и в самом деле ее любовь к музею отличалась подлинным бескорыстием.
Когда Пастухова была моложе, ей предлагали более выгодную работу, например, лифтершей в высотный дом или курьером в издательстве, но она не соглашалась.
– Тут у меня глаз всему радуется, – поясняла она, – на что ни гляну, кругом одна красота, а, скажем, у лифта сиди, чего там увидишь?
Иные считали, что Пастухова могла бы вполне заменить кое-кого из экскурсоводов, настолько хорошо изучила она за все эти годы экспонаты музея, имена художников и скульпторов, наизусть зная даты их рождения и смерти.
Залы музея обладали особым, присущим каждому очарованием, но для Пастуховой самым любимым, самым привлекательным был Итальянский дворик, где у входа возвышалась гигантская статуя Давида Микеланджело. Поэтому она особенно любила убирать в Итальянском дворике. И посетители удивленно поглядывали на тощую старуху с коротко стриженными седыми волосами и костистым лицом, которая подолгу выстаивала то возле римского всадника, то еще возле флорентийского льва Донателло, пришептывая про себя и кивая головой, словно переговаривалась с кем-то, не видимым никому, кроме нее. Потом она подходила к Давиду, каждый раз удивляясь совершенной красоте его лица и тела.
«Бывают же такие мужики! – думала Пастухова, чувствуя себя рядом с огромной статуей совсем маленькой, почти невидной. – И откуда только такие берутся? Какой же он был, этот самый великий скульптор Микеланджело, создавший пять сотен лет тому назад своего Давида? Должно быть, перво-наперво человек умный и старательный, шутка ли, сколько сил и времени, наверное, потратил, пока вырубил из мрамора этакое чудо?..»
Жила она в большой, густо населенной квартире. Квартира была шумной. С утра до вечера по длинному коридору бегали дети, а в кухне впритык один к другому стояли столы и горелки двух плит, казалось, никогда не уставали пылать под чайниками, кастрюлями и сковородками.
Пастухова была в ссоре решительно со всеми жильцами. Поводов для ссор было предостаточно: шум в коридоре, не вовремя раскрытая входная дверь, пролитая на пол вода, счет за электричество, который полагалось делить на всех…
Ругалась она громко и долго, не уставая, на одной и той же ноте, и всегда, из любой перепалки выходила победителем, потому что переспорить Пастухову было невозможно.
Пастухову боялись, придумывали ей разные неблагозвучные прозвища, из которых наиболее мягким было «баба-яга», но она не обращала внимания на все прозвища и оскорбления, себе цену знала, могла за себя постоять. А такие люди, которые себя в обиду не дают, известное дело, не каждому угодны.
На здоровье она никогда не жаловалась, однако последнее время стала плохо спать по ночам.
Ложась в постель, сразу же засыпала, но уже через час просыпалась и лежала до самого утра, сна ни в одном глазу.
Как-то пошла в районную поликлинику, попросила у доктора снотворных капель. Доктор выписал, но толку никакого: сна как не было, и так из ночи в ночь.
И она уже постепенно привыкла не спать и, лежа в постели, от нечего делать начинала перебирать в памяти свою жизнь, которая временами казалась ей то необыкновенно долгой, а то совсем коротенькой, оглянуться не успела, как состарилась…
Вспоминался бывший муж, веселый и красивый, не дурак выпить, бабий угодник. Смотрел на нее смеющимися, серыми в черных ресницах глазами, улыбался, и на щеке появлялась ямочка…
«И чего в нем такого было, что бабы за ним гонялись? – думала Пастухова. – Чем он их привечал?»
Жить ей с ним было тягостно. Он часто приходил поздно, выпивши, виновато поглядывал на нее и неуклюже, путано начинал врать, что вот так получилось, зашел к приятелю, засиделся, не заметил, как время прошло…
Он говорил, но не в силах был погасить блеск в глазах, и она понимала, что он врет, отворачивалась от него, молчала.
Она умела молчать сколько угодно, хоть целый месяц, а он не мог выдержать этого ее упорного молчания, приставал к ней:
– Что с тобой, Полина? Почему ты такая?
Но она все молчала, и он опять приходил поздно, и снова врал, и красивые глаза в черных ресницах его ярко блестели.
Она ни с кем не делилась, никому не жаловалась, с одной лишь Настей поделилась, со старой и единственной подругой, с которой всю молодость провела на одной и той же улице – на Шаболовке.
Настя сказала тогда:
– Да плюнь на него, не смылится…
Настя была полной, розовощекой, о ней говорили: «вальяжная». Яркие губы полуоткрыты, брови темные, куда темнее волос, шея белая, сдобная, возле ключицы родинка.
Пастухова всю жизнь завидовала Насте, переживала за нее, если что с ней случалось, но не могла побороть своей зависти.
А завидовать было чему. Первым делом – красивая, когда приоденется, расчешет и уберет густые, ржаво-коричневые волосы, глаз не отвести.
Потом муж попался хороший, покладистый. Настино слово для него закон.
А самое главное – Настин сын, Петя. Все кругом считали, второго такого мальчика не сыскать. Всем взял – и умом, и характером, и лицом, в школе учился на одни пятерки, а окончил школу – поступил в летное училище, стал летчиком.
Что только не делала Пастухова, чтобы родить! Даже однажды, по Настиному совету, Настя и адрес для нее раздобыла, отправилась к какой-то бабке, отвалила этой самой бабке целых двадцать пять рублей старыми деньгами, два месяца пила настой из трав, сколько порошков да пилюль сглотала.
Ничего не помогло.
Настя утешала ее:
– Без детей спокойнее…
Но Пастухова знала, это так, одни только слова, ничего больше. Смотрела на Петю, удивительно схожего с Настей чистым, ясноглазым лицом, и сердце ее полнилось горькой завистью.
А в войну Петя погиб. Он летал на тяжелых бомбардировщиках, в самый Берлин летал, и осенью сорок второго пришла Насте похоронка.
Пастухова поехала тогда навестить Настю – и не узнала ее.
Опухшая, с нечесаными, спутанными волосами, Настя тупо смотрела на разложенные перед ней Петины фотокарточки, от самой первой, где он, двухмесячный, лежит на животе, голым задиком кверху, до последней, снятой весною, в летной форме, фуражка набок.
Пастухова села рядом с Настей, оглядела Петины фотокарточки и вдруг завыла в голос, раскачиваясь и стуча кулаком по тощей груди.
А Настю словно кто сглазил, одно несчастье за другим. Уже в конце войны пришла вторая похоронка – на мужа. Вот тогда Настя впервые призналась подруге:
– Хорошо тебе, муж-то под боком…
– Да, мне позавидуешь, – не без усмешки над собой сказала Пастухова, потому что хотя и шли годы, а муж все не менялся, как был, так и остался гуленой и бабником.
Всю войну он работал мастером на камвольном комбинате, у него была бронь, и случалось, по целому месяцу не являлся домой, жил на казарменном положении.
Под это дело он легко устраивал свои, как выражалась Пастухова, «шашни и страшни», и она догадывалась обо всем, но ничего не могла изменить.
И оставалось одно испытанное – молчать.
А потом, уже когда война кончилась, добрые люди сказали, она не поверила – он спутался с Настей.
Настя была опять хороша собой, постепенно уже стала отходить от своего горя, снова начала наряжаться, мазать брови и губы, и Пастухова дивилась:
«Вроде мы одногодки, а Настя с виду куда как моложе!»
На этот раз она решила выследить, своими глазами увидеть.
И выследила. Терпеливо дождалась, пока заперли они дверь и занавесили окно, а потом ринулась с заранее припасенным железным ломиком, сбила дверь с петли.
Никогда не забыть Настиных безумных глаз, белой шеи, на которой чернела знакомая родинка.
Настя плакала, закрыв лицо руками, густые, уже сквозившие сединой волосы упали на ее голые плечи, а муж только глядел ошеломленно на Пастухову, будто впервые увидел.
Пастухова хотела было в кровь избить Настю, но почему-то передумала. Почему, теперь и не вспомнить.
Не глядя на мужа, сказала:
– Все. Домой не приходи, выгоню…
И ушла. В коридоре собрались соседи, смеялись, кричали. Пастухова как во сне прошла по коридору, перед ней расступились, она вышла на улицу, остановилась, перевела дыхание, потом побежала, словно кто за ней гнался.
Так она и не видела с той поры ни мужа, ни Насти. Стороной узнала, муж не остался с Настей, у него другие были, помоложе, вскоре он завербовался и уехал куда-то на Север. А Настя осталась жить там же, где и жила.
Под Новый год Пастухова все же сменяла свою комнату. Получилось это почти неожиданно для нее самой.
Стояла на улице за дешевыми яичками, подошла ее очередь, яички, как назло, кончились.
– А ну погляди, – попросила Пастухова продавщицу, – может, хотя бы десяток наберется?
Продавщица, молодая, крепкотелая, в белом халате, туго натянутом на зимнее пальто, пересчитывала рублевые бумажки не гнущимися с мороза пальцами.
Не поднимая головы, бросила:
– Чего искать, если нету? Приходите завтра…
– Завтра, – сердито проговорила Пастухова, – ты меня завтраками не корми, мне работать надо, а не в очереди выстаивать…
Продавщица подняла голову, усмехнулась.
– Работать? Да тебе, бабка, внуков впору нянчить, какая у тебя еще работа?
Она, разумеется, не знала, что такого говорить Пастуховой нельзя.
Пастухова поставила для удобства кошелку на тротуар, сдвинула платок на затылок – и пошла-поехала поносить продавщицу на чем свет стоит.
В этом деле она не знала себе равных. Слова вылетали из ее рта, одно другого язвительней и хлеще, и чего только она не наговорила продавщице, словно наперед изучила всю ее биографию.
И спекулянтка она, и воровка, и если бы можно было, то надлежало бы выслать ее в такое место, где такие вот спекулянтки обретаются, и никогда ни на одну минуту не пускать обратно, в Москву.
Продавщица обалдело воззрилась на нее, как бы разом лишившись голоса. Собралась толпа. А Пастухова все кричала, позабыв обо всем на свете, и опомнилась лишь тогда, когда милиционер взял ее за руку и приказал следовать за собой.
В этот же самый миг продавщица, зверски обруганная Пастуховой, обрела дар слова.
Скорее удивленно, чем зло, сказала:
– Ну и бабка! Должно, одна такая на всю столицу!
– Да уж не тебе чета, – огрызнулась Пастухова, которую милиционер между тем пытался оттащить в сторону.
– Ишь ты, – передразнила ее продавщица. – А ты бы все-таки, прежде чем поддувало свое раскрыть, подумала бы да поняла, что я тоже человек!
– Человек! – презрительно бросила через плечо Пастухова.
– Да, человек, – внезапно со слезами в голосе воскликнула продавщица. – Если хочешь знать, есть у меня десяток, да, есть, для себя припасла, не скрою, вот сейчас повезу его через весь город на Шаболовку, потому как, кроме меня, кому еще мои дети нужны, кто о них душой болеет?
И еще что-то кричала она вслед Пастуховой, все более распаляясь от собственных слов, но Пастухова уже не могла ей ничего ответить, потому что милиционер крепко держал ее под руку и заставлял идти вровень с ним довольно быстрым шагом.








