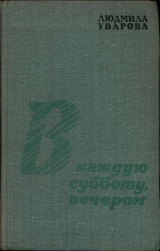
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Бабушка села за стол, накрытый белоснежной скатертью, с крахмальными салфетками, продернутыми в кольца, возле прибора вазочка с цветами – бабушка любила красивую сервировку.
– Неужели я забуду о тебе? – спросила бабушка и, разломив цыпленка, дала собаке добрую половину.
Бабушка обожала животных. Дома, в Ереване, в трех комнатах ее квартиры вместе с ней жили пять кошек, три пса, грач и голубь. Всю эту команду она подобрала в разное время на улице.
Асмик смотрела на собаку, яростно уничтожавшую цыпленка, напряженно соображая, что с ней делать.
Бабушка словно бы прочитала ее мысли.
– Тебе, естественно, трудно с собакой. Собаке нужен уход. Моя Шушка гуляет с псами четыре раза в день, так ведь она целый день дома, и потом, здорова и молода!
Шушке, всю жизнь прожившей с бабушкой, было тоже что-то около семидесяти, но бабушка упорно продолжала считать ее девчонкой и всячески ее воспитывала.
Черные глаза бабушки нежно оглядывали собаку.
– Как по-твоему, это она или он?
– Мальчик, – сказала Асмик. – Еще совсем молодой, по-моему…
– Мальчик, – повторила бабушка. – Надо его назвать. Ни одно живое существо не может жить без имени.
Пес между тем, наевшись, блаженно развалился на ковре, подняв кверху все четыре лапы.
– Сибарит, – любовно сказала бабушка. – Нет, ты только погляди на этого ленивца!
– Вот так и назовите, – сказала Асмик. – Ленивец!
Бабушка нагнулась, погладила пса по теплому брюшку.
– Ладно, – милостиво согласилась она. – Пусть будет Ленивец.
Задумчиво поглядела на Асмик:
– Имя придумали, а что дальше с ним делать?
– Как-нибудь устроим, – ответила Асмик, мысленно прикидывая, кто из ее друзей согласится взять собаку.
– Не ломай голову, – сказала бабушка. – Я возьму его с собой.
– Вы?
– Да, я, собственной персоной. У меня есть Фунтик, Шарик и Пузырь. Теперь к ним присоединится Ленивец. Прелестно!
Асмик хотелось помочь бабушке собираться. Но бабушка оставалась верна себе. Она не любила и не признавала ничьей помощи.
Утром она написала выступление для радио, выправила статью для газеты «Известия», потом побежала по магазинам и явилась только к обеду, усталая, но довольная, накупив всякой, большей частью бесполезной, всячины для ереванских друзей.
Асмик смотрела, как она запихивает в чемоданы новые свертки на место тех, которые она везла в подарок москвичам, – вязаные кофты, деревянные матрешки, жестевские шкатулки и подносы.
– А это тебе, – сказала бабушка, протягивая Асмик голубой пушистый шарф. – Видишь? Настоящий мохер, чистая шотландская шерсть. Я его случайно в комиссионном магазине увидела.
– Но это же ужасно дорого, – сказала Асмик, накидывая шарф на плечи.
– Не твое дело, – огрызнулась бабушка. – Мне мое государство платит достаточно денег!
Кроме всего прочего, бабушка купила еще великолепный кожаный ошейник для Ленивца и металлический поводок.
– Только себе вы ничего не купили, – грустно заметила Асмик.
Она знала, бабушка никогда не примет никакого подарка, даже от нее. А самой себе все равно ничего не купит – ей ничего не нужно.
Поминутно звонил телефон, Асмик не успевала подходить, все время спрашивали бабушку. Звонили из Академии наук, из радиокомитета, из редакций газет. Зычный голос бабушки гремел на весь дом.
Ленивец то и дело разражался лаем. Было шумно и весело.
Асмик представила себе, как пусто, тихо станет в ее квартире после отъезда бабушки. И скучно. Так скучно…
– Лучше бы уж вы не приезжали, – сказала она искренне.
Бабушка поглядела в затуманившиеся глаза Асмик, легонько щелкнула ее по носу.
– Девочка, – начала она, но в это время вновь зазвонил телефон в коридоре, и бабушка снова ринулась к телефону и опять кого-то громила, кого-то наставляла, кому-то что-то советовала.
Уже сидя в такси, по дороге на вокзал, Асмик спросила:
– Когда же вы опять приедете?
– Не знаю, – ответила бабушка.
– Может быть, на Октябрьскую…
Черные глаза бабушки казались матовыми, как бы притушенными.
– Девочка, – сказала она, – в моем возрасте нельзя загадывать больше чем на один день, от силы – на два.
Маленькая смуглая рука ее держала Ленивца за поводок. Сухая, энергичная, много поработавшая на своем веку рука.
Асмик разглядывала морщинистую кожу, склеротические вены на бабушкиной руке, каждую жилочку, словно впервые видела. И впервые ей подумалось, что бабушке в самом деле восьмой десяток и она уже не вольна распоряжаться своими днями…
Асмик наклонилась, взяла бабушкину руку, прижалась к ней щекой.
– Тебе жарко, – сочувственно произнесла бабушка. – А у меня почему-то всегда холодные руки. Игра кровообращения…
В вагоне было еще малолюдно, они приехали чересчур рано. Играла музыка, транслируемая по динамику. Первым делом бабушка выдернула шнур.
– Ненавижу радио, да еще в вагоне.
Ленивец поднял кверху морду.
– Хочешь пить? – забеспокоилась бабушка. – Ты слышишь, Асмик, он наверняка хочет пить!
– Ничего он не хочет, – сказала Асмик, ей было неохота бегать, искать для Ленивца воду и посуду.
Ленивец вскочил на скамейку и улегся рядом с бабушкой.
– Он худой, – заметила бабушка. – Это не только от возраста, но еще и от плохого питания. Буду кормить его рыбьим жиром. Да, да, – повторила она. – Мои собаки получают раз в день рыбий жир. Как ни говори – витамины!
Она с нежностью провела рукой по голове Ленивца.
– Я вызову на консультацию одну знакомую. Она у нас в Ереване большой человек – член бюро секции фокстерьеров. Она мне может многое посоветовать.
– Но ведь это не фокстерьер, – сказала Асмик. – Это явный дворянин.
– Ну и что с того? – удивилась бабушка. – Дворняжки самые понятливые собаки. Недаром их и в космос посылают…
В купе вошел высокий, осанистый старик, держа в руке букет белых, полурасцветших роз.
– Простите, – сказал он, глядя на собаку. – Я, кажется, совсем не туда…
Потом он увидел бабушку, и лицо его сразу просветлело.
– Сергей Арнольдович, – сказала бабушка, – вот не ждала!
– Дорогая Ашхен Ованесовна, – сказал старик, картинным жестом приподняв шляпу, – разрешите вручить вам…
Он протянул ей розы. Бабушкины глаза стали совершенно круглыми.
– Это еще что такое? – густым басом произнесла она, отталкивая от себя цветы.
Сердито обернулась к Асмик:
– Ты, надеюсь, помнишь академика Восковатова? Сергей Арнольдович, моя внучка.
Восковатов низко склонился над рукой Асмик.
– Счастлив за вас, – сказал он проникновенно, – что у вас такая чудесная, необыкновенная бабушка! Если бы вы знали, как она мне помогла в этот свой приезд, если бы вы только знали!
– Я попрошу вас, – строго сказала бабушка.
Он шутливо прижал руки к груди:
– Не буду, каюсь, никогда в жизни!
– А это вы примите, – так же строго сказала бабушка, кивая на цветы. – И никогда больше, слышите, никогда в жизни!
Восковатов улыбнулся:
– Помилуйте!
– Не буду миловать, ни за что, – сказала бабушка. – Вы же знаете, терпеть не могу всякие подарки!
– Но какой же это подарок, это – цветы, розы…
– Подарите их своей жене, она оценит.
На бледное, благообразное лицо Восковатова упала тень.
– У меня нет жены, дорогая Ашхен Ованесовна, она умерла пять лет тому назад.
– Тогда отдайте любимой девушке, – сказала бабушка.
Восковатов посмотрел на Асмик, как бы ища в ней защиту.
– Ну, скажите на милость, любимая девушка? Мне же шестьдесят восьмой минул…
– А, мальчишка, – безапелляционно заключила бабушка.
В дверях купе встала молоденькая, краснощекая проводница.
– Что, ваша собака не кусается? – спросила она.
– Еще чего, – ответила бабушка. – А вы что, собак боитесь?
– Очень, – призналась проводница.
Бабушка подняла кверху палец.
– Бойтесь плохих людей, – наставительно произнесла она. – А собак бояться не следует, ибо четвероногая подлость никогда не догонит двуногую.
– Великолепно сказано, – одобрительно заметил Восковатов.
Проводница оглядела сидевших в купе.
– Какие розы, – восторженно сказала она. – Одна к одной!
– Вам нравятся? – спросила бабушка.
– Еще бы!
– Так возьмите их себе. Сергей Арнольдович, преподнесите девушке розы. Вот кому они подойдут как нельзя лучше!
– Спасибо, – ошеломленно сказала проводница, – большое спасибо. Только зачем вы это мне?
– Сколько еще времени осталось? – спросила бабушка. – Клянусь честью, по-моему, мы сейчас отправляемся.
– Через шесть минут, – испуганно проговорила проводница. – Совсем забыла…
Асмик и Восковатов вышли на перрон, глядя на бабушку, стоявшую у окна. Бабушка громким басом приказывала Восковатову проводить девочку, то бишь Асмик, хотя бы до метро.
Асмик отвернулась, быстро вытерла глаза. В каждом расставании, даже в самом коротком, заключено зерно горечи. Ведь и короткое прощание может обернуться вечной разлукой, и тогда слово, сказанное наспех, и торопливый взгляд, и улыбка уже обретут в памяти иное, глубокое, ничем не изгладимое значение.
И Асмик с жадностью и неистребимой нежностью и любовью к бабушке смотрела на ее лицо, на худые руки, на седые, чуть колеблемые легким ветром коротко стриженные волосы.
– До свидания, бабушка. До свидания, до скорой встречи!
Поезд тронулся. Перебивая стук колес, послышался уже ставший знакомым лай Ленивца. В окне заметался белый платок. Бабушка долго махала им, до тех пор, пока поезд не скрылся вдали.
Асмик обернулась к Восковатову. Старик задумчиво смотрел вслед поезду.
– Странное дело, – сказал он. – Когда-то мне думалось, что она играет в оригиналку и сама втянулась в эту игру и уже не может иначе.
– Она не умеет играть, – несколько высокомерно ответила Асмик.
– Теперь я это тоже понял, – сказал он. – Ведь это поистине великой души человек. Вы даже сами не понимаете, какая душа в этом хрупком теле!
– Понимаю, – ответила Асмик. – Почему вы думаете, что я не могу понять?
10
Асмик получила у портнихи черное платье и по привычке начала дома сама перешивать его.
Она отпустила подол, заложила на талии складочку и пришила вместо английского другой воротничок – кружевной, кремового цвета.
Эти кружева хранились у нее с незапамятных времен, она гордо говорила о них: «старинный валансьен» – и решительно не знала, куда их приспособить. Но вот час настал – и она приспособила.
Потом примерила платье. В зеркале отражались ее красные, всегда как бы с мороза щеки, курчавые волосы, блестящие, словно смородина после дождя, глаза.
Асмик обычно говорила:
– Невнимательные люди считают, что у меня черные глаза, а на самом деле – темно-карие.
Она разгладила на себе платье обеими руками.
«Если бы сбросить килограммов пятнадцать…»
Она не любила унывать. Что ж, кому-то надо быть и толстым.
Вечером Асмик надела новое платье, нацепила огромные клипсы из черного стекла, которые ей бессовестно продали за агаты чистейшей воды, смочила волосы под краном и туго-натуго завязала марлей, чтобы лежали лучше.
Зазвонил телефон. Это была Туся.
– Я готова, – сказала Асмик. – Сейчас наведу красоту, и все.
– Где встретимся? – спросила Туся.
– У метро «Белорусская».
– Хорошо, значит, ровно в семь.
– Ровно в семь, – подтвердила Асмик.
В половине седьмого к ней пришла хорошенькая светлоглазая Ляля Шутова, ординатор отделения. Лялины глаза казались совершенно светлыми: в них стояли, не проливаясь, крупные слезы. Она вынула из сумочки два билета.
– Вот, – пролепетала Ляля. – Сегодня в консерватории «Реквием» Моцарта. И он меня ждет под Чайковским, а я…
Голос ее оборвался. Пальчиком осторожно она смахнула слезы, сперва с одного глаза, потом с другого.
– Кто тебя ждет? – спросила Асмик. – Сам Моцарт? Тот, который Амадей да еще Вольфганг?
– Вы все шутите, – несколько театрально произнесла Ляля.
– Ну что там еще? – уже серьезно спросила Асмик. – Дежурство?
Ляля кивнула. По левой щеке ее поползла одинокая слезинка.
Асмик сняла марлю с волос, и они мгновенно встали торчком, словно обрадовались, что вырвались из плена.
Лялины глаза просияли.
– Я знала, Асмик Арутюновна, вы не откажете мне…
Через минуту Ляля уже улыбалась и весело щебетала о том, как она любит «Реквием», он такой грустный и торжественный, и Виталий тоже любит «Реквием», и он ждет ее у памятника Чайковскому и думает, наверно, она уже не придет, а она тут как тут, и как же все хорошо получилось.
– Беги, – сказала Асмик. – Я буду к восьми…
Озабоченно покосилась на часы, а когда подняла глаза, Ляли уже не было, словно растворилась в воздухе.
– Теперь надо к Белорусскому, – сказала сама себе Асмик. – А оттуда в больницу.
Она сняла новое платье, надела вязаную кофточку и старую, блестевшую от долгой носки юбку.
Со вздохом облегчения освободила уши от клипсов.
Выйдя в коридор, постучала соседке.
– Эмма Сигизмундовна, если кто будет звонить – скажите, я в больнице на дежурстве.
Эмма Сигизмундовна приоткрыла дверь, скривила круглую кошачью мордочку.
– У вас что ни день – дежурство, дорогая моя, – пропела она. – А где же личная жизнь?
– Все впереди, – на ходу ответила Асмик и быстро сбежала с лестницы.
Туся ждала ее около старого входа в метро.
Завидев Асмик, она молча, укоризненно протянула ей руку, на которой блеснули часы: двадцать минут восьмого.
– Знаю, знаю, – отдуваясь, сказала Асмик. – Я прибежала сказать, что не пойду.
Туся изумленно уставилась на нее:
– Почему?
– Дежурю.
– Начинается, – сказала Туся.
– Вот так вот. – Асмик распахнула воротник пальто, ей было жарко. – Всем привет!
– Сумасшедшая, – сказала Туся. – Так ты только для этого и прибежала сюда?
– У тебя же нет телефона, – бросила через плечо Асмик и помчалась догонять троллейбус.
Спустя час она позвонила Михаилу Васильевичу, отцу Сережки.
– Ах, Асмик, – сказал он. – Креста на тебе нет.
– Что ж поделать, – виновато ответила она. – Дежурство…
А дежурство было и в самом деле беспокойным. В седьмой палате лежали три женщины после операции, всех троих оперировали примерно в одно время, и теперь, когда уже кончилось действие эфира, они громко стонали и все время звали к себе то дежурную сестру, то врача.
В четыре часа утра привезли молодую женщину с грудным ребенком. У женщины случился перекрут кисты, ее надо было срочно оперировать, а ребенок был пятимесячный, и женщина через силу покормила его, и ее отправили прямехонько в операционную, а ребенка в специальное отделение для детей.
Работала Асмик, как обычно, без спешки. Поверх белой марли, прикрывавшей лицо, сверкали ее глаза, и, повинуясь глазам Асмик, понимая каждый ее взгляд, операционная сестра быстро и точно подавала ей то скальпель, то кровоостанавливающие зажимы.
У молодой женщины было великолепное тело – белое, упругое, с превосходной мускулатурой, с хорошо развитым брюшным прессом: просто обидно было уродовать такой скульптурный живот продольным швом, и Асмик постаралась – сделала косметический шов, тонкий и ровный, который со временем станет совсем незаметным, – по Пфаненштилю.
Это заняло больше времени, зато когда-нибудь молодая женщина вспомнит ее добрым словом за такой шов…
Асмик стояла у раковины, сняв перчатки, мыла руки и напевала что-то веселое: сама собой была довольна.
В больнице про нее говорили: она умирает и выздоравливает с каждым своим больным. И сама Асмик считала – точнее не скажешь!
Она натянула сползшую простыню, провела холодной от умывания рукой по горячему лбу женщины.
Вот бедняга, надо же так, перекрут кисты, а тут еще корми ребенка!
В коридоре, у окна, лежала Фомичева, старая работница с шелкоткацкой фабрики, высохшая и желтая, словно ветка осенью.
Асмик присела на ее кровать, взяла в обе ладони легкую, как палочка, руку. Посмотрела в серые, полузакрытые глаза.
Грудь Фомичевой – на ней можно было пересчитать все ребра – тяжело вздымалась, в горле все время что-то клокотало.
Мимо пробежала сестра, бросила жалостно через плечо:
– Все еще мучается!
– Подожди, – остановила ее Асмик. – Дай понтапон.
Фомичева что-то пролепетала. Асмик склонилась низко к ее губам.
– Все, – услышала Асмик. – Все, все…
– Ничего не все, – сказала Асмик. – Тоже мне выдумала, все. Сейчас заснешь, долго будешь спать, а проснешься, мы тебе апельсин дадим. Хочешь апельсин?
– Хочу, – прошелестела Фомичева. Слабое подобие улыбки мелькнуло на ее костлявом, обтянутом кожей лице.
Сестра взяла руку Фомичевой, отыскивая место, куда бы уколоть. Сомневаясь, покачала головой:
– Все исколото.
– Найдешь, – сказала Асмик.
Она не отошла от Фомичевой, пока та не заснула. Дыхание стало ровнее, но в горле все время что-то клокотало, будто там билась, не утихая, раненная насмерть птица.
– До чего мучается, бедная, – сердобольно сказала сестра. – Хоть бы скорее уж…
Асмик сверкнула на нее черным глазом:
– Это не твое дело!
В восемь утра кончилось дежурство Асмик. Она составила рапортичку – отчет о прошедшей ночи, потом отправилась в кабинет заведующего отделением: там происходила обычная утренняя конференция врачей.
Потом ее вызвали в местком, попросили поехать в Мытищинскую больницу сделать доклад о современных методах хирургии.
– Хорошо, – согласилась Асмик. – Когда надо ехать?
– Вас ждут к трем часам, – сказали ей.
– Тогда у меня еще уйма времени, – обрадовалась Асмик. – Успею хорошенько выспаться!
Внизу гардеробщик Василий Тимофеевич, которого все запросто звали дядя Вася, с поклоном подал ей пальто.
– Вроде нынче не ваше дежурство, Асмик Арутюновна…
– Ну и что с того? – спросила Асмик.
– Не иначе опять за кого-нибудь стараетесь, – сказал дядя Вася. – А люди вашей простотой на свой лад пользуются.
Асмик хотелось спать, но в больнице был установлен свой ритуал – хотя бы пять минут побеседовать с дядей Васей.
Дядя Вася преклонялся перед медициной и, может быть, потому любил всех врачей. Всех до одного. Но больше всех любил Асмик.
Каждый раз он уверял ее:
– До чего же вы на мою покойную жену схожи!
– Такая же толстая была? – посмеивалась Асмик.
– Такая же душевная, – серьезно отвечал дядя Вася, дипломатично обходя вопрос наружности.
И на этот раз Асмик, хотя и спешила домой, не могла не остановиться, не поговорить с дядей Васей о трудностях жизни, о всевозможных сложных болезнях и, само собой, о проделанной ночью операции.
Подошел Володя Горностаев, спросил:
– Вы домой?
– Пожалуй, – ответила Асмик и зевнула: очень хотелось спать.
– Сейчас оденусь, пойдем вместе, – сказал Володя.
Он надевал пальто, а дядя Вася, неодобрительно проводив его взглядом, шепнул Асмик:
– Вы, говорят, больную у него выходили?
Асмик протянула ему руку:
– Будьте здоровы…
Володя вышел вслед за ней.
– Почему вы не попрощались с ним? – спросила Асмик.
– С кем? – невнимательно спросил Володя.
– С дядей Васей.
Он пренебрежительно поднял брови.
– Я занят своими мыслями.
– Что же это за мысли?
– Разные. А вы что, не любите думать? Или не привыкли?
Темные глаза его чуть улыбнулись. С той самой ночи, когда Асмик дежурила в палате его больной, он заметно помягчел к ней.
– Я думал о наших больных, – сказал он, размашисто шагая рядом с нею. – Все они разные, но одинаково боятся смерти.
– Но это же естественно, – удивилась Асмик. – Каждое живое существо хочет жить.
– Согласен с вами, – лениво заметил Володя. – Я и сам тоже достаточно жизнелюбивое животное. Но, знаете, есть разное жизнелюбие, одно от сытости, вот как, например, у нашей Ляли Шутовой, ей хорошо; она полагает, так будет всегда, и ничто больше ее не касается, и ни до чего дела нет. Ненавижу таких!
– Приберегите темперамент для личной жизни, – сухо сказала Асмик.
– Хорошо, – коротко пообещал он. – Постараюсь.
Несколько шагов прошли молча.
– Трудная ночка выдалась? – спросил Володя.
– Всего хватало.
Он снова замолчал, потом сказал:
– Кстати, вы так тогда и не сказали, кто это вам сигмомицин достал?
– Одна знакомая. Мы вместе с ней в одном медсанбате работали. Старый хирург.
– Очень старый?
– Семьдесят пятый год. Если бы вы ее видели, вы бы сказали: вот женщина – чудо!
Он иронически сузил глаза.
– У вас все чудо. И дядя Вася, и она, и я, наверно.
– По-своему, и вы чудо.
– Вот как?
Он усмехнулся, но ей подумалось, что ему нравятся ее слова.
– Я как-то думал о вас, – сказал он.
Асмик наклонила голову, как бы благодаря его.
– Думали? И что же?
– Я считаю, у вас есть один, зато очень нужный талант.
– Почему один?
– Других не заметил, а этот налицо.
– Какой же?
– Талант доброжелательности.
– Это не талант, – сказала Асмик.
– Нет, талант, – повторил Володя. – Поэтому вас и считают врачом, который умеет выхаживать больных. Понимаете, выхаживать? А это для врача очень много…
Они подошли к остановке автобуса.
– Вы не находите, что слишком много разговоров о моей персоне? – спросила Асмик.
– Вас это не устраивает?
– Не очень, – искренне ответила Асмик.
Войдя в автобус, она оглянулась. Володя стоял там же, где она оставила его. Поймав ее взгляд в окне, медленно поднял руку и тут же опустил. Со стороны могло показаться, что он хотел поправить кепку, да раздумал.
«Талант доброжелательности, – подумала Асмик. – Неужели существует такой талант?»
Туся пришла к ней вечером.
– Тебе не икалось? – спросила она, проходя вслед за Асмик в комнату.
– Нет, а что?
– Все тебя ругали, такой день, а тебя нет…
Асмик виновато вздохнула и побежала на кухню ставить чайник.
– Хорошо было? – спросила она Тусю, подвигая ей чашку горячего, почти черного чая.
– Как всегда, – ответила Туся.
11
Все было так, как обычно, когда в Сережкин дом приходили его друзья.
Они приходили не часто, но раз в год, 21 ноября, в день его рождения, они собирались все вместе – Туся, Асмик и школьные их приятели Витя с Фенечкой.
На столе привычное угощенье: миска с квашеной капустой, отварная картошка, селедка, маринованные грибы. Все то, что любил Сережка.
Михаил Васильевич все время ждал, что придет Асмик. А потом она позвонила из больницы.
Когда он положил трубку, Туся сказала:
– Я же говорила, у нее дежурство.
Фенечка засмеялась:
– Если нет ничего другого, можно гореть на работе.
– Фенечка, – строго начал Витя, посмотрел на ее искрящиеся веселые глаза, на простодушные губы, не выдержал, сам засмеялся.
С годами Витя и Фенечка стали походить друг на друга. Окончив школу, Витя сказал:
– Кто куда, а я в геологический.
– Охота была, – сказала Фенечка. – Куда спокойнее стать педагогом, например.
Но Витя упрямо стоял на своем – только геологический, никуда больше!
Однако Вите пришлось проучиться на геологическом всего лишь два курса: началась война – и он добровольцем ушел на фронт.
Вернулся в Москву в начале сорок пятого, оставив на войне левую руку.
– Теперь вместе идем в педагогический, – решила Фенечка.
В войну она работала на заводе, изготовляющем боеприпасы. Даже в самые тяжелые минуты грела ее мысль о будущем, она представляла себе, как будет хорошо, когда с Витей они будут преподавать в одной школе.
Витя снова не послушался ее и снова поступил в свой геологический, Фенечка подумала и подала документы вместе с ним.
Она окончила на три года позднее его.
Почти двадцать лет подряд они ездили в экспедиции, побывали на Дальнем Востоке, в Якутии и на Сахалине.
Они с Витей много зарабатывали, но жили все годы по-студенчески, снимали комнаты, потому что не сумели приобрести ни квартиры, ни обстановки, ни даже самой элементарной хозяйственной утвари.
Им предлагали вступить в жилищный кооператив, но каждый раз не хватало денег на вступительный пай.
Фенечка удивлялась:
– Только что была целая куча денег, и я себе ничего не купила, и куда они только разлетелись?
Витя посмеивался.
– Так, – сказал Михаил Васильевич. – Асмик не пришла. Жаль, конечно, – я же давно не видел ее. Давайте хоть выпьем за ее здоровье!
Витя выпил и попросил:
– Сыграйте нам что-нибудь, а мы споем.
Туся спросила:
– Помните, как Асмик пела «Белая армия, черный паром» вместо «черный барон»? – Невесело засмеялась. – Она не знала, что такое барон. Удивительно невежественная особа была наша Асмик…
Песни сменяли друг друга. Наконец:
«Идет война народная, священная война!»
– Не надо, – сказала Туся. – Больше не надо.
Михаил Васильевич захлопнул крышку пианино.
– Все. Больше ничего не будет.
Туся подошла к окну, смотрела на Патриаршие пруды, на деревья, которые метались в разные стороны, как бы гонимые ветром.
Сережкин дом стоял окнами к Патриаршим прудам.
Кажется, ничего не изменилось с той поры, просто нет Сережки, или, может быть, он появится сейчас? Вот сейчас, именно сейчас откроет дверь, войдет в комнату.
– А, вы здесь, – скажет…
Здесь все, как было при нем. На подоконнике колючие злые кактусы, Сережка называл их «бульдоги», и столетник в глиняном оранжевом горшке, тот же старенький патефон с отбитой ручкой и полка с любимыми книгами – Майн Рид, Александр Грин, Лондон, Лермонтов.
На полке стоят вылепленные Сережкой из пластилина львы, крокодилы, носороги.
Один из носорогов, по правде говоря, скорее похож на мордастую лошадь, а царь зверей с завитой, как ассирийская борода, гривой – просто-напросто стилизованная кошка, но как же, наверное, попыхтел Сережка над ними!
Жаль, нигде ни одной его фотографии. Он терпеть не мог сниматься.
Туся любила приходить в этом дом. Здесь был тот теплый, живой островок, к которому всегда можно пристать. Здесь она снова ощущала себя совсем молодой, словно разом, в один миг, окуналась в прошлое.
Асмик призналась как-то:
– Прихожу туда, и мне опять четырнадцать…
Здесь жил человек, который их всех называл по именам, помнил, какими они были в детстве, и сердился, когда, по его мнению, они этого заслуживали.
Он мог сказать Тусе с прямотой близкого друга, чьи слова не ранят:
– Почему ты не думаешь о том, как устроить свою жизнь? Спохватишься – поздно будет.
Он ругательски ругал Фенечку с Витей за бесхозяйственный быт. И Асмик попадало от него за то, что забросила диссертацию и взяла на себя непосильную нагрузку в больнице и в поликлинике, даже за то, что толстеет не по дням, а по часам.
Он словно был их общий отец, потому что ни у кого из них отца не было.
С ним охотно делились, и он слушал и давал советы. Советы эти часто пропадали впустую, но он тешил себя надеждой: когда-нибудь ребята образумятся и будут поступать так, как он им советует.
Им суждено было в его глазах навсегда оставаться молодыми, а следовательно, неразумными, им необходимы его опека и присмотр.
Разошлись поздно вечером. Михаил Васильевич вышел вместе с ними – проводить…
Было холодно, но сухо, в небе стояла желтоватая, зыбкая луна, быстрые облака то скрывали, то снова ее открывали.
Фенечка побежала вперед, подняла руку. Такси с зеленым огоньком на ветровом стекле, визжа тормозами, остановилось возле тротуара.
– Мы с Витькой во всем схожи, – торопливо проговорила Фенечка. – Только одна разница: я ловлю машины на улице, а он торчит в очереди на стоянке.
Помахала рукой и быстро залезла в машину. Вслед за ней влез Витя.
– Да, – задумчиво произнес Михаил Васильевич. – Печально не то, что мы стареем, а то, что уходит молодость…
Он был склонен к философским обобщениям.
Туся шла, опустив руки в карманы. В призрачном свете уличных фонарей лицо ее казалось очень бледным, даже болезненным.
– Я вам не говорила раньше, – начала она. – А теперь хочу сказать.
– Про что? – спросил он.
– Летом я встретила Ярослава. Совершенно случайно.
– И что же?
– Ничего, – сказала Туся. – Ровным счетом. Ни он мне не нужен, ни я ему.
– Так больше и не встретились?
– Нет. Он позвонил как-то, сказал, что уезжает на курорт, а потом в длительную командировку, приедет – позвонит. И не позвонил. И не надо.
Несколько шагов они шли молча.
– Ты знаешь о том, что Сережка любил тебя? – спросил Михаил Васильевич.
– Знаю, – ответила Туся.
Он взял ее под руку, стараясь идти в такт ее шагам.
Она была ему близкой, почти как дочь. Он знал ее с детства, видел чуть ли не каждый день в своем доме.
Она росла на его глазах и любила другого, не его сына, а ему хотелось, чтобы они были вместе в будущем, она и Сережка. Не вышло…
– Идите домой, – сказала Туся. – Уже поздно, и снова дождь…
Поцеловала его холодную щеку. Быстро пошла вперед, потом обернулась.
Но его уже не было видно.
А дождь накрапывал все сильнее, все чаще. Широкая, блестящая от дождя мостовая казалась рекой, черной, глубокой рекой. В ней отражался вертикальный тающий свет фонарей, и машины проносились одна за другой, раздавливая, стирая эти неяркие столбы света, а они упрямо возникали снова.
На углу стояли два автомата с газированной водой – аккуратные игрушечные домики, одинаково окрашенные в малиновый цвет. А дальше широкий деревянный забор огораживал площадку, над которой возвышалась длиннющая шея подъемного крана. Когда-нибудь, может быть даже скоро, здесь построят дом или несколько домов. И посадят деревья, и они будут шелестеть листьями, матовыми от фонарей.
Вот так было до нее, подумала вдруг Туся, так будет и после, потом, когда ее не станет. И над Ленинградским проспектом, как и обычно, будет плыть сладкий конфетный запах с фабрики «Большевик», а на улице Горького появится еще один переход, и в Измайловском лесу зимой разбегутся лыжники в разные стороны. И весной дождь упадет на деревья, и мостовая разольется, как река, и новый дом начнет расти день ото дня, и поднимется всеми своими этажами, и распахнет окна, и за каждым окном свое, то, что она никогда не узнает.
Туся все стояла, смотрела прямо перед собой и ничего не видела. Ей представлялся тот самый момент, который наступит когда-нибудь, и она уйдет навсегда, она, то самое существо, пылинка человеческая, что девочкой жила в одном из переулков Замоскворечья, и бегала в дождь босиком по лужам, и умела свистеть в стручки акаций…
И вот она уйдет, и весь ее мир уйдет вместе с нею, мир привычный и, казалось, прочнее прочного обжитой, но никто не заметит, что ее нет, никто не вспомнит, и все будет так, как было при ней и до нее, словно и не жила она вовсе на свете…
12
Тусе не то чтобы с первого взгляда понравился Сережка, но среди остальных мальчишек она сразу отметила его. Он все умел делать, за что ни брался. И учился хорошо, и читал много книг, и прыгал, бегал, играл в волейбол лучше, чем все его товарищи.
Поначалу он не обращал на нее внимания. Остальные мальчишки дурели от одного только взгляда ее глаз, от медленной улыбки, от ленивого жеста руки, начинали драться при ней друг с другом или прыгать и бегать вокруг нее, чтобы выказать свою ловкость и уменье.
А он и не глядел на нее, будто она его решительно не интересовала.
Он дружил с толстой, некрасивой девочкой, которую звали необычным именем – Асмик. Она была такая неуклюжая, что Туся не могла удержаться, чтобы не уколоть ее.
Как-то на большой перемене они играли в волейбол. Асмик прыгала на своих коротких ногах, а мяч, как нарочно, пролетал мимо.
– Прыгай, прыгай, – снисходительно заметила Туся. – Авось сбросишь с себя пару десятков кило жиру!
И Асмик нисколько не обиделась. Даже первая рассмеялась веселым, искренним (Туся чувствовала: и в самом деле искренним) смехом.








