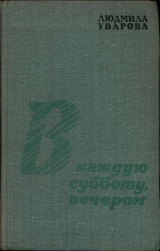
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Но ведь с ним нам легче, – говорила мать, когда они с Артюшей оставались одни. – Смотри, я даже на курсы английского языка поступила, потому что у меня теперь больше свободного времени. И денег больше, да, да, это тоже кое-что значит…
Она так считает, что ж, он не будет с нею спорить, все равно своего отношения к нему он не изменит никогда в жизни!
Когда Артюша закончил семилетку, отчим предложил ему учиться дальше, закончить десять классов.
Артюше и самому хотелось бы учиться, но назло отчиму он сказал:
– Нет. Пойду работать.
– Успеешь, – отвечал отчим. – А пока учись, раз у нас есть такая возможность.
Артюша вопросительно посмотрел на него:
– У нас? Возможность? Какая же?
– Я достаточно зарабатываю, нам хватит…
– Ну знаете, – сказал Артюша. – Мало ли что вы хорошо зарабатываете!
Мать отнеслась к решению сына пойти работать спокойнее, чем Кирилл Константинович. Она вообще в последнее время казалась рассеянной, все больше молчала, а порой ни с того ни с сего раздражалась и говорила отчиму:
– Оставь меня в покое!
Артюше она сказала:
– Решай сам.
Артюша еще немного поломался для вида. Потом сказал примирительно:
– Так и быть. Окончу десятилетку, а там посмотрим.
– Вот это правильно! – обрадовался отчим. – Ведь ты же способный, ты просто все на лету схватываешь!
– Вообще-то учиться, конечно, интересно, – снисходительно согласился Артюша.
2
Весной Артюшина мать опять повеселела, стала опять красивой и веселой.
С курсов приходила поздно, иногда даже ночью. Соседи перешептывались, но она ни на кого не обращала внимания.
Кирилл Константинович не прислушивался к сплетням. Он раз и навсегда поверил ей, не подвергая сомнению ни одно ее слово, ни один поступок.
Впрочем, она ничего не объясняла ему. Уходя на курсы, коротко говорила:
– Приду поздно…
И он покорно кивал головой.
Когда бы она ни пришла, он не спал, дожидался ее. Заслышав шаги в коридоре, бежал в кухню подогревать чайник, наливал ей чай, подвигал тарелку с бутербродами.
Зачастую ей вовсе не хотелось есть, и она силой заставляла себя прикоснуться к чаю.
– Ну, чего ты не спишь? – спрашивала она его.
– Когда тебя нет дома, я не могу заснуть, – отвечал он.
Она была рада придраться к нему:
– Это что же, упрек?
Он обезоруживающе простодушно смеялся в ответ:
– Да что ты, конечно, нет! Просто не спится мне…
Она молча пожимала плечами. Карие глаза ее смотрели на него с непонятным выражением то ли жалости, то ли досады…
Утром, уходя на работу, она целовала Артюшу в щеку:
– У тебя все в порядке?
– Пока да, – отвечал за него отчим. – Но скоро у него экзамены.
– Да, экзамены, – торопливо повторяла мать и убегала. А Кирилл Константинович убирал со стола, подметал в комнате и говорил Артюше:
– Ты когда идешь в школу?
– Сегодня позднее, ко мне придут ребята, будем готовиться, – отвечал Артюша. – Так что…
– Понятно, – прервал его отчим. – Я ухожу. Уже ушел…
Однажды в воскресенье, когда отчим и мать были дома, Артюша сказал:
– Завтра у нас родительское собрание, а потом уже начнутся экзамены.
– Завтра? – переспросила мать и задумалась. – Какая жалость! Завтра у меня дополнительные занятия на курсах.
– В каком часу собрание? – спросил отчим.
– В восемь.
– Хорошо, я пойду, – сказал отчим. – Прямо с работы.
Он пришел с собрания поздно. Артюша и мать уже спали. Мать проснулась, спросила шепотом:
– Это ты?
– Я! – громко ответил отчим.
С нее разом слетел сон. Такого он еще не позволял себе никогда – все спят, а он говорит громко, словно один в комнате.
Она привстала на постели, нажала кнопку настольной лампы.
Он смотрел на нее в упор. Губы его улыбались, влажные прямые волосы сбились на лбу.
– Ты что, пьяный? – брезгливо спросила она.
Он радостно засмеялся.
– Лилечка, совсем немножко, самую малость…
– Этого еще не хватало! – со вздохом сказала она.
– Понимаешь, неожиданно встретил старого друга…
И снова засмеялся.
Артюша проснулся, удивленно раскрыв глаза, уставился на него.
– Боже мой! – сказал отчим. – Боже мой, подумать только, почти двадцать лет не виделись!..
– Замолчи! – оборвала она его. Карие глаза ее сузились, стали острыми и колючими. Она встряхнула пушистыми, рассыпавшимися по плечам волосами. Белая ночная сорочка открывала ее шею, нежную, как у девочки-подростка, с едва заметной впадинкой.
Она была так хороша и в то же время показалась вдруг такой далекой, что Кирилл Константинович замолчал, с тревогой глядя на нее.
Улыбка медленно угасала на его лице.
– Артюшу хвалили на собрании, – растерянно сказал он. – Лучше всех учится…
Она не ответила ему. Он подошел к ее кровати, погасил лампу, в темноте разделся, лег на диван.
Внизу под окнами проехала машина. Свет фар стремительно врезался в темноту, на мгновение вырвал из мрака книгу на столе, кусок обоев, блеснул и разом погас в зеркале.
Потом опять стало темно, и только кто-то невидимый вдруг стал нашептывать неслышные слова, потом все громче, все явственней, и наконец дождь разразился вовсю, словно ударила в стекла чья-то сильная рука.
3
На следующий день в школе, на перемене, к Артюше подошел классный руководитель Сергей Петрович.
– Удивительное дело! – сказал он. – Вчера я встретил твоего отца.
– Кого? – переспросил Артюша.
– Твоего отца. Мы с ним всю войну вместе прошли.
– Он мне не отец, – пробормотал Артюша.
Сергей Петрович внимательно посмотрел на него.
– Отчаянной смелости человек, – сказал он задумчиво. – И вообще редкий парень!
– Кто? Кирилл Константинович?
– Да, он.
Артюша чуть было не присвистнул. Так не вязалось представление об отчаянной смелости с этим узкоплечим, пожилым человеком.
Просто невозможно было вообразить его на фронте, одетым в гимнастерку, командиром, за которым солдаты идут все, как один…
Неужто он мог бросать гранаты под танки врага, стрелять из автомата, пикировать на бреющем полете, сбрасывая с самолета бомбы над фашистскими городами?..
Артюша хотел было расспросить Сергея Петровича, узнать от него все, все, просто услышать, что он еще скажет и почему считает отчима редким парнем, но прозвучал звонок, и Сергей Петрович сказал уже другим, привычно строгим тоном:
– Пора в класс!
Весь день в школе Артюша вспоминал слова Сергея Петровича: «Отчаянной смелости человек…»
Как и обычно, Артюша пришел домой в седьмом часу вечера.
Отчим был один, сидел за столом, опершись щекой о ладонь, глядел в раскрытую перед ним тетрадь.
Задумался ли он или так погрузился в чтение, что даже не расслышал шагов Артюши, но, когда Артюша подошел ближе, он вздрогнул и посмотрел на него.
– Что это за тетрадь? – спросил Артюша.
Сверху на странице было выведено крупным, старательным, детским почерком «Диктант», а ниже написано: «Сегодня харошая погода, мороз и солнце и снег свиркает на солнце».
Артюша усмехнулся:
– Во как! В двух строчках две ошибки. Верная пара!
Не отвечая ему, не глядя на него, отчим медленно закрыл тетрадь.
– Да, – сказал он рассеянно, – у него были нелады с орфографией…
– У него? – спросил Артюша.
Отчим провел ладонью по тетради.
– Так ни одного письма не сохранилось, только случайно эта старая тетрадь…
На мгновение он отвел глаза в сторону.
– Вот, понимаешь, одна эта тетрадь…
– Чья она? – помедлив, спросил Артюша.
Впрочем, он уже почти предугадал ответ.
– Володи, моего сына… – Отчим выдвинул ящик письменного стола и спрятал тетрадь. – Он тогда учился в четвертом классе.
Артюша хотел спросить и не решился. Но Кирилл Константинович сам сказал:
– Он погиб на фронте…
Показалось Артюше или нет, будто в темных, всегда прищуренных глазах Кирилла Константиновича что-то блеснуло?..
– Мы вместе ушли на фронт. Я на неделю раньше…
Артюша молчал. Кирилл Константинович встал, прошелся по комнате.
– Скоро, наверно, мама придет, – сказал он.
Артюша не ответил.
Наверно, отчим и в самом деле охотно пошел к нему в школу. Может быть, ему хотелось вернуться назад, снова пройти по той, теперь уже недоступной, тропе, которая вела в прошлое.
Неожиданно для самого себя Артюша сказал:
– Вам привет от Сергея Петровича…
Кирилл Константинович повернул к нему голову.
– Сергея Петровича? Ах, да, Сергея…
– Он сказал, что вы отчаянно смелый…
Впалые щеки Кирилла Константиновича чуть заметно порозовели.
– Мой папа тоже был смелый, – помолчав, сказал Артюша.
Он сказал это, не глядя на него. Он никогда не говорил с ним об отце. Именно с ним не хотел говорить, а тут сказал.
Но Кирилл Константинович ответил просто:
– Я знаю. Мама говорила… – Он вздохнул. – Мама, должно быть, сердится на меня за вчерашнее.
– За что? – спросил Артюша.
– Все было так неожиданно. Прихожу на собрание, вхожу в класс – и вдруг – Серега, старый друг! Ах, черт возьми! – Он пристукнул маленьким сухим кулаком по колену и растроганно повторил: – Ах, черт возьми! Надо же так!..
Он оборвал себя, прислушиваясь. Хлопнула входная дверь, кто-то прошел по коридору.
– Это не к нам, – сказал Артюша.
Отчим вынул из кармана измятую сигарету.
– Пока мамы нет, закурю.
– Курите, – сказал Артюша. – Все равно окно раскрыто, все выдует.
Кирилл Константинович глубоко затянулся.
– А вот ты зачем куришь? – спросил он. – Вот уж ни к чему.
– А вы знаете?
– Знаю.
– Это я так, – смущенно признался Артюша. – Вот кончу экзамены – и ни одной папиросы. Честное слово!
Вновь послышались шаги в коридоре. Кирилл Константинович быстро погасил сигарету.
– Мама, – сказал он.
Это и в самом деле была она.
– Ты опять курил? – спросила она, едва войдя.
– Никто не курил, – решительно заявил Артюша.
Она не стала спорить, села к письменному столу, вынула из папки свои английские тетради.
– Устала? – спросил отчим.
Не оборачиваясь, она лениво ответила:
– Как тебе не надоест спрашивать одно и то же?
Артюша вдруг вспылил:
– Ну и что такого, что спросил?
Мать не то с испугом, не то с удивлением поглядела на сына.
– Нет, ничего…
– Она устала, – торопливо вмешался отчим. – А теперь еще на курсы идти…
Мать повернулась к нему.
– Я не пойду сегодня, – помедлив, сказала она.
– Правда? – Он откровенно обрадовался. – Будешь дома весь вечер?
– Да.
– Вот хорошо!
Он встал, быстро надел пальто.
– Ты куда? – спросила мать.
– Я сейчас, ненадолго…
Она невнимательно посмотрела ему вслед.
– И ты уходишь? – обратилась она к Артюше.
– Да. Мы с ребятами сговорились.
– Только не приходи поздно.
В коридоре зазвонил телефон. Артюша выбежал в коридор.
– Это меня, – сказал он, вернувшись. – Договорился с ребятами через полчаса у «Художественного», возле касс.
Мать зевнула.
– Я совсем не выспалась. Он мне вчера сон перебил.
– Он старого друга встретил, – сказал Артюша. – Они с самой войны не виделись. Это знаешь кто? Наш классный, Сергей Петрович.
– А, – равнодушно отозвалась мать и вышла в ванную. Она вернулась, вытирая руки полотенцем, каждый палец в отдельности. Пушистые волосы ее были гладко зачесаны и стянуты на затылке в тугой узел. Карие глаза сосредоточенно смотрели в одну точку. Она казалась сейчас старше, серьезнее, чем обычно.
Артюша надел белую рубашку, повязал галстук перед зеркалом.
– Не умею я галстук завязывать, – с досадой заметил он.
– Ты стал красивый, – сказала мать. Она встала, подошла к нему. – Дай я завяжу…
Она стояла очень близко от него. Прямо перед собой он видел ее нежные щеки, темную кожу век, чуть заметный пушок над губами.
– Вот, – сказала мать и наклонила голову набок, любуясь тщательно вывязанным ею узлом, – теперь превосходно.
Снова раздался телефонный звонок. В дверь постучали и вызвали мать.
Она вернулась через минуту.
– Я ухожу. Скажешь Кириллу Константиновичу, что ушла в кино.
Артюша потянул концы галстука.
– Уходишь? – спросил он. – В кино?
– Да, – невозмутимо ответила она. – А что? Мне позвонила моя соученица по курсам. Сегодня в «Метрополе» идет «Маугли» на английском языке.
– Ну и что из этого? – спросил Артюша.
Она застегнула вязаную кофточку на все пуговицы, накинула на голову косынку. Карие глаза ее ясно смотрели на него.
– Не ходи, мама, – сказал он.
– Почему? – спросила она. – Почему это «не ходи»?
Улыбкой она смягчила свои слова, но он продолжал смотреть на нее очень серьезно, почти строго.
Она удивилась выражению его глаз и невольно опустила ресницы.
Сын стал совсем взрослым, а она не заметила. Проглядела его, и вот он вырос и уже смотрит на нее неспокойным, взыскующим взглядом старшего. И этот взгляд вдруг напомнил ей того, о ком она теперь вспоминала все реже.
Что ж, если ему хочется знать, – пожалуйста! Ей скрывать нечего, все ясно как белый день.
– Нам для практики рекомендуют смотреть английские фильмы, – начала она рассудительным тоном, словно объясняла трудный урок. – Сегодня в «Метрополе» последний день «Маугли». Помнишь, я тебе когда-то читала?
– Не помню, – угрюмо ответил он.
Она вдруг рассердилась:
– Что мне в конце концов и выйти из дому нельзя? Я же одна иду, совсем одна, и через полтора часа вернусь, понял?
– Ты обещала Кириллу Константиновичу, что будешь дома весь вечер, – все так же угрюмо сказал он.
Она пожала плечами:
– Ну и что же? Подождет…
И столько равнодушия было в ее тоне, и глаза ее смотрели на него с таким откровенным сознанием своей правоты, что Артюша замолчал и отошел в сторону, уступив ей дорогу.
– Буду через полтора часа, – повторила она уже в дверях.
– Я скажу, что тебя вызвали на курсы…
Она усмехнулась:
– Скажи, что хочешь… – И быстро скользнула в дверь. Дробно застучали вдалеке по коридору ее каблуки.
Спустя примерно двадцать минут пришел Кирилл Константинович.
– Вот и я, – сказал он и стал выгружать на стол пакеты и свертки. – Мы сегодня славно проведем вечер. Я тут всякой ерунды накупил: паштет, лоби, чешские шпикачки. Ты, кажется, любишь шпикачки? И рахат-лукум тоже. А маме – ее любимые купаты, я за ними на улицу Горького ездил, в «Грузию». И вот еще апельсины, она так любит апельсины…
– Мама ушла, – сказал Артюша.
Лицо Кирилла Константиновича оставалось спокойным. Только, может быть, легкая, почти незаметная тень мелькнула в его глазах. Мелькнула и скрылась.
– Ее вызвали на курсы, – через силу проговорил Артюша.
– Значит, надо, – сказал Кирилл Константинович.
Он снял пальто, шляпу, тяжело опустился на стул. Все его оживление словно рукой сняло. Теперь перед Артюшей сидел немолодой, очень усталый человек с погасшими глазами.
Артюша задумчиво смотрел на него. Мама ушла. Она вернется через полтора часа. Ну и что особенного? Она всегда любила ходить в кино одна и теперь пошла потому, что ей для практики нужно смотреть английские фильмы.
Все это звучало очень просто, понятно, но почему-то Артюша не мог произнести ни слова. Хотел – и не мог.
Кирилл Константинович случайно поймал его взгляд и понял его по-своему. Брови его дрогнули. Он не хотел, чтобы Артюша его жалел. Он вообще не любил, чтобы его жалели. Никто, никогда!
Он закурил сигарету. Синий слоистый дым поплыл в окно.
– Пока придет мама, – пояснил он, отгоняя дым рукой.
Рука у него была маленькой, с крупными жилами. Уже немолодая, почти стариковская рука. Но Артюша смотрел на нее и впервые поверил в то, что это – рука солдата, привычная к пулемету, к гранате, к штурвалу тяжелого бомбардировщика. «Отчаянной смелости человек…»
– Дождя нет? – спросил Артюша.
– Нет, сперва покапало, а теперь перестало.
Артюша медленно развязал галстук, свернул его ленточкой.
– Вы будете дома?
– А куда же мне идти? – ответил Кирилл Константинович. – Подожду маму…
– Я тоже.
Кирилл Константинович стряхнул пепел с сигареты.
– Разве ты не уходишь? Ты вроде нынче собирался куда-то с ребятами…
– Никуда я не собирался, – ответил Артюша. – С чего вы это взяли?
Часы Павла Бурэ
Ранней зимой в начале сорок седьмого Алексей Дмитриев нежданно-негаданно возвратился домой. Он полагал, что семья давно уже оплакала его, отстрадала по нем и мало-помалу, как оно и бывает, начала привыкать к мысли, что его уже нет на земле. А он, оказалось, был в партизанах, потом попал в плен, и, так вот одно цеплялось за другое, не было никакой возможности дать знать домой о том, что не погиб, остался в живых.
В тот день Клава, жена Дмитриева, работала в первой смене, дома была только дочка Маша, двенадцатилетняя школьница, и Петька, который родился недели за три до того, как Дмитриев ушел на фронт.
Маша открыла Дмитриеву дверь, спросила, не впуская его в квартиру:
– Вам кого?
Он молчал, пораженный ее вытянувшейся фигуркой, еще не девичьей, но уже не детски длинноногой, тонкой в талии, широко расставленными, как у него, глазами и тем неуловимым, но в то же самое время бесспорным сходством с Клавой, которое, как он понимал, с каждым годом будет все более зримым и ясным.
Маша отступила назад.
– Вам кого? – повторила она. Тогда он не выдержал, шагнул, крепко прижал ее к себе.
И она вдруг догадалась, кто это, затихла, стоя возле него, щека к щеке.
Из комнаты напротив выползла старуха Квашнева; Дмитриев помнил ее бодрой, неутомимой хлопотуньей, в канун каждого праздника она допоздна не отходила от плиты и все жарила, пекла, тушила, варила, готовилась хорошенько принять и угостить сына с женой и с внучкой, приезжавших в праздники к ней в гости издалека, чуть ли не из Волоколамска…
Дмитриев удивился, как же изменилась Квашнева, постарела, совсем на себя непохожая стала. Щуря подслеповатые глаза, она вглядывалась в него, обеими руками держа кастрюлю.
– Здравствуйте, Полина Кузьминична, – сказал Дмитриев.
– Здравствуйте, – безразлично ответила она и прошествовала на кухню.
– Не узнала меня, – сказал Дмитриев.
– Здесь темно, – ответила дочка.
Они вместе вошли в комнату, бедную, но прибранную. Не было в комнате ни половичков, ни ковра на стене, ни зеркала в богатой, резной раме орехового дерева, всего того, что когда-то украшало их комнату, делало ее уютной и нарядной.
Дмитриев хотел было спросить у дочки, куда все это подевалось, скажем, хотя бы ковер или зеркало, как внезапно из-под стола вылез Петька и уставился на отца, глядя в упор большими и ясными глазами.
– Петька! – только и проговорил, вернее простонал Дмитриев, нагнулся к сыну, прижал к себе, потом вскинул вверх, посадил на свое плечо. Петька бесстрашно смотрел на него сверху вниз.
– Сынок, сынок, – приговаривал Дмитриев. – Это я, папка, папка твой, слышишь?
– Слышу, – ответил довольный Петька.
Обхватив голову отца обеими руками, задрыгал худыми ножонками.
– Ты папа? – спросил он. – Всамделишный папка?
– Всамделишный, всамделишный, сынок!..
– Он, папа, все о тебе спрашивал, где мой папа, где мой папа, все спрашивал, – сказала Маша. – Почему нет у меня папы? А какой у меня папа?
Маша подняла к Пете счастливое лицо:
– Гляди, Петька, это наш папа, папа наш, слышишь? Приехал наш папа…
Маша все повторяла и повторяла слово «папа», Дмитриев понял, как она, бедная девочка, должно быть, сильно соскучилась по нем и теперь по-своему наверстывала, со всех сторон обсасывала давно непроизносимое слово.
Он слушал, как во сне, ее голос, чуть-чуть походивший на Клавин.
– Пап, я тебя часто вспоминала, каждый день. Как там наш папа, все думали. Мама говорит, не верю, что он без вести пропал, он живой, а я говорю, наш папа жив, он не мог погибнуть, он вернется к нам…
– Ну вот и увиделись, дочка, – сказал Дмитриев, с трудом удерживая слезы.
Он осторожно опустил Петьку на пол и, обессиленный от счастья, сел за стол…
Вот он, его дом, о котором думал, не переставая, все эти страшные годы, родной угол, родной очаг, непогасший, самое его дорогое…
Дмитриев вынул из кармана кисет и дрожащими пальцами свернул цигарку.
Запахло горьким самосадом, неторопливый дым поплыл по комнате, направляясь к раскрытой форточке.
– Рассказывай, – попросил Дмитриев Машу. – Рассказывай все… Как живете-то без меня?!
– Хорошо живем, – сказала Маша. – Мама рабочую карточку получает и наши детские… еще иногда для Петьки молока принесет, целую бутылку. Потом у нас огород за городом, маме на заводе выделили, у нас там картофель, мы прошлый год двенадцать мешков собрали.
– А мама что, все на своем «Серпе»?
– Она на заводе «Серп и молот», – не без гордости отчеканила Маша.
– А ты в школе учишься?
– Конечно. Я в четвертом классе.
– В четвертом?
Он пожал плечами.
– Вроде бы велика малость для четвертого.
– А я же, папа, только в сорок четвертом пошла учиться в школу.
– Почему так?..
– Потому что я долго болела, мама думала, что у меня что-то вроде туберкулеза…
– Ну да? – испугался Дмитриев. – Ну и что же?
– Нет, папа, не бойся, никакого туберкулеза у меня нет, но я очень долго болела…
– А я ничего не знал… – сказал тихо Дмитриев.
– Откуда же ты мог знать, папа?.. – удивилась Маша. – Меня тогда в детский санаторий отправили, в Сокольниках, с маминого завода помогли, они все время нам помогали…
Дмитриев пристально оглядел Машу, ее белое, словно фарфоровое, лицо, широко расставленные глаза, короткий тупой нос, едва заметно раздвоенный на самом кончике. Теперь он понял, почему она так бледна, почти прозрачна…
Стало быть, болела дочка. Долго болела, кто знает, может быть, до сих пор окончательно не поправилась…
– Вот погоди, – сказал он, – все у нас наладится, пойду я работать, тогда отправим тебя в хороший санаторий…
– Я, папа, одна больше не поеду, – серьезно сказала Маша. Ее широко расставленные глаза смотрели кротко, но, чувствовалось, непоколебимо, – мне там одной до того скучно…
– А мы вместе поедем, все вместе, куда-нибудь на юг, к морю, будем день-деньской у моря лежать и камешки кидать в волны. Умеешь кидать камешки?
– Нет, папа, не умею.
– Ничего, дело нехитрое, научишься. Надо так кидать, чтобы камешек по нескольку раз пролетел над волнами, поняла?
– Меня тоже научи, – сказал Петька.
Маша спросила:
– А Петьку мы тоже возьмем?
– Куда ж мы без него денемся?
– Без Петьки никак нельзя, – пробасил Петька, и отец и дочь рассмеялись.
Потом Маша спохватилась, совсем как взрослая, сокрушенно всплеснула ладонями:
– Да что же я, папа, ты, наверное, кушать хочешь, а я и не подумала об этом!
– Да не суетись ты!
Маша подошла к подоконнику, где стояли кастрюли и сковородки.
– Макароны подогрею, еще есть каша продельная. Потом чай вскипячу…
– Погоди, – сказал Дмитриев, взял свой рюкзак, брошенный им возле дверей, развязал его, стал вынимать один за другим свертки.
Маша и Петька, словно зачарованные, следили за его руками, будто это были руки фокусника, представляющего все новые чудеса.
А Дмитриев между тем разложил на столе целое по тому времени богатство: три банки сгущенного кофе с молоком, четыре банки американской колбасы, две тушенки, сало, плитку шоколада, сливочное масло, галеты…
– Это все нам, папа?
– Все вам, дочка, – сказал Дмитриев.
Петька, не говоря ни слова, схватил плитку шоколада.
– Нельзя!
Маша с силой разжала его маленькие пальцы.
– Нельзя, Петька, сперва надо кашу поесть, а после уже шоколад…
– Да, – захныкал Петька, – небось сама все слопаешь, мне не оставишь…
– Это все твое, вся плитка, – сказала Маша, – честное слово, я себе ничего не возьму, все тебе!
Петька затих на секунду, потом снова потянулся к шоколаду.
– Что же это, братец, какая же ты жадина! – сказал Дмитриев, – и не совестно? Мы с тобой мужики, а она женщина, слабый пол, ей следует уступать…
– Что ты, папа, – возразила Маша, – зачем мне уступать? Ему, Петьке, надо уступать, он же у нас самый маленький, только я боюсь, он слопает шоколад и больше ничего есть не захочет.
Маша говорила совсем как взрослая, и Дмитриев невольно улыбнулся: ее манера говорить, взгляд широко расставленных глаз, движения тонких рук, сам голос Машин – все это так походило на Клаву, на Клавину манеру говорить, смотреть, двигаться, что вдруг показалось, перед ним сейчас сама Клава, его Клава…
Она пришла с работы часа через четыре. Дмитриев уже спал, лежа на кровати, Петька прилег рядом с ним и тут же заснул, как убитый. Маша на кухне стирала в корыте рубаху и гимнастерку отца.
Как Маша ни старалась упредить мать, чтобы хоть как-то подготовить ее к встрече, но все-таки пропустила момент и вбежала в комнату уже тогда, когда мать, упав ничком на кровать, обнимала сразу мужа и сына.
– Да что же это такое?! – кричала Клава, все на одной и той же ноте. – Алеша, родной, что же это такое? Неужто ты? Ты сам?
Потом расплакалась, потом снова стала кричать. И плакала, и смеялась в одно и то же время, и бегала по комнате, и опять бросалась к Дмитриеву, и щупала руками его голову, лицо, шею, плечи, руки, все никак не могла до конца поверить, что он здесь рядом с нею, живой, невредимый.
Позднее они все вместе сидели за столом. Петька на коленях у Дмитриева, Клава рядом, одной рукой обняв мужа, прижавшись головой к его плечу. Маша принесла из кухни чайник, разлила чай в стаканы, нарезала колбасу, сало…
– Скажу у нас на заводе, не поверят, – промолвила Клава. – Скажу, муж вернулся, вот то-то все удивятся…
– Еще бы! – воскликнула Маша.
– А как ваш начальник, как его, Кострицын, что ли, рыжий такой, он жив?
Клава махнула рукой.
– Что ты, Алеша! В первый же год…
– Жалко, хороший мужик был…
– Куда уж лучше! Жена, по-моему, по сей день места себе не находит…
– А этот, знатный сталевар ваш, Вахрушев?
– Сережа? Живой, недавно сына в институт определил…
– Неужто такой сын у него большой?
– Дети быстро растут, – заметила Маша, совсем как взрослая, озабоченно глянула на Петьку. – Смотри, папа, разве можно узнать, какой наш Петька стал?
– Я его почти не помнил, – сказал Дмитриев.
В Клавиных глазах блеснули слезы.
– Ты что, мама? – забеспокоилась Маша.
– Ничего. Просто подумала, что совсем мог не увидеть нашего Петьку…
– Мог… – согласился Дмитриев.
Скрипнула дверь. Вошла без стука старуха Квашнева.
Остановилась на пороге, вглядываясь подслеповатыми глазами в Дмитриева.
– Никак, сам приехал? – спросила негромко.
– Сам, – ответил Дмитриев. – Я давеча с вами поздоровался, Полина Кузьминична.
– Плохо я слышать стала, – сказала Квашнева, подошла ближе к Дмитриеву.
– И в самом деле, ты!
– Да, – сказал Дмитриев. – Вернулся домой…
Невольно подумал в этот миг о том, что порой, бывало, казалось, ему уже никогда не придется увидеть свою семью, свой дом…
– А мой-то, Вова…
Квашнева не закончила, оборвала себя.
– Бабушка, хотите чаю? – спросила Маша.
Квашнева, не отвечая ей, повернулась, с силой хлопнула дверью.
Клава крикнула вслед:
– Потише бы не мешало…
– Перестань, мама!
Худенькое Машино лицо пылало, словно бы с мороза.
– Тебе жаль ее, дочка? – спросил Дмитриев.
– Ужасно жаль, – ответила Маша. – Она, папа, такой не была раньше…
– Кто же виноват? – спросила Клава. – Ведь вот наш отец вернулся, так он же не виноват, что выжил…
– Бабка сердитая, – сказал Петька, – чуть что, орет, все время ругается…
– Она такой стала, как похоронку на сына получила, – сказала Маша.
– Давно?
– Больше трех лет назад, я как раз тогда в школе учиться стала…
– Раньше она на кухню вышла, – начала Клава, – я ей говорю, может, ваш Володя тоже домой возвратится, вдруг где-то живет, обратно вернуться надеется…
– Все может быть, – сказал Дмитриев.
– Мама, я во двор, – затянул Петька. – Пусти во двор!
Клава в сердцах дернула Петьку за руку.
– Нет, вы только послушайте его! В чем пойдешь, чудак-человек? Подошвы начисто отрываются, а дядя Коля, как на грех, заболел, раньше вторника не починит ботинки…
– А я так, – не сдавался Петька, – пусти, мама…
– Не пущу! Ты только глянь, Алеша, можно в таких вот ботинках гулять, когда на улице снег с дождем пополам?
– А ну, покажи, сынок!
Подошвы на Петькиных, донельзя стоптанных ботинках, и в самом деле, держались разве что на одном лишь честном слове.
– Нельзя так, сынок!.. Пойдешь на улицу, ноги застудишь…
– Не застужу, – Петька надул толстые губы, – пусти, папка, я скоро…
– Постой, – сказал Дмитриев, вспоминая, где лежит молоток. Так и есть, молоток лежал все там же, где ему положено быть, на привычном месте, в верхнем ящике комода, вместе с коробкой гвоздей, стамеской и отверткой.
– Разувайся, – приказал он Петьке. Петька с готовностью сбросил свои ботинки.
Дмитриев взял молоток, гвозди из коробочки, положил гвозди, словно заправский сапожник, в рот и стал, вынимая по одному гвоздику, вбивать их молотком в рыхлую, будто халва, подошву.
Вбивал и приговаривал:
– Ну и довел же ты, братец, свою обувку до самого что ни на есть безобразного состояния!
– Купи новые, – сказал Петька.
Клава прикрикнула на него:
– Купи! Ишь какой!
– Знаешь, сколько стоят ботинки на Преображенском рынке? – спросила Маша, сама же ответила: – Не меньше полутора тысяч.
– Полутора?
Клава усмехнулась.
– А две не хочешь? Даже две, говорят, тоже просят, и, что ты думаешь, дают!
– А ты не давай, – сказал Петька. – Пусть кто хочет дает, а ты не давай!
Маша засмеялась.
Клава как бы нехотя улыбнулась. Она глядела то на сына, то на дочь, то на мужа. Но не было в ее глазах долгожданной радости оттого, что наконец-то сбылось самое заветное ее желание.
Она словно бы не верила, словно бы все время не переставала сомневаться, вправду ли муж вернулся, надолго ли останется с нею и детьми или вот сейчас, сию минуту, встанет, соберется, уйдет, как ушел когда-то, в сорок первом…
Дмитриев вбил последний гвоздик. Протянул Петьке оба ботинка.
– Держи, сынок!
Петька мгновенно обулся, несколько раз подпрыгнул, как бы проверяя прочность подошв.
– Ну как, порядок? – спросил Дмитриев.
– Порядок, – крикнул Петька, исчезая в дверях.
– Боевой парень растет, просто ужас, – сказала Клава, и Маша, видимо подражая матери, отозвалась озабоченно:
– Бедовый-пребедовый…
– Мужик, одним словом, – определил Дмитриев. – Мужику только таким и положено быть, а вы что хотите, чтобы он, словно девчонка, тихоней в углу посиживал да в куклы поигрывал?
– Господи! – Клава прижала к груди обе ладони. – Алеша, ты только подумай, я тебя вижу, вот так вот сижу и гляжу на тебя…
Она приблизила свое лицо к его. Дмитриев с болью подумал: «Как же она постарела, как разнится от той Клавы, какую оставил шесть лет тому назад…»
Тогда она была спокойной, белокожей, с ленивой улыбкой, освещавшей все ее большое, без румянца, тугощекое лицо с густыми длинными бровями, волосы у нее слегка вились, на висках виднелись темно-русые колечки, и на затылке тоже были колечки, она любила распустить волосы, окутаться ими, будто плащом, и глядеть в просветы прохладных прядей, словно из-за ветвей какого-то неведомого дерева…
А теперь кожа ее поблекла, мелкие морщинки досадно окружили глаза, волосы поредели, даже цвет стал другой, куда светлее, может быть, от седых нитей, кое-где пересыпавших некогда густые, блестящие пряди…
Да, не та Клава, совсем не та…
Ему стало совестно своих мыслей. Какой бы она ни стала, как бы ни постарела, она – его Клава, жена, верный друг, мать его детей, самый дорогой на земле человек. Он обнял ее, она прижалась к нему, блаженно закрыла глаза.








