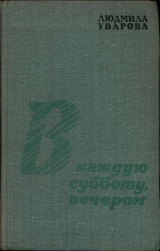
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Она думала о том, что теперь они начнут жить уже по-другому, не так, как жили без хозяина. Он – умелец, даже вот теперь, в первый же день, не успел прийти, как уже починил Петьке ботинки, и она знает, он себе всегда найдет, что сделать по дому, потому что все спорится в его золотых руках.
Ей вспомнилось, как они поженились. Было это в тридцать четвертом году, она жила в общежитии завода «Серп и молот», первый год, как начала там работать.
Она переехала к нему, у него был деревянный дом на Крестьянской заставе, с низкими потолками, с маленькими комнатками, в которых на подоконниках стояли цветы – бальзамин, герань, ванька мокрый, китайская роза. Летом в комнатах было прохладно, а зимой там жарко топили печи, и время от времени они начинали дымить, и тогда настежь раскрывались все двери, и Алеша сам чинил дымоходы, иногда ему помогал отец, тоже умелый, работящий человек, как о нем все говорили: «рукастый мужик».
В доме было тесно: Алешины родители, сестра Алеши с семьей, еще жила с ними старуха тетка, и тогда Алеша приспособил под жилье сарай во дворе, оклеил стены обоями, прорубил маленькое окошко.
Как легко дышалось в сараюшке жаркой летней порой!
До сих пор Клаве помнится видневшееся в окошке темное в ночных сполохах небо, усыпанное звездами.
Клава поднималась на локоть, чтобы увидеть побольше неба, Алеша спрашивал:
– Ты чего?
– Хочу попробовать звезды пересчитать, – отвечала она, – сколько их в наше окошко глядит…
Он смеялся.
– Чудачка, чего задумала? А ну спать, завтра чуть свет вставать надо…
Она ложилась на его руку, какая же это была надежная, верная рука…
После, когда дом на Крестьянской сломали, Клаве ничего не было так жаль, как тот самый сарайчик, где прошли первые годы их совместной с Алешей жизни…
Они получили вот эту комнату, в Черкизове, переехали вместе с матерью Алеши, отец его к тому времени уже умер, в скором времени умерла и мать. Комната была хорошая, с удобствами, но Клаве так часто вспоминался сарай во дворе, небо, видное в крохотное, прорубленное Алешей окошко…
– Пойду достираю, – сказала Маша.
– Нет, ты вот что, лучше пойди в магазин, надо отоварить карточки, – сказала Клава. – У нас жиры не взятые и, помнится, не весь сахар.
– Весь, – сказала Маша.
– Разве? Ну, все равно, иди возьми, что будет, лярд, или баранье сало, или смальц…
– А постирать когда? – спросила Маша.
– Потом, успеется.
Маша ушла. Клава проводила ее взглядом.
– Помощница у нас дочка, лучше не сыщешь.
– Она какая-то раньше времени взрослая, – сказал Дмитриев.
– Чего ж удивительного? Жизнь-то у нас какая была без тебя? Все с нею, как с равной, советуешься, с кем же еще?
– Подруги у нее есть? – спросил Дмитриев.
– Вроде есть.
– По-моему, ты ее чересчур загружаешь по дому, она, наверное, и уроки не успевает готовить…
Клава пожала плечами, ничего не ответила.
– Она же еще в конце-то концов маленькая, как говорится, подросток, ей бы еще бегать, и в куклы играть, и с подругами в салки там или в прятки, и в кино ходить и еще куда-нибудь, а она у тебя и стирает, и готовит, и за Петькой смотрит…
Клава сдвинула длинные красивые брови.
– Да ты что, Алеша? Как же иначе? Я на заводе вкалываю будь здоров, иногда до позднего вечера из цеха не выйду, Петька один-одинешенек, что же ей, выходит, в кино бежать или в прятки прятаться, а Петька как хочет?
Дмитриев долго молчал. Потом взял Клавину руку, провел по своему лицу.
– Теперь все иначе будет, – сказал.
Приподнял голову, прислушался. Спросил почему-то шепотом:
– Никак, ушла Маша?
– Ушла, – так же шепотом ответила Клава.
Он погладил Клаву по голове, отбросил назад волосы, упавшие на Клавин лоб.
– Опять мы с тобой вдвоем, – сказал тихо.
– Опять, – словно эхо отозвалась она.
* * *
Во вторник собрались у Дмитриевых гости.
Пришла старшая сестра Алевтина, а также Клавин отец, краснолицый старик, сразу видно, что не дурак выпить, и Клавина подруга Дуся, на «Серпе и молоте» когда-то вместе в одном мартеновском цехе вкалывали, Клава машинистом подъемного крана, Дуся лаборанткой в цеховой экспресс-лаборатории.
Позвали соседей, старуху Квашневу и Федора Ивановича, инвалида, обе ноги в гражданскую потерял, с женой, проживавшими в комнате, рядом с кухней.
Клава напекла пирогов, еще с войны у нее было около трех килограммов крупчатки первого сорта, поставила на стол тушенку, привезенную Дмитриевым, наложила полную миску рубинового от свеклы винегрета, еще была селедка с луком, и жаренная с колбасным фаршем картошка, и две бутылки водки, одну принесла Дуся, Клавина подруга.
Дуся, некогда хорошенькая, смуглолицая, глаза темно-синие, почти черные, похожие на сливы, малиновый рот, рыжие, непокорные волосы волнами на плечах, за эти годы тоже изменилась, стала худой, узколицей.
«Одни глазища остались», – подумал Дмитриев.
Однако когда уселись за стол и Дуся очутилась рядом с Дмитриевым, она вдруг оживилась, повеселела, стала неожиданно походить на ту прежнюю Дусю, умевшую вскружить голову любому мужику.
Дмитриев вспомнил, как неистово ревновал Дусю ее муж Геннадий, красивый, рослый парень.
Дмитриев знал со слов Клавы, что Геннадий ушел на фронт месяца на два позднее Дмитриева и в сорок втором погиб, подорвался на мине, где-то под Курском.
Клавин отец Василий Куприянович поднял рюмку, сказал:
– С возвращением тебя, сынок!
Все выпили. Даже Маша пригубила капельку, даже Петька, сидевший на коленях отца, ткнулся носом об отцовскую рюмку, что означало, он тоже присоединяется к тосту.
Алевтина, сестра Дмитриева, поджала поблекшие губы, сказала надменным тоном:
– Что это за тост такой? Мой Митя был бы сейчас здесь, он бы такой тост выдал – все бы закачались!
– А чем же мой тост плох? – спросил Василий Куприянович.
– Не плох, а короток, – отрезала Алевтина.
Она была удачлива, может быть, потому хвастлива. Клава считала, что война обошла ее стороной, с первых дней начала работать в ОРСе номерного завода, и муж был при ней, имел бронь, часто ездил в командировки, и теперь тоже был в командировке в Ташкенте, сулился привезти урюк и рису, он был не промах, работал в отделе снабжения крупного машиностроительного завода и умел, как говорила все та же Клава, обеспечить семью по самое горлышко.
Дмитриев понимал, что Клава, хотя и пытается это скрыть, немного завидует Алевтине.
Сам он, разумеется, не питал к сестре решительно никакой зависти, но подчас она раздражала его откровенной своей хвастливостью, все, что принадлежало ей, было, как она полагала, самым лучшим, непререкаемо первосортным: и муж Митя, и дочь с внуком, и комната в заводском доме с балконом и чуланчиком в коридоре, в почти отдельной квартире, поскольку единственный сосед, старый кадровый рабочий, овдовев, снова женился и большую часть времени проводил у новой жены.
Дуся поставила на стол недопитую рюмку, сказала:
– Вот ведь как бывает, мы тебя, Алеша, давным-давно похоронили и не думали, не гадали, что ты вернешься, и Клава тебя уже не ждала…
– Нет, ждала, – возразила Клава, – и минуты я не верила, что Алеша погиб!
– Я тоже не верила, – сказала Маша, а Петька, уписывающий тушенку с винегретом, оторвался на миг от тарелки, пробормотал с полным ртом:
– И я не верил…
Все засмеялись. Алевтина вынула платок, обмахнула сухие глаза.
– Что за парень наш Петюня, – сказала задушевно. Петька, улучив момент, показал ей язык и снова уткнулся в свою тарелку.
Клава погрозила ему пальцем. Потом сказала:
– Вот чем хотите клянусь, детьми своими поклясться могу, я его ждала, каждый день ждала. Утром, бывало, проснусь, может, думаю, сегодня он явится? Вечером с работы домой спешу и по лестнице как рвану, ни на что не погляжу, устала не устала, бегу, что есть сил, вдруг, думаю, он уже здесь, дома, ждет меня.
Голос ее дрогнул. Маша тихонько положила руку на ее ладонь.
– Думаете, нам легко было? – снова начала Клава, чуть погодя. – Все, все, как есть, пережили: и налеты, и воздушные тревоги, и вахты фронтовые, когда по нескольку дней из цеха не выйдешь, а сердце все, как есть, изболится, потому как дома ребята одни, и что там у них, все ли в порядке, не сожгли ли дом, не убежали ли в чем есть на улицу, не голодные ли, ничего неизвестно…
Закрыла лицо обеими ладонями, но тут же снова открыла лицо, тряхнула волосами:
– А тут Маша заболела, что делать? Гляжу, тает девчонка, вдруг, думаю, не сберегу, что тогда скажу Алеше?
Сложила вместе большие, тяжелые ладони с раздавленными работой пальцами.
– Как тогда жить буду, думаю? Усиленное питание ей нужно, а где возьму? Война ведь… Хорошо, я ковер на сало выменяла, потом зеркало на сливочное масло, правда, после гляжу, масло-то пополам с водой…
– Бывает, – заметила Алевтина. – На рынке только и норовят как бы обмануть кого ни попало…
– Потом я часы Алешины обменяла, «Звезда», кажется, назывались?
– «Звезда», – сказал он.
– Помнишь, Дуся, как мы с тобой на рынок в Пушкино рванули?
– Как же не помнить, – отозвалась Дуся. – Три поезда пропустили, пока наконец-то втиснулись…
– Там сразу же на мужичка-кулачка наткнулись, – продолжала Клава. – Как сейчас помню, борода по самые брови, глазки колючие, уж он эти твои часы, Алеша, и так и этак вертел, и к уху прикладывал, и тряс их, все ждал, что они станут, а они идут себе да идут…
– Помнишь, Митя вам гречневой крупы дал? – спросила Алевтина, обращаясь к Клаве, но глядя на Дмитриева. – Потом как-то сахар тоже, не то песок, не то кусковой…
Клава даже бровью не повела в ее сторону. Дмитриев безошибочно угадал, как, должно быть, Алевтина долго и настойчиво, это она умела, каждый раз напоминала Клаве, что, дескать, ее Митя помог им, чем мог, и что бы они делали без Мити, и какой ее Митя замечательный, самоотверженный человек…
Не было бы за столом посторонних людей, он бы врезал сестре, что называется, от всего сердца. Впрочем, к чему теперь какие бы то ни было слова, упреки? Что было, то было, не исправить, не переделать, и позабыть прошлое – невозможно.
Клава сказала:
– Теперь ты, Алеша, у нас без часов остался. Я тогда за них творог и яйца получила…
– Ничего, – пробормотал Дмитриев, – не пропаду…
– Счастливые часов не замечают, – заметила, улыбаясь, Алевтина.
Клава обняла мужа, крепко прижалась к его щеке.
– И то верно! Чем же мы сейчас не счастливые?
– Тут одна тетенька просила маму твое пальто продать, папа, – сказала Маша. – Мяса ей в обмен предлагала, еще чего-то…
– Сахара постного, – вспомнил Петька. – Я до того люблю постный сахар…
– Только мама ни в какую, – сказала Маша, – ни за что не согласилась.
– А как же? – спросила Клава. – Я ей говорю, и не просите, все одно не соглашусь ни за что, как же это я отдам его пальто, он вернется, а ему надеть нечего, без часов еще туда-сюда, а без пальто как же?
– Нет, ты в самом деле верила, что он вернется, – сказала Дуся. – Не то что я…
Красивое лицо ее помрачнело, как бы разом погасло.
Клава не расслышала Дусиных слов, продолжала дальше:
– Чего уж там говорить, досталось нам на сто лет вперед…
– Это ты верно сказала, – вставила старуха Квашнева, – на все сто лет вперед…
– Хорошо, что помогли мне на нашем заводе, – сказала Клава. – Машу в детский санаторий определили, в Сокольниках, она там два месяца пробыла, верно, дочка?
– Два месяца и пять дней, – сказала Маша.
– Как вернулась, гляжу, совсем моя девка другая стала, не узнать.
– Еще бы, – согласилась Алевтина, поджимая блеклые губы, – шутка ли, на свежем воздухе, на всем на готовом…
– Надо было пальто тоже сменять, – сказал Дмитриев. Он уже успел выкурить никак не меньше десятка самокруток и теперь «стрелял» «гвоздики» у Федора Иваныча. Слушать Клаву было необычайно мучительно, каждое слово как бы стучало в его сердце, отдавалось в нем тяжким сознанием собственной вины.
Да, на нем лежала вина за все, за болезнь дочки, за нехватки, за того мужичка-кулачка, которому Клава отдала часы, а он тряс и разглядывая часы, все думал, что его хотят обдурить, после сунул Клаве творог и яйца, и она взяла, потому что надо было кормить детей.
Он, Дмитриев, был повинен во всем и в то же время разве он знал? Разве мог представить себе, хотя бы на минуту, на тысячную долю секунды, что станется с его семьей здесь, дома, без него?..
Василий Куприяныч перебил мысли Дмитриева:
– Давай, Алеша, расскажи о себе…
– Что рассказать? – спросил Дмитриев.
– Как все с тобою было.
– Как все со мною было? – переспросил Дмитриев, – это надо подряд целую неделю рассказывать, никак не меньше.
– У нас время пока что есть, не устанем, – сказал Василий Куприяныч. Он уже слегка захмелел, серенькие, в припухших веках глаза его сузились, стали окончательно щелочками.
Дмитриев вспомнил, как в лагере, в третьем бараке однажды сидели они возле железной печурки. Зима, холод, ночь. В ночи особенно ясно слышен собачий лай, начальник лагеря штурмбанфюрер Шнитке любил овчарок.
Кто-то сказал:
– Кравченко, выдай на-гора…
Кравченко был щуплый, маленького роста, в прошлом донецкий шахтер. Попал в плен возле Старой Руссы. Ничем особенным не выделялся из всех, кроме одного, писал стихи.
И любил читать свои стихи товарищам и мечтал, когда-нибудь, когда неизвестно, но все равно, так будет, он вернется к себе в Донбасс и будет выступать в городском театре, вот так же, как некогда до войны там выступали артисты. И прочитает свои стихи, написанные в плену.
Больше всех других стихов Дмитриеву нравились вот эти стихи Кравченко:
Россия, страна дорогая,
Родимый березовый край,
Я часто тебя вспоминаю,
И ты обо мне вспоминай!
Ты помни о сыне далеком
В тяжелом фашистском плену,
Гляжу и гляжу на восток я
И вижу родную страну,
Синеют колхозные пашни,
Леса над рекою шумят.
И люди советские, наши,
По-русски со мной говорят…
Дмитриев как бы воочию увидел сейчас Кравченко, туго обтянутые кожей его щеки, тонкие костлявые пальцы. Когда Кравченко читал стихи, он все время жестикулировал. Глаза его лихорадочно блестели, красивые когда-то, должно быть, веселые, лихие глаза, как бы отороченные темными ресницами – угольной пылью, въевшейся за годы работы в шахте…
Кравченко умер ранней весной сорок пятого. Лежал притихший, очень маленький. Говорил:
– Как вернусь домой, живо поправлюсь, от одного воздуха сразу же приду в себя, вскочу на ноги, только меня и видели!
Не верил, что умирает, не желал сдаваться.
Дмитриев подумал, что позднее, когда все уйдут, он непременно прочитает стихи Кравченко Клаве и детям, пусть знают, что за человек был Кравченко, донецкий шахтер, его товарищ, тоже не по своей воле угодивший в плен…
Как бы разгадав мысли Дмитриева, Дуся сказала: – Когда-нибудь потом расскажешь, Алеша, не теперь…
– И то верно, – согласился Дмитриев.
Клава встала, держа в пальцах рюмку.
– Еще раз, Алеша, хочу за тебя выпить, за то, что ты пришел живой ко мне и к детям, за то, что дождались мы тебя…
– Ура! – негромко произнесла Дуся. По щекам ее катились слезы, она не вытирала, может быть, даже не чувствовала их. – Не могу больше, – отставила от себя подальше свою рюмку.
– Думаешь, я, что ли, привычная? – спросила Клава. – Но за мужа своего, за радость свою не могу не выпить!
– Хватит, Клаша, – сказал Дмитриев, – больше не надо!
– Не бойся, не подумаю больше, – ответила Клава, счастливо улыбаясь.
– Чему это ты смеешься? – удивленно спросила Алевтина. – Чего тут такого веселого?
– Кому как, не знаю, – сказала Клава, – а мне до того весело!
– Почему весело?
Алевтина, сощурясь, смотрела на Клаву карими глазами, походившими и не походившими на глаза Дмитриева.
– А потому, что муж мой рядом и снова, как бывало, приказы мне отдает, – сказала Клава.
– Все, как прежде, – сказала Дуся и вытерла ладонью влажные щеки.
Старуха Квашнева встала, поклонилась Дмитриеву.
– Спасибо за хлеб, за соль.
– Что так быстро? – спросил Дмитриев.
– Хватит. Посидела за чужим столом, нагляделась на чужое счастье, пора и восвояси.
Она выпила единым духом, не глядя ни на кого, еще раз поклонилась и вышла.
Инвалид Федор Иваныч, когда-то непревзойденный пекарь, еще у самого Филиппова калачи выпекал, покачал лысой головой:
– Сильна старуха…
– Чем же так уж сильна? – спросила его жена Степанида Сергеевна, юркая старушонка, тощенькая, в чем только душа держалась, однако быстрая, подвижная, как искорка.
Старуха Квашнева издавна не ладила со Степанидой Сергеевной, и в былые времена Дмитриеву не раз приходилось улаживать постоянные их споры друг с другом; спорили они, бывало, из-за всего: из-за конфорки на плите, из-за платы за электричество, из-за уборки мест общего пользования…
Клава придерживалась нейтралитета, но в душе, Дмитриев знал, была на стороне Степаниды Сергеевны. И теперь он удивился, когда услышал Клавины слова:
– Зачем вы так говорите, Степанида Сергеевна? Полина Кузьминична человек обиженный, убитый, шутка ли, какое горе на нее навалилось!
– Никто не спорит, горе оно и есть горе, – тоненьким голоском произнесла Степанида Сергеевна, она была себе на уме; знала, когда следует промолчать, когда возразить, когда согласиться. – Только для чего же на чужое-то веселье тень наводить? Плохо тебе, кто же спорит, а людям не к чему душу травить, и себе не поможешь, и других омрачишь…
– Что верно, то верно, – сказал Федор Иваныч, всегда и во всем соглашавшийся с женой, – Степа сказала, как припечатала.
– Нет, – сказала Клава, – горе у нее такое, ни с чем его не сравнить.
Невольно потянулась к Петьке, погладила его по голове, Петька надул щеки, отодвинулся от нее. Не любил, чтобы с ним при всех словно с несмышленым малышом обращались.
– Я думаю, она немного не в себе, – заметил Дмитриев.
– У нее, как когда, – сказала Клава, – когда в полном своем уме, а когда вроде помутнения находит…
– У нее, кажется, еще невестка была? – спросила Алевтина.
– Была. Уехала с дочкой, завербовалась и куда-то махнула на Север.
– Стало быть, за длинным рублем, – предположил Василий Куприянович.
– Должно быть, так и есть, – согласилась Клава, – а про старуху начисто забыла, старухе от нее вот уже который год ни строчки, ни весточки, ничего!
– Ты у нас счастливая, потому и добрая, – сказала Дуся, улыбаясь, как показалось Дмитриеву, немного насильственно, – все счастливые всегда добреют…
Клава тоже улыбнулась в ответ.
– Может, и так, не знаю.
– Ладно, давай споем что-нибудь, тряхнем стариной.
– А что спеть, Дуся? – спросила Клава.
Дуся подумала и начала:
– Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой…
Голос у Дуси был пронзительный, очень тонкий, но пела она верно, ни разу не сфальшивила, крупные, походившие на сливы глаза ее повеселели, разгорелись.
Василий Куприяныч подхватил фальцетом:
Выходила на берег Катюша,
На высокий…
Неожиданно дал петуха, засмеялся.
– Гляди, папа, надорвешь голос, в Большой театр не возьмут, – сказала Клава.
– И не надо, – ответил Василий Куприяныч не то сердито, не то обиженно, будто ему и впрямь грозило, что его не примут в Большой театр.
Дуся допела до конца. Нахмурилась, сжала губы.
– Ты чего? – тихо спросила Клава.
– Ничего.
– А все-таки?
– Гена «Катюшу» любил, помнишь?
– Помню.
Клаве вспомнилось, как это случилось. Дуся в тот день пришла на работу радостная, сказала:
– Геночка письмо прислал. Все у него хорошо, пишет…
И Клава невольно позавидовала ей: дождалась, получила письмо от мужа, а ее Алеша уже месяца четыре молчит…
Клава даже застыдилась сейчас тогдашней своей зависти.
Как все неожиданно обернулось!
Было это в марте, а в апреле, тогда как раз ранняя пасха была, Дуся собрала, как она выражалась, бабешник, позвала Клаву, свою сестру Ларису и соседку по квартире Анну Егоровну.
– Давайте, девочки, – сказала, когда все уселись за стол, – попразднуем, как умеем, отметим Геночкино письмо.
Лариса, толстая, с выкаченными коровьими глазами, решительно непохожая на красивую Дусю, удивилась:
– От Гены твоего письмо? Что, еще получила?
– Нет, не получила, может, на днях получу.
– Так ты же то, старое, с месяц, как получила.
– Ну и что с того? – сказала Дуся. – С фронта письма знаешь как долго идут?
– Откуда же мне знать? – спросила Лариса. Она работала на кондитерской фабрике «Рот-Фронт», мастером конфетного цеха, с мужем была в разводе и теперь уверяла Дусю, что ни за что не хочет снова выйти замуж. Но Дуся знала, что неправда все это, пустые слова, Лариса спит и видит увести из семьи начальника смены на ее фабрике, а он ни в какую, поскольку Лариса устраивала его во всех отношениях, но только не как жена.
Посидели, выпили вина, поели пирогов с грибами, грибной икры, заливной рыбы, Дуся была мастерица вкусно готовить, особенно у нее удавались пироги, тесто, словно пух, и потом в ту пору много продуктов можно было свободно купить в магазинах, еще года не прошло с начала войны.
После Дуся вытащила свои и Геннадия фотографии.
– Это мы с Геночкой в доме отдыха… А это мы с Геночкой на новоселье у свекрови… А вот мы в парке культуры…
Оживилась, раскраснелась, молодая, совсем как девушка…
Прозвучал звонок в коридоре. Анна Егоровна вышла из-за стола.
– Наверно, дочка с работы пришла…
Вернулась в комнату, села рядом с Клавой. Шепнула:
– Выйди ненадолго.
– А что такое? – тихо спросила Клава. Но Анна Егоровна ничего не ответила, только сжала ее руку.
Между тем Дуся завела патефон, поставила любимую пластинку «Очи черные». Стала подпевать тонким своим голосом певцу Вадиму Козину, который уверял, что черные глаза забыть невозможно, они всегда горят перед ним…
Клава незаметно вышла в коридор вслед за Анной Егоровной. И там, в коридоре, Анна Егоровна показала ей письмо.
Клава читала, никак не могла уяснить. О ком это? Про кого? Потом вдруг поняла все сразу.
«Ваш муж, Геннадий Николаевич Закаемов…»
Клава не сдержалась, вскрикнула, тут же спохватилась, зажала рот обеими ладонями:
– Это же Геннадий, Гена…
– Он самый, – сказала Анна Егоровна.
Старое, изрезанное морщинами лицо ее страдальчески исказилось.
– Вот беда-то, вот горе-то.
– Что же делать, Анна Егоровна? Как сказать ей? – спросила Клава.
Анна Егоровна откашлялась, словно речь готовилась произнести.
– Разве знаю? – спросила.
Обе вернулись обратно в комнату. Теперь уже была поставлена другая пластинка, цыганская венгерка.
И Дуся пустилась в пляс.
Она плясала, словно заправская цыганка, по всем правилам, тряся плечами, сгибалась книзу штопором и снова выпрямлялась, била себя руками по плечам и по коленям.
Лариса лениво жевала пирог, время от времени хлопала в ладоши.
А Дуся плясала все быстрее, все зажигательней и выкрикивала частушки, одну за другой:
Это что за любовь,
Ты домой и я домой.
Давай вместе, милый мой,
Мы пойдем к тебе домой!
Хорошо страдать на печке,
Ножки в тепленьком местечке.
Хорошо страдать за баней,
Вместе с милым моим Ваней…
Пела и смеялась, поводила плечами и кружилась так, что в глазах мелькало и было трудно глядеть на нее.
Ничего они в тот вечер ей не сказали. А она была такая веселая, плясала, пела, волчком вертелась, потом села за стол, пригладила обеими ладонями растрепавшиеся волосы, неожиданно грустно сказала:
– Поглядел бы на меня теперь мой Геночка…
Клавино сердце словно бы сжала чья-то беспощадная рука. Но она промолчала, и Анна Егоровна выразительно глянула на нее и тоже не сказала ни слова.
А через два дня, когда Дусе уже все, как есть, было известно, Клава пришла к ней, увидела, сидит Дуся за столом, неприбранные волосы свисают на глаза, глядит прямо перед собой остановившимся взглядом, постаревшая, как бы разом спавшая с лица, бледная до того, что, казалось, кровь вся, как есть, вытекла из ее жил.
Клава села рядом, обняла ее, Дуся и головы не повернула.
– Вот и все, – сказала, по-прежнему глядя перед собой.
– Нет, не все, – начала было Клава, но Дуся сердито передернула плечами.
– Говорю тебе, все, – значит, все!
Теперь Клава, глядя на нее, оживленную, раскрасневшуюся, подумала о том, что любое горе со временем проходит, круты горки, да забывчивы, и хорошо, что проходит, иначе невозможно жить было бы…
Дуся обернулась к Клаве и, должно быть, подумала о том же самом, красивое лицо ее как бы в один миг погасло, постарело, крупные, походившие на сливы глаза будто пеплом подернулись.
Гости разошлись поздно. Василия Куприяныча Клава хотела было оставить ночевать, но он неожиданно протрезвел и наотрез отказался ночевать в чужом месте.
– Я свою кровать, – сказал, – ни на какие коврижки не променяю.
– Мам, давай я тебе помогу посуду вымыть, – сказала Маша сонным голосом.
– Без тебя обойдемся, – отрезала Клава.
Дмитриев положил руку на Машино плечо. Плечо было хрупкое, слабенькое, каждая косточка прощупывалась. Дмитриев сел на стул, поставил перед собой Машу, она часто моргала глазами, время от времени широко зевая.
– А ты спать хочешь, дочка.
Маша кивнула:
– Хочу.
Подняла руку, потерла глаза, на локте у нее была крохотная, аккуратная латка. Немудрено, локти острые, детские, так и рвут, насквозь прокалывают материю…
– Мам, – сказала Маша, – ты меня завтра пораньше разбуди.
– Что так? – спросила Клава.
– У меня завтра сочинение на вольную тему, а я ничего не знаю, про что писать. Придется почитать что-нибудь перед школой.
– Не бойся! Напишешь! – сказала Клава.
– А ты посоветуй, про что писать, – попросила Маша.
– А сама не можешь? – спросил Дмитриев.
Несколько мгновений Маша глядела на него.
– Я про тебя напишу, папа. Напишу, как ты к нам пришел, как все было, как мы тебя ждали, ждали…
– Пиши, дочка, что хочешь.
Дмитриев прижал к себе Машу, вдыхая в себя знакомый родной запах.
– Иди спать, дочка, – сказал, – утром я тебя сам разбужу…
Взял ее на руки, положил на диван.
– Я про тебя напишу, – едва слышно пробормотала Маша. Спустя секунду она уже крепко спала.
Спал и Петька, по своему обыкновению, уткнувшись носом в подушку.
– Ложись, – сказала Клава, – а я пойду по-быстрому перемою посуду…
– И я с тобой, – вызвался Дмитриев.
Кухня была маленькая, тесная от столиков, со старинной дровяной плитой, с ведром для мусора, стоявшим в углу. Крохотная электрическая лампочка едва светила под потолком. Стены были закопченные и пол весь в жирных, плохо вымытых пятнах.
– Подумать только, я о нашей кухне, словно о царском замке, вспоминал, – сказал Дмитриев. – Думал, ничего лучше, красивее и уютнее в целом свете нет и быть не может!
Клава бегло улыбнулась ему и поставила чистую тарелку на стол.
– Давай, вытирай!
– Есть, товарищ начальник!
– Тише!
Клава кивнула в сторону коридора.
– Поздно уже, а ты во весь голос, люди-то спят…
– Не буду больше, – сказал Дмитриев.
Чьи-то шаги послышались в коридоре. Оба, и Клава и Дмитриев, обернулись.
Явилась старуха Квашнева. Все в том же темном платье, в каком сидела за столом, видно, еще не ложилась спать.
– Что это вы не спите? – спросила.
– Сейчас уберем всю посуду и ляжем, – ответила Клава.
Квашнева подошла ближе. Сказала, не отводя глаз от Дмитриева:
– А ты, малый, постарел…
– Как же не постареть? – спросила Клава. – Я, что ли, помолодела?
Квашнева, не отвечая ей, снова произнесла медленно, вдумчиво:
– Такой молодой был, видный из себя, а теперь… – Не договорила, махнула рукой.
– Какой есть, – улыбнулся Дмитриев.
Клава взяла горку тарелок, отнесла в комнату. Потом снова вернулась, стала домывать остальные. По ее лицу, по опущенным глазам Дмитриев догадался, Клава обижена на старуху за ее откровенные слова и, не жалей она старуху, сумела бы как положено ей ответить.
Квашнева полезла в свой карман, вынула из него что-то завернутое в бумагу.
– Возьми, Алексей, может, пригодится…
Дмитриев развернул бумагу. Большие круглые часы-луковица блеснули на его ладони.
– Что это? – спросил Дмитриев.
– Часы, разве не видишь? – удивленно сказала Клава.
– Это Павел Бурэ, – сказала Квашнева, – еще отца моего, старинные. Все для Вовы берегла, думала, он их носить будет…
– Да не надо, Полина Кузьминична, – сказала Клава. – Да что вы? Еще самим пригодится…
– Зачем мне? – спросила Квашнева. – А твоему и в самом деле пригодятся. Сама же говорила, что сменяла его часы-то…
– Спасибо, – сказал Дмитриев. – Большое спасибо…
Квашнева не ответила, пошла к дверям, на пороге обернулась, молча вглядываясь в Дмитриева, словно хотела еще раз хорошенько разглядеть его и получше запомнить…
Старые яблони
Летом она приезжает сюда часто. С утра уже появляется в этом замоскворецком нешироком дворике.
Сидит на скамейке возле ворот, худенькая, как бы истонченная временем, но еще крепкая на вид, хотя уже вошла в пору глубокой старости.
К ней привыкли. Иные проходят мимо, не замечая, но иные, их больше, останавливаются возле нее, перебрасываясь немногими словами.
Во дворе, в двухэтажном флигеле расположилось некое учреждение с длинным, хитрым названием, что-то вроде «Ремавтостройснабтрест».
Здесь, в этом самом флигеле, в котором нынче находится не то контора, не то трест, она прожила почти всю жизнь.
Без малого шестьдесят лет прошло с того дня, когда однажды зимой Таня переехала к Ване, во 2-й Бабьегородский переулок.
Крохотные две комнатки, оклеенные пестрыми обоями, низкие потолки, уютные печи, выложенные голубыми и белыми изразцами, окна глядят во двор, где растут кусты акации, одичавшая смородина и мелкая малина.
Как это все случилось?
Многое уже не помнится, только живет в памяти Ванин голос, его южный говорок:
– Я не могу без тебя, Таня.
– Я тоже не могу, – сказала она.
Шли они тогда зимним вечером по Калужской; сыпал снег, отсвет фонарей лежал на сугробах. Голубые тени то забегали вперед, то почему-то оставались позади, плелись, словно бы в чем-то виноватые…
Ваня остановился, вглядываясь в румяное с мороза Танино лицо, осторожно обнял, повернул к себе, прижался холодной щекой к ее щеке.
Так они стояли долго, а снег все сыпал да сыпал, оседая крупными, влажными, быстро тающими хлопьями на плечах, на заснеженной, насквозь промерзшей земле, на тяжелых ветвях деревьев.
Потом они поселились вместе во 2-м Бабьегородском.
Иной раз кажется, жизнь пронеслась, пробежала, мелькнула, как один день. С ясным добрым рассветом, с теплым вечером, которому суждено неминуемо перейти в долгую ночь…
В июле сорок первого Ваня ушел в народное ополчение. Время от времени приходили от него коротенькие письма: жив, здоров, береги себя, увидимся, когда разобьем врага.
Как же она тосковала! Он был для нее всем, самым родным, единственным, навсегда любимым. Детей не завели, родители умерли, осталось их всего лишь двое – он для нее, она для него…
Ваня вернулся с войны спустя два года, потеряв на фронте ногу. Когда она увидела его на костылях, не выдержала, зарыдала в голос. А он сказал:
– Чего ты плачешь? Ведь живой же…
– Я от счастья, – сказала она.
И он согласился.
– Да, ты права, это счастье…








