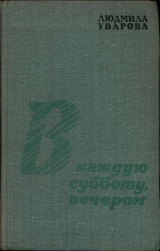
Текст книги "В каждую субботу, вечером"
Автор книги: Людмила Уварова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Annotation
Новая книга Людмилы Уваровой рассказывает о наших современниках, о любви, дружбе, верности, о взаимоотношениях людей старшего и молодого поколения. Далеко не все гладко бывает в жизни героев писательницы, порой их подстерегают нелегкие испытания, горести и неудачи, но никогда они не теряют веру в человека.
Людмила Уварова
Год спокойного солнца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Рассказы
Три дня в Москве
Тетя Чайпить
В каждую субботу, вечером…
1
2
Петух на балконе
1
2
3
4
Новоселье
Мы – мужчины
1
2
3
Часы Павла Бурэ
Старые яблони
И вот я приехал…
Кто купил попугая Петрушу?
Людмила Уварова
В каждую субботу, вечером
Повесть и рассказы
Год спокойного солнца
Повесть
1
Асмик подошла к столу, робко спросила:
– Я к вам. Можно?
Туся что-то быстро писала в блокноте. Не поднимая головы, пробормотала вежливой скороговоркой:
– Сию минуточку. – Потом закрыла блокнот, положила ручку в деревянный бокальчик. – Слушаю вас. – И тут же рассмеялась. – Каждый раз на этом самом месте.
– Как водится, – ответила Асмик. – Слушай, я до смерти хочу есть. Пошли обедать в шашлычную на Никитской, я угощаю!
Туся укоризненно покачала головой:
– Погляди на себя, еще один шаг – и догонишь Юрия Власова или этого, как его, Жаботинского…
– Считай, что шаг уже сделан, – флегматично промолвила Асмик.
Туся сосредоточенно посмотрела на часы.
– Мне еще два часа сидеть, не меньше. Выдержишь? Или костлявая рука голода уже схватила тебя за горло?
– Чего не сделаешь во имя дружбы!
Асмик хотела еще что-то добавить, но вошел посетитель.
Это была общественная приемная большой московской газеты, и сотрудники газеты поочередно дежурили там.
Поначалу Тусе нравились эти дежурства. Хотя и уставала сильно, а нравились. Приходя домой, она все еще слышала голоса людей, перед глазами мелькали лица, разные, молодые и старые, каждое со своей бедой, со своей заботой, потому что с радостью сюда не приходил никто.
Первое время Туся переживала за всех. Порой, не дослушав, уже бралась за телефонную трубку – скорее позвонить, разузнать, исправить.
Как-то Асмик сказала ей:
– Наверное, только врачам да еще юристам под силу измерить человеческое горе.
Туся прибавила:
– И еще нам – газетчикам.
Но чем дальше, тем все чаще она стала ловить себя на недоверии. Человек говорил, жаловался, требовал справедливости. Туся слушала и думала про себя: «А что, если выслушать вторую сторону? Так ли это все на самом деле?»
Недоверие сменилось усталым равнодушием. К ней приходили, жаловались, порой плакали, а она, с трудом сдерживая нетерпение, украдкой поглядывала на часы.
Но об этом Туся никому не говорила. Тем более Асмик. Та наверняка обрушилась бы на нее со всем пылом своего южного темперамента.
И Туся молчала. Делала свое дело, томительно скучала, но не показывала вида. А люди охотно шли к ней, тянулись к распахнутым навстречу глазам, к улыбке, привычно освещавшей красивое, ясное лицо.
Сложив руки на груди, Асмик издали наблюдала за тем, как Туся разговаривает с посетителем.
Тусино лицо поминутно меняло выражение. То становилось сочувствующим, то словно легкая тень набегала на него, то светлело в улыбке.
«Переживает, – думала Асмик. – Слушает и переживает. Как же иначе?»
Асмик посмотрела в окно, за которым зеленел горячо и сочно освещенный солнцем молодой сквер. И вдруг внезапно рванулась с неожиданным для ее грузного тела проворством.
– Опоздала! Так и есть, опоздала!
Туся оборвала фразу на середине. С неудовольствием спросила:
– Что случилось? Пожар или наводнение?
– Хуже, – торопливо бросила Асмик. – Опоздала на вокзал…
Туся улыбнулась, помахала ей рукой. Но Асмик уже ничего не видела, стремглав неслась по лестнице вниз.
Посетители между тем сменяли друг друга. Кто жаловался на райжилотдел: не дают очередникам приличной площади, кто на затянувшееся строительство детского сада, кто на директора завода, самовольно повысившего нормы.
А потом вошел он, Ярослав. Туся сразу узнала его, он мало изменился, разве что виски стали седые, но те же глубоко посаженные умные глаза, и немного выступающая вперед челюсть, и широкие брови.
Подошел к Тусе. Солнце светило ему в лицо, он щурился, заслоняясь ладонью от солнца.
– Разрешите? – спросил он.
«Не узнал, – подумала Туся. – Или просто ослеп от солнца?»
Она показала ему на кресло возле стола. Он сел, вынул из кармана платок, вытер лицо и шею.
– Сегодня до того жарко, – начал было Ярослав, взглянул на Тусю, и вдруг остановился. Глаза расширились, брови дрогнули. Узнал. – Туся, – сказал растерянно. – Неужели ты, Туся?
– Здравствуй, Ярослав, – ответила Туся.
Он пожал ей руку. Его рука была холодной, хотя за окном стояла жара.
– Сегодня так парит, – сказал неуверенно.
– Да, – сказала Туся. – Быть дождю.
Улыбка тронула его губы. Как и раньше, зубы его как бы налезали друг на друга, и по-прежнему казалось, зубов у него слишком много.
– Вот что, – сказал он. – Разговор о погоде и еще о том деле, с которым я пришел к тебе, продолжим после. Согласна?
– Как хочешь, – ответила она.
Он взглянул на свои часы.
– Ты когда кончаешь?
– В начале седьмого.
– Давай встретимся после работы. Идет?
– Идет.
– Я тебя буду ждать в половине седьмого, в кафе «Арктика», знаешь, на улице Горького?
– Знаю.
Он встал.
– Стало быть, в половине седьмого.
Он знал, Туся наверняка провожает его взглядом, и, должно быть, потому старался держаться особенно прямо. А впрочем, он выглядел все таким же стройным, затылок аккуратно подстрижен, пиджак модный, с двумя разрезами по бокам. Только, может быть, слегка пополнел, как ни говори – годы…
2
Асмик любила повторять:
– Все в мире жаждет перемен, а я люблю постоянство.
Но фраза эта никого не могла обмануть. Асмик была понятной, вся как на ладони. Санитарки и сестры в больнице называли ее «простая».
Однажды, когда ей было лет двенадцать, она влюбилась в управдома. Это была самая первая ее любовь, которую, как известно, полагается помнить всю жизнь. Управдом был отставной военный, он так лихо скрипел ремнями, сапоги его так искрились и блестели от ваксы, что сердце Асмик то падало, то вспрыгивало к самому горлу.
Она старалась попадаться ему на глаза, а встречаясь, краснела, растерянно лепетала:
– Здравствуйте…
Управдом был очень занятой, вечно носился по этажам большого девятиэтажного дома, ругался с малярами, с водопроводчиками, нещадно стыдил неисправных квартиросъемщиков и ровно никакого внимания не обращал на Асмик.
Безответная любовь наскучила ей, и она разлюбила управдома.
Она была некрасива – толстая, неуклюжая. К тому же одевалась на редкость безвкусно. Над ней посмеивались, а она наперекор всем считала себя по-своему привлекательной.
В минуту откровенности признавалась подругам:
– Если вглядеться, то я красивая. Что, нет, скажете?
Глаза ее блестели, щеки рдели румянцем, курчавые волосы шапкой стояли на голове. Подруги удивленно соглашались:
– Правда красивая…
Еще в школе она охотнее дружила с мальчишками, чем с девочками. С мальчишками было проще, никогда ни сплетен, ни зависти, ни мелких обид.
Начиная со второго класса она подружилась с Сережей Мальцевым, соседом по парте. Оба они терпеть не могли географию, но до одури зачитывались книжками о путешествиях и дружно мечтали о том, что когда-нибудь, в один прекрасный день, в их жизнь ворвется что-то интересное и неожиданное. Они не знали, что именно это будет. Им просто хотелось перемен.
И еще и Асмик и Сережка неохотно ездили в пионерский лагерь.
Там все заранее известно. Утром полагается вставать на линейку и потом отправляться в лес и петь бодрые песни, и вожатый всегда организовывал одни и те же надоевшие игры, и каждый день постылый компот из сушеных фруктов, а вобла когда-нибудь, раз в неделю, и вообще тоска зеленая!
Напрасно Асмик много позднее утверждала, что любит постоянство. Ей, как вообще всем людям, тоже была присуща тяга к переменам. Какие бы они ни были.
Так, она, например, неизвестно почему, разлюбила книги. Сережка, тот читал все свободное время, а она признавалась:
– Только начну читать, и сразу же до того спать захочется…
Сережка удивлялся:
– Даже если Дюма читаешь? Даже если «Три мушкетера»?
– Все равно, – безнадежно отвечала Асмик.
Сережка был закадычный друг, но истина была дороже. И не хотелось лгать другу. Даже в самом маленьком.
Когда они учились в старших классах, ей показалось, она любит его. Не просто как товарища, а сильнее, как-то по-другому.
Сережка относился к ней чисто дружески.
– Ты, Асмик, свой парень, – говорил он.
Она старалась принарядиться, надеть новое платье, чтобы он заметил и похвалил.
Он замечал сразу.
– Сейчас бы тебя нарисовать – одно удовольствие.
– Правда? – расцветала Асмик.
Сережка отвечал с серьезным видом:
– Истинная правда. И главное – очень просто.
– Что просто? – удивлялась Асмик.
– Рисовать тебя. Потому что ничего не надо, ни таланта, ни уменья, один только циркуль…
И рисовал в воздухе круги, один за другим.
А она не обижалась. Она была от природы оптимистична и незлопамятна.
«Он привыкнет ко мне и полюбит, – размышляла она. – А когда полюбит, то увидит, что я для него лучше всех».
Но мечтам ее не суждено было сбыться.
Когда они учились в восьмом классе, к ним в школу перешла Туся Казакова.
Это была очень красивая девочка. Даже из других классов прибегали к ним в класс, как бы ненароком, как бы случайно, лишь бы поглядеть на нее.
Туся была высокая, тонкая, гибкая и в то же время сильная. Карие продолговатые глаза, а белки голубые. Прямой нос с твердыми вздрагивающими ноздрями. Зубы – один в один.
Сережка спросил Асмик:
– Неужели правда она такая уж красавица?
Асмик не захотела кривить душой, чего бы это ей ни стоило. Она сказала:
– Самая настоящая!
Сережка – открытая душа – никогда ничего не жалел. У него была великолепная кожаная папка, в которой он носил учебники и тетради. Шоколадного цвета, в нарядных узорах, отделанная цветной замшей.
– Это из Якутии, – пояснял Сережка. – Папин брат привез. Один знакомый ненец вырезал.
И особенно старательно выговаривал слово «ненец», чтобы не спутали с «немец».
– Я тебе отдам все, что хочешь, – сказал он Асмик. – А папку не проси, никогда в жизни!
Асмик и не просила. Прекрасно обходилась без этой папки.
Но однажды Туся пришла в школу и сказала, что потеряла свой портфель. Ручка оторвалась; она подошла к самому дому и только тогда заметила: ручка есть, а портфеля и след простыл.
Она была расстроена, портфель – черт с ним, уже порядком старый, но там были учебники.
И тогда Сережка взял и отдал ей свою папку.
– Возьми, – сказал Сережка. – Мне папин брат еще привезет. Ненцы еще и не такое умеют делать!
Можно было подумать, что он всю свою жизнь прожил с этими самыми ненцами.
Он стал приходить к Тусе каждый день, вместе готовить уроки – ведь у нее не было учебников.
Асмик поняла все сразу. С одного взгляда.
– Ты за ней бегаешь, – сказала Сережке.
Она произнесла эти слова как можно более невозмутимо. Так, словно говорит о чем-то незначительном, неинтересном.
А Сережка рассердился на нее:
– Еще чего?!
– Бегаешь, – повторила Асмик.
– Мне ее жаль, – сказал Сережка.
– Почему? – спросила Асмик.
Сережка долго не хотел говорить, потом рассказал, взяв с Асмик самое честное-пречестное слово, что она никому ничего не расскажет.
У Туси арестовали отца. Поэтому она и перешла в их школу, чтобы никто ничего не знал. И она тоскует по отцу, и мать у нее какая-то немного чудная, Туся говорит, что она стала такой после всего, что случилось.
– Вот оно что, – сказала Асмик.
Родители Асмик погибли в автомобильной катастрофе, она училась тогда в пятом классе. Может быть, потому, что у них обеих было общее горе, Туся показалась ей родной.
«Я тоже хочу подружиться с ней», – решила Асмик.
Туся не сразу приняла ее дружбу. Ей была присуща некоторая настороженность в отношениях с людьми. Иногда она подсмеивалась над Асмик, над ее толщиной, над восторженностью.
Однако Асмик прощала Тусе все. И вместе с Тусей охотно смеялась над собой. И еще – ей хотелось, чтобы они дружили все трое – она, Туся и Сережка.
И Туся постепенно оттаяла. И сама потянулась к этой безыскусной щедрости, к ненаигранному душевному теплу.
Туся была не только красивой, но и талантливой. Она писала стихи, но никому их не показывала, только Асмик и Сережке.
Асмик бурно восхищалась. Сережка был сдержаннее, однако порой говорил:
– У тебя и в самом деле талант…
Оба – и Сережка и Асмик – уговаривали Тусю послать стихи куда-нибудь в газету или в журнал.
Туся отнекивалась:
– Боюсь.
– Чего ты боишься? – кипятилась Асмик.
– Будут смеяться, – отвечала Туся.
Она была гордая, Туся.
Как-то Сережка сговорился с Асмик, и прямо после школы они все вместе отправились в редакцию газеты «Московский комсомолец». Туся упиралась, но шла, Асмик и Сережка шагали по обеим ее сторонам, как часовые.
Поднялись на лифте, вошли в комнату, где, как им сказали, заведовали вопросами поэзии.
Асмик крепко держала Тусю под руку.
– А то ты как Подколесин, – сказала она. – В самый последний момент…
Сережка подошел к столу заведующего.
– У нас к вам дело, – начал он. – Мы принесли стихи…
Заведующий – немолодой человек, с большими очками на маленьком небритом лице, носивший смешную фамилию Свищ, – спросил добродушно:
– Еще одно юное дарование? Или даже целых три?
Рука Туси дрогнула, но Асмик держала ее крепко, не за страх, а за совесть.
Сережка сказал сухо:
– Между прочим, стихи интересные.
Очки Свища блеснули.
– Реклама, да еще самореклама – лучший двигатель.
Асмик быстро заговорила:
– Наша подруга, вот она, видите? Она стихи пишет. Очень хорошие стихи. Мы хотели взять с собой всю тетрадь, у нее целых три тетради стихов, а она не захотела. Она – скромная. Она и идти-то к вам не хотела. Это мы ее заставили.
Свищ подавил зевок.
– Оставьте ваши стихи и зайдите через неделю.
– Нет, – сказала Асмик. – Вы их теперь прочитайте, а то мы ее через неделю не вытащим.
Сережка сказал почти умоляюще:
– И всего-то навсего одно стихотворение!
Свищ протянул руку:
– Давайте!
Туся окончательно скисла. Сережка вынул листок с переписанным его красивым почерком стихотворением.
– Стало быть, говоришь, стихи интересные? – спросил Свищ и тут же стал читать, напевая себе что-то под нос.
Туся стояла ни жива ни мертва. Если бы можно было, убежала бы со всех ног. Но Асмик вцепилась в ее руку, и Сережка смотрел на нее не спуская глаз и улыбался ей, и в глубине его зрачков играли, то вспыхивая, то замирая, теплые, искрящиеся огоньки.
Свищ опустил очки, поверх очков взглянул на Тусю. У него оказались неожиданно голубые глаза, ресницы темные, словно нарисованные.
«Красивые глаза», – мысленно отметила Асмик.
– Стало быть, ты автор? – спросил Свищ Тусю.
Туся кивнула. Ей казалось, что она лишилась голоса. Раз и навсегда.
Свищ придвинул к себе листок со стихотворением, что-то написал наверху, над заголовком.
– Пойдет? – быстро спросил Сережка.
Свищ ничего не ответил.
«В набор», – прочитал Сережка. Повернулся к Тусе:
– В набор, слышишь?
Асмик взвизгнула от восторга и выпустила Тусину руку. Туся ошеломленно посмотрела на Свища и вдруг повернулась, стремглав выбежала из комнаты.
В следующем же номере, на третьей полосе, появились стихи Туси.
Свищ-умница не изменил ни строчки, и подпись под стихами выделялась крупно, отчетливо:
«Татьяна Казакова».
Туся ходила обалделая. Асмик же так бурно радовалась, будто это ее стихи напечатали, а вовсе не Тусины.
Всем и каждому рассказывала о том, как они с Сережкой сперва долго уговаривали Тусю, потом почти насильно потащили ее в редакцию и как их встретил Свищ, что сказал сперва, а что потом.
Сережка заявил Тусе:
– Ты будешь поэтессой. Как Вера Инбер.
– Ну что ты! – ответила Туся. В глубине души она рассчитывала обогнать всех поэтесс в мире, не только что Веру Инбер.
Но вдруг неожиданно подошли выпускные экзамены, все трое зубрили по целым дням, до стихов ли тут было?
Асмик хотела стать врачом. Из них троих только она предполагала учиться дальше, в институте. Сережке и Тусе надо было работать.
Асмик стеснялась своей, как ей казалось, удачливой судьбы. У нее была бабушка, профессор-микробиолог, которая жила с ней после смерти родителей. Асмик-то хорошо, она будет учиться в институте, а вот Тусе и Сережке придется туго. Несправедливо!
Она говорила Тусе:
– Я все знаю заранее. Я буду врачом, обыкновенным, рядовым лекарем, а ты – знаменитой поэтессой, но зато лечиться будешь только у меня!
Туся открыто иронизировала:
– Но я вовсе не хочу болеть, да еще у тебя лечиться. Ты мне какую-нибудь заразу занесешь при твоей аккуратности!
Асмик смеялась вместе с ней.
– Что правда, то правда. Я действительно такая несобранная…
Она всегда соглашалась, когда ее корили за что-нибудь. Ей и в самом деле все люди казались лучше и выше ее, и она признавалась Тусе:
– Ты создана для блестящей жизни, а у меня впереди все буднично, обыкновенно.
Туся вяло отмахивалась от ее слов. Впрочем, она и сама думала так же.
Но Асмик не жалела себя и не принимала ничьей жалости.
– Я буду счастлива, – утверждала она. – Несмотря ни на что, я буду счастлива, потому что хочу быть счастливой.
И верила своим словам.
3
Бабушка стояла на перроне в окружении трех чемоданов, баула, корзины с фруктами и что-то внушала здоровенному, мордастому носильщику, время от времени поднимая палец к самому его носу.
Асмик подбежала к ней, с размаху обняла худые плечи. Бабушка стремительно обернулась.
– Так и знала, – сказала она своим густым, почти мужским голосом. – Нет того, чтобы встретить старого человека, гостя столицы, как положено…
– Пошла-поехала, – ответила Асмик.
– Вот она, современная молодежь, – продолжала бабушка, кивая на Асмик и обращаясь не то к носильщику, не то к спешившим мимо пассажирам. – Вот она, наша смена…
– Бабушка, – отчаянно краснея, взмолилась Асмик, – ну какая же я молодежь?
– Молодежь, – упрямо повторила бабушка. – Никуда не годная, самовлюбленная, эгоцентричная, et cetera, et cetera…
Носильщик ухмыльнулся, подхватил чемоданы и баул и пошел на вокзальную площадь. Асмик схватила корзину, взяла бабушку под руку и пошла за ним.
– Всю дорогу слышала одно и то же: в Москве тропическая жара, – громко делилась бабушка. – И что же? Ничего, в сущности, во всяком случае для нас, южан, это далеко не жара…
На нее оглядывались, усмехались, но она не обращала ни на кого внимания, недовольно гудела о том, что поезд только по названию скорый, тащился хуже почтового, и белье в вагоне было серое, словно осеннее небо, и чаю нельзя было допроситься…
Бабушка была теткой отца Асмик, единственным родным человеком. После гибели отца и матери Асмик она переехала из Еревана в Москву и взяла на себя все заботы о девочке. Она жила с Асмик до тех пор, пока та не поступила в медицинский институт.
В сорок втором году бабушка провожала Асмик на фронт. Стояла на перроне, снизу вверх смотрела на Асмик и, не стесняясь незнакомых людей, кричала:
– Имей в виду, на передовой следует ходить согнувшись, тогда пуля пролетит мимо, и, если надо будет, не ленись, вырой окоп поглубже!
Незадолго до войны бабушка прилежно изучала статьи и брошюры, посвященные военному делу, и теперь громогласно выкладывала свои познания.
– И смотри замуж там не выскочи, – наставляла бабушка. – Лучше потом, когда вернешься, потому что сперва надо хорошенько изучить характер человека, а потом уже решаться на важный шаг. Поняла?
– Поняла, – сгорая от стыда, отвечала Асмик.
Громкоговорители разносили по перрону короткие, ставшие горестно знакомыми слова:
«Наши войска после упорных боев оставили…»
Поезд вот-вот должен был отойти.
А бабушка, не обращая ни на кого внимания, продолжала поучать Асмик, что вообще-то лучше и вовсе не выходить замуж, а отдать себя всю науке, вот так, как сделала это она, ее бабушка, нисколько не жалея о том, что так называемая личная жизнь не сложилась.
– Все понятно, – торопливо отвечала Асмик. – Да я и не собираюсь замуж, с чего вы взяли? Я же на фронт еду!
Товарищи Асмик, студенты мединститута, уезжавшие вместе с ней, не скрываясь, подсмеивались. Асмик не чаяла, когда поезд тронется.
Но когда наконец вагон качнуло и перрон медленно поплыл назад, она увидела, как сморщилось бабушкино лицо, и черные глаза стали очень блестящими, и бабушка побежала вслед за вагоном и, плача, не вытирая слез, кричала одно и то же:
– Береги себя, девочка! Слышишь, береги себя!
И тогда Асмик заплакала в голос, потому что в этот миг ей подумалось: может быть, она уже никогда не встретится с бабушкой.
Но они встретились. И бабушка шумно отпраздновала возвращение Асмик, назвала полный дом своих ученых друзей, пела старинные армянские песни, поминутно подходила к Асмик, оглядывала ее и дивилась:
– Это ты…
Потом она уехала к себе в Ереван и теперь лишь иногда, не часто, приезжала в Москву, в командировку, а заодно, само собой, повидать и Асмик.
Бабушке было семьдесят шесть лет.
Сидя в такси, Асмик с удовольствием вслушивалась в басистый голос бабушки, говорившей без умолку.
– Сейчас приедем, – сказала Асмик. – Вы примете ванну, пообедаете, отдохнете.
Бабушка вздрогнула, словно ужаленная.
– Отдохнете! И не подумаю даже! Ты что, забыла, что я приехала на заседание Президиума Академии?
– Отлично помню, – ответила Асмик. – Но это же все завтра, а сегодня можно бы и отдохнуть.
– Отдыхать на том свете, – решительно сказала бабушка. – А сейчас мне надо будет незамедлительно отправиться к Сергею Арнольдовичу. У него масса неприятностей, ему предложили не заведовать больше институтом, а директором назначили этого, как его, Савича, его ученика, который ему обязан всем, даже, если хочешь, жизнью!
И, постепенно распаляясь, бабушка начала на чем свет стоит поносить неизвестного Асмик Савича, который «явно подсиживал своего учителя и в конце концов добился своего подлого успеха!».
– Но я этого не оставлю, – бушевала бабушка. – Я не из породы молчаливых, я прежде всего человек мыслящий, а не просто верующий!
Асмик смотрела в зеркальце на ветровом стекле. В зеркальце отражались смеющиеся глаза шофера.
«Что за наказание иметь такой неугомонный характер, – думала Асмик. – Даже шофер и тот смеется над старухой!»
Однако, высаживая Асмик и бабушку у подъезда дома, шофер неожиданно обратился к бабушке.
– Вот это по мне, мамаша, – сказал он. – Люблю таких вот, как вы… – он поискал слово, – горячих душой…
Бабушка ошеломленно взглянула на него и, не долго думая, чмокнула розовую, небрежно выбритую щеку шофера.
…После жаркой улицы комната Асмик казалась землей обетованной.
– Неужели тебе жарко? – удивилась бабушка, глядя на Асмик, бессильно упавшую на тахту. – А вот мне ни капельки. Хотя ты ведь толстая, а я как былинка!
И тут же принялась распаковывать свои вещи.
– Бабушка! – сокрушенно произнесла Асмик. – Ну зачем вы беретесь сразу за все чемоданы?
– Ищу мыло и простыню, – ответила бабушка.
Вскоре уже вся комната приняла самый что ни на есть разлохмаченный вид. Повсюду валялись бусы и браслеты, которые бабушка обычно привозила в подарок москвичам, тюбики с зубной пастой, ночные рубашки, туфли, какие-то шарфики, косынки, пояса.
Асмик только и оставалось подбирать все это добро и складывать обратно в чемоданы.
Бабушка отличалась, как говорила Асмик, непревзойденной широтой чисто купеческой натуры.
Зарабатывала бабушка много, но у нее никогда не было свободных денег, она раздавала их всем, кто бы ни попросил, – лаборантам, ассистентам, сторожам института, уборщицам, соседям по дому – и без конца делала всем подарки. Сама же она не терпела никаких знаков внимания.
«Итак, начинается веселая жизнь, – радостно подумала Асмик, прислушиваясь к звуку льющейся в ванной воды. – Теперь ни днем, ни ночью покоя уже не будет».
Так и вышло. Бабушка вставала рано утром, писала или переводила с английского, говорила по телефону, потом уходила и приходила поздно, вконец измотанная, но веселая, и, еще стоя в дверях, начинала докладывать Асмик, кого видела, с кем ругалась, кому выложила всю правду в глаза.
Асмик покорно слушала и мечтала втайне лишь об одном: чтобы бабушка подольше прожила с нею, в Москве.
4
Утренняя конференция, как и обычно, происходила в кабинете заведующего отделением.
Когда Асмик вошла в кабинет, все уже были в сборе. Заведующий отделением профессор Ладыженский неодобрительно покосился на нее. Он не признавал опозданий даже на одну минуту. Асмик смутилась и села на первый попавшийся стул возле окна.
Ее сосед, Володя Горностаев, молодой и, как все считали, перспективный хирург, мрачно насупившись, смотрел вниз, скрестив на груди руки.
– Вы похожи на Бонапарта, – шепнула ему Асмик.
Не поворачивая головы, Володя пробормотал:
– В самые последние дни изгнания.
Володя недавно работал в Москве. Всего каких-нибудь несколько месяцев. До этого он практиковал в провинциальной больнице, где на него, по слухам, молились все окрестные пациенты.
Он так и говорил о себе:
– Там я был нормальный земский врач, един во всех лицах.
И, должно быть, поэтому считал самого себя непререкаемым авторитетом, а тут еще профессор Ладыженский подлил масла в огонь, заявив как-то, что Володя, по его мнению, будет со временем светилом.
Но сейчас от привычной самоуверенности Володи и следа не осталось. Он сидел угрюмый, расстроенный. Асмик даже пожалела его от души.
– Как дела? – тихо спросила она.
– Все так же, – уныло ответил Володя.
Неделю тому назад Володя оперировал молодую девушку. Оперировал, как и всегда, быстро и ловко, щеголяя своим уменьем, тем более что сама операция была не из самых серьезных – аппендицит.
Володя предпочитал подражать хирургам, для которых главное – быстрота действий, уменье мгновенно ориентироваться и отточенная техника. И он старался выработать в себе такой же почерк хирурга.
Но операция прошла неудачно. У больной начался перитонит, повысилась температура, роэ скакнул до сорока.
– Пришли бы чуть раньше, услышали бы, как меня долбали, – сказал Володя.
Асмик кивнула на профессора Ладыженского:
– Сам?
– Еще как!
Асмик вздохнула. Чем утешить его? Когда-то, когда она окончила институт, бабушка сказала ей:
– У каждого врача к концу жизни образуется свое кладбище.
Уголком глаза глянула на угрюмое лицо Володи. Пожалуй, лучше не лезть к нему сейчас с подобными утешениями. Отбреет запросто – и будет прав.
Позднее она пришла в палату, где лежала его больная.
Володя сидел на краю кровати, следил, как сестра вводит в руку больной кордиамин. Асмик подошла ближе. Володя искоса глянул на нее.
– Сердце, – нехотя бросил он.
Больная открыла глаза. У нее были голубые глаза, негустые, слипшиеся от жара ресницы. По розовой, пылавшей горячечным румянцем щеке медленно катилась слеза.
Асмик склонилась над ней, положила прохладную ладонь на ее лоб.
– Подожди, милая, скоро тебе полегчает…
Володя встал, зашагал по палате, опустив руки в карманы халата.
– Вчера достал олеандромицин.
– Прекрасно, – обрадовалась Асмик.
– Чего там прекрасного?
Взял с тумбочки градусник.
– Тридцать восемь и восемь. Каково?
Кажется, еще немного – и заплачет. Или выругается от души. Или закричит во весь голос.
На редкость возбудимая натура. Решительно не переносит неудач.
«Он из породы врачей, которые сердятся, если больной поправляется медленно», – подумала Асмик.
Посмотрела на его страдальчески сдвинутые брови. Мальчик, обиженный, неухоженный, сердитый мальчишка!
Володя подошел к ней. Он говорил злым шепотом.
– Я сам виноват, один я, – он бросал слова как бы против воли. – Тоже мне, возомнил себя Юдиным, Сергей Сергеичем, за молниеносной техникой погнался…
Зачем-то снова взял градусник.
– Температура-то все время как черт держится!
– Если бы сигмомицин, – начала Асмик.
– Где же его достать? – спросила сестра, протирая руку больной.
– Но это то, что нужно, – сказала Асмик.
Язвительная усмешка тронула Володины губы.
– Спасибо, – утонченно вежливо произнес он. – Большое спасибо. Америку открыли, а то я не знал.
– Я достану, – сказала Асмик.
Володя недоверчиво хмыкнул:
– Достанете? Ну-ну!
– Постараюсь, – сказала Асмик.
Весь день ее не оставляла мысль – как бы достать сигмомицин. Могучее средство, новый и еще редкий, превосходно действующий антибиотик.
Достать его было трудно, но она достала. И ночью привезла красную с белым коробочку в больницу.
Володя сидел в дежурке, откинувшись на стуле, вытянув длинные ноги. Глядел прямо перед собой.
Асмик ворвалась в дежурку, в руках драгоценное лекарство.
– Вот, возьмите!
Он вскочил со стула.
– Что это?
– То самое, – ответила Асмик.
Он растерянно посмотрел на коробочку:
– Сигмо?
– Он самый. Пошли в палату!
Больная не спала, бредила. Из пересохших губ рвались слова:
– Зачем? Я не хочу… Перестань… Больно…
Асмик взяла в свою ладонь влажную тоненькую руку.
– Жарко тебе?
Больная приоткрыла один глаз.
– Хочешь пить? – спросила Асмик.
Взяла поильник, осторожно поднесла длинный носик ко рту девушки.
Володя молча смотрел то на Асмик, то на больную.
– Ну как, Лена, напилась? – спросила Асмик.
Лена ответила едва слышно:
– Да…
Володя удивленно усмехнулся:
– А вы такая, неожиданная какая-то…
– Чем неожиданная? – спросила Асмик.
– Ну, в общем, вы словно капли Зеленина или таблетки Бехтерева. Со мной она отказывалась говорить, а вот вам ответила…
Асмик повернулась к нему:
– Идите спать. Вы же с ног падаете…
– Нет, – сказал Володя. – Ни за что на свете!
– Идите, – спокойно повторила Асмик. – Я посижу с Леной, а вы идите. Слышите?
И он пошел.
На рассвете Володя зашел в палату. Асмик стояла у окна. Сказала тихо:
– Спит…
Он глядел на нее с молчаливым вопросом.
– Пока еще жар держится, – сказала Асмик. – Температура начнет падать только к вечеру…
Он нагнулся, послушал дыхание больной. Она дышала спокойно, почти неслышно. На лбу блестел пот.
– Мой отец говорил когда-то: сном все проходит…
– А вы поспали хоть немного? – спросила Асмик.
– Как убитый.
Он посмотрел на нее с виноватым видом.
– Я-то спал, а вот вы…
– Ну и что?
– В сущности, это даже не ваша больная…
– Так я и думала, – сказала Асмик. – Просто ждала, когда вы наконец это скажете…
Он пожал плечами:
– Вас не поймешь.
Помолчали немного. За окном светлело. Розовые текучие тени прорезали потолок, заиграли на стенах.
– Все-таки скажите теперь, как это вам удалось так быстро достать? – спросил Володя.
– Фронтовые друзья, – сказала Асмик. – Вы ведь на фронте не были? А я была.
– Так вы же старше меня, – сказал Володя и добавил: – Правда, кажется, ненамного.
Асмик невольно вздохнула:
– Как сказать…
5
«Пойти или не пойти? – думала Туся. – Или все-таки пойти?»
Пойти хотелось.
В последний раз они виделись с Ярославом летом, в начале войны. С тех пор прошло четверть века.








