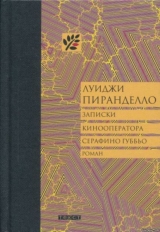
Текст книги "Записки кинооператора Серафино Губбьо"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
IV
Давайте ненадолго прервемся. Мы продолжим этот разговор позже, а сейчас мне нужно сходить повидаться с тигрицей.
С тех пор как ее купили, я каждый день до начала съемок забегаю навестить ее. За все это время я пропустил только два раза: не было ни одной свободной минуты.
На студии и раньше бывали хищные звери, но все какие-то скучные, унылые: два белых медведя, днями стоявшие на задних лапах и бившие себя в грудь, точно монахи-тринитарии [11]11
Тринитарии – монахи ордена Пресвятой Троицы (лат.:Ordo Sanctissimae Trinitatis) – католический нищенствующий монашеский орден, основан в 1198 г. французским богословом Жаном де Мата и монахом-пустынником Феликсом де Валуа для выкупа христиан из мусульманского плена.
[Закрыть]на покаянной молитве; трое львят-мерзляков, которые, навалившись друг на друга, днями лежали в дальнем углу клетки; были и другие животные, но не хищники: несчастный страус, вздрагивавший, как цыпленок, от любого шороха и все никак не решавшийся опустить на землю вторую ногу; была свора осатаневших мартышек. На «Космографе» все продумано до мелочей, здесь предусмотрены даже цирковые вольеры для диких животных, хотя обитатели и не задерживаются в них подолгу.
Из всех животных, что здесь были, ни одно не разговаривалосо мной так, как эта тигрица.
Мы ее получили вскоре после того, как она прибыла в качестве дара римскому зоопарку от какой-то сиятельной иноземной особы. В зоопарке ее держать не смогли, вела она себя совершенно нецивильно – я имею в виду не то, что не давала утереть себе нос платком, а то, что нагло попирала элементарные нормы социального порядка. Раза три-четыре порывалась перемахнуть через ров, а один раз таки прыгнула и попыталась напасть на посетителей, которые мирно стояли на другой стороне и издали наблюдали за ней.
Какая еще более естественная мысль, чем эта, могла созреть в голове тигрицы (не хотите «в голове» – не надо, пусть будет «в лапах»), я, по правде сказать, не знаю: ров был вырыт специально для того, чтобы она через него перепрыгнула, а уважаемые господа посетители зоопарка остановились перед ней для того, чтобы она их сожрала, если, конечно, ей удастся преодолеть ров.
Умение ценить шутку, бесспорно, большой дар. Но, увы, он не каждому дан. Многие, например, терпеть не могут, когда над ними шутят. Хотя в отвлеченном разговоре эти люди, как правило, соглашаются с тем, что шутка – вообще вещь хорошая и вполне позволительная.
Но тигрица, вырвавшаяся на волю, говорите вы, это уже не шутка. Полагаю, вы правы. А не смешна ли мысль, что тигрица должна отдавать себе отчет в том, что ее держат в зоопарке, чтобы народ получал «живой урок» натуральной истории?
Вот мы и вернулись к исходному пункту: все это (ведь мы не тигры, а люди), стало быть, чистая риторика.
Человека, который не в состоянии оценить шутку, мы можем пожалеть, а вот зверя – ни за что, особенно если шутка, в которой мы его заставили принять участие – я имею в виду «живой урок», – может иметь тяжкие последствия: посетители зоопарка рискуют изведать на себе, что такое хищная натура тигрицы.
Ну и вот, рассудив здраво, тигрицу решили умертвить. «Космограф» вовремя узнал об этом и перекупил ее. Сейчас она находится в клетке нашего циркового отсека. Появившись здесь, она стала вести себя в высшей степени разумно. Чем это объясняется? А тем, что наше обращение с ней, по всей видимости, должно ей представляться, безусловно, более логичным. Здесь ей никто не предоставляет свободы, никто не позволяет скакать через ров; здесь, в отличие от зоопарка, нет никакого искушающего намека на местный колорит; здесь перед ней исключительно толстые прутья клетки, которые ей постоянно напоминают: «Ты никогда отсюда не выйдешь. Ты – пленница». И она, смирившись, почти весь день лежит и смотрит сквозь прутья в каком-то притупленном, словно зачарованном ожидании чего-то.
Увы, несчастная хищница, она не догадывается, что здесь ей предстоит кое-что покруче «живого урока» натуральной истории!
Уже готов сценарий на экзотический индийский сюжет, и тигрице отводится одна из главных ролей. Фильмзрелищный, и на его съемки будет ассигновано несколько сот тысяч лир. В то же время глупей и пошлей ничего нельзя было придумать. Достаточно уже одного названия: «Женщина и тигрица». Все та же женщина-тигрица, которая заткнет за пояс любую натуральную тигрицу. Насколько я понял, героиня, некая английская мисс, совершает путешествие по Индии в сопровождении целого отряда воздыхателей. Индия будет фиктивная, рисованная, джунгли – фикция, путешествие тоже, и даже мисс с ее ухажерами – все фикция. Только гибель несчастного зверя будет настоящей. Представляете? У вас не переворачивается нутро от возмущения?
Ладно еще, я понимаю, убить тигрицу ради ее собственной безопасности либо ради безопасности окружающих, пусть даже она затесалась в их гущу не по собственной воле; напротив, это они, люди, ради удовольствия отправились охотиться за ней, изловили ее, извлекли из естественного, привычного логовища. Но убить ее просто так, попусту, в нарисованном лесу, во время разыгранной охоты, в угоду какой-то идиотской выдумке – это уже злодейство. Злодейство, выходящее за рамки всякой игры. Один из любовников может застрелить своего соперника. Вы видите, как соперник рухнул, он – мертв. Да, господа. Но вот закончилась съемка, и соперник как ни в чем не бывало поднимается с деревянных настилов съемочной площадки и стряхивает с себя пыль. А это животное уже не встанет и не отряхнется, после того как в него выстрелят. Уберут бутафорский лес и, как хлам, мешающийся под ногами, вынесут ее труп. В пиршестве всеобъемлющей фикции одна лишь ее смерть будет настоящей.
Я еще понимаю, если бы все это притворство, вся эта фикция своей красотой и благородством могла бы хоть в какой-то степени компенсировать расправу над животным. Так ведь нет. Вымысел – глупей придумать нельзя. Актер, который будет ее убивать, возможно, так никогда и не поймет, зачем он это сделал. Сцена продлится на экране в лучшем случае минуту-две и закончится, не произведя сильного впечатления на зрителей; они выйдут из зала, зевая, и скажут:
– Господи, какая чушь!
Вот что ждет тебя, дикая красавица! Ты всего этого не знаешь и только смотришь сквозь прутья своими грозными, пугающими глазами, и щелка зрачка, продольная, как зерно, то сужается, то расширяется. Я вижу, как от тела твоего, подобно жару над раскаленными углями, исходит мерцание хищности, а в пластике черных полос, расчертивших твой мех, отпечаталась сила неукротимых прыжков. Всякий может смотреть на тебя без боязни, ведь есть клетка, которая пленила тебя и сдерживает в самом наблюдателе звериный инстинкт, неудержимо восстающий в крови.
А иного выхода нет: либо вот так, в заточении, в клетке, либо надо тебя прикончить. Твой хищный нрав – мы-то уж догадываемся – неповинен, природа наделила им тебя, и, подчиняясь природе, ты им пользуешься, не испытывая угрызений совести. Но мы-то не можем допустить, чтобы ты после кровавой трапезы разлеглась и блаженно вздремнула. Твоя невинность передается и нам, когда мы тебя распинаем, если того требует наш инстинкт самосохранения. Мы убьем тебя и потом, подобно тебе, со спокойной совестью ляжем и уснем. Но такое возможно только там, в первозданных краях, в диких твоих угодьях, куда ты никого не пускаешь, а не здесь, не здесь, куда тебя занесло не ради удовольствий, не по собственной прихоти, не по своей воле. По сравнению с красотой твоей простодушной, невинной хищности до чего тошнотворна подлая хищность людей. Доставив тебя сюда ради собственного удовольствия, мы защищаемся от тебя и держим тебя в заточении – о, это не твой хищный нрав, это наша коварная хищность! Но не волнуйся, мы еще не на такое способны, мы еще дальше пойдем. Мы прикончим тебя ради игры, по-идиотски: ряженый охотник в бутафорских джунглях, согласно выдуманному сценарию… Воистину, мы будем во всем достойны выдуманного сценария. Тигры, тигры! Тигры, более зверские, чем эта тигрица! Говорите потом, что чувство, которое этот фильм,находящийся на стадии подготовки, вызовет у зрителей, будет чувством презрения к человеческой жестокости. Мы создадим произведение из жестокости-ради-игры и рассчитываем, между прочим, если все пройдет хорошо, заработать немалые деньги.
Смотришь? Что же ты смотришь, дикая, невинная красавица? Все это так. Ни для чего другого ты здесь не нужна. А я, я люблю тебя, восторгаюсь тобой, я, когда станут тебя убивать, буду стоять и бесстрастно крутить ручку вот этой изящной машинки, видишь? Это – изобретение. Оно должно работать. Поедать. Оно поедает все, что ни дадут, всякую дрянь, которую перед ним поставят. Оно и тебя проглотит, оно ест все, говорю тебе! Я же приставлен прислуживать ему. Приду, установлю машинку поблизости от тебя, когда ты, раненая, будешь вздрагивать в последних предсмертных конвульсиях. О, не сомневайся, она извлечет из твоей смерти максимальную выгоду. Не каждый же день ей удается отведать такого лакомства. Можешь этим утешаться. Не хочешь этим, утешайся другим.
Каждый день, точно так же, как я, к твоей клетке приходит женщина – приходит изучать твои повадки: как ты двигаешься, поводишь головой, смотришь. Варя Несторофф. По-твоему, этого мало? Она избрала тебя своей наставницей. Такая удача выпадает не каждой тигрице.
Как обычно, она чрезвычайно скрупулезно подходит к изучению роли. Однако я слышал, что роль мисс – «тигрицы почище иных настоящих» – она не получит. Может, она этого еще не знает либо считает, что роль полагается ей по праву, и приходит сюда лишь упражняться.
Мне передавали об этом со смехом. Но я и сам в прошлый раз застал ее здесь, у клетки, и порядочно отвел с нею душу.
V
Согласитесь, просто так не будешь стоять и полчаса рассматривать тигрицу, раздумывая при этом, что вот, дескать, оно – выражение духа земли, простодушное, бесхитростное творение, стоящее по ту сторону добра и зла, ни с чем не сравнимое по красоте и невинное в своей дикой, неукротимой мощи. Но пока к тебе придет осознание этой ее «первозданности» и пока ты дойдешь до того, что станешь видеть в ней воплощение героя или героини нашего времени, пока успеешь во всем разобраться и признать ее существом с нашей планеты – не знаю, как кому, а мне для этого понадобилось немало времени и воображения.
Ну вот, значит, стоял я и смотрел на мадам Несторофф, не мог поверить, что она разговаривает со мной. Но, говоря по совести, дело было не только во мне или в тигрице. То обстоятельство, что она снизошла до разговора со мной, лишило меня дара речи. Когда к вам внезапно обращается человек, который прежде упорно вас игнорировал, до вас доходит смысл сказанных слов – самых обыкновенных, простых, и долетает их звучание, но вы все равно переспрашиваете:
– Простите, что вы сказали?
За те восемь с лишним месяцев, что я работаю на кинофабрике, мы с ней, кроме «здрасьте» и «до свиданья», вряд ли обмолвились другими словами. Вдобавок – клянусь, что так и было, – она заговорила, приблизившись ко мне вплотную и с таким пылом, с такой экспрессией, какую пускают в ход, когда нужно отвлечь внимание человека, заставшего вас за занятием, которое вы всячески стараетесь скрыть от посторонних глаз. (Несторофф говорит на нашем языке легко и свободно, без какого бы то ни было намека на акцент, словно живет в Италии уже не счесть сколько лет; однако, чуть только что не по ней, она вспыхивает, меняется в лице и тотчас переходит на французский.)
Ей хотелось всего лишь узнать мое мнение об актерской профессии: неужели действительно это такое пошлое и бездарное занятие, что любая тварь (и не только говоря метафорами) без тени сомнения может возомнить себя актером?
– Где?
Она не поняла вопроса.
– Ну, например, – пояснил я, – если вопрос в том, чтобы играть здесь, где не требуется слов, то, наверное, любая тварь способна, а почему бы и нет?
Она изменилась в лице.
– А, разве что поэтому… – протянула она с каким-то загадочным видом.
Сперва мне подумалось, что она, как все профессиональные актеры, ангажированные «Космографом», с презрением говорит о некоторых господах, которые, не слишком нуждаясь, но и не гнушаясь урвать лишний кусок – кто из тщеславия, кто ради развлечения, кто еще по каким соображениям, – находят способ попасть на кинофабрику и затесаться в число актеров, считая, что обучаться актерскому ремеслу вовсе не обязательно и что труд актера – пустяковое, ничего не стоящее занятие; а между тем актерское мастерство дается тяжелым трудом – годами обучения и игры на сцене. Может статься, начни они с нуля, они бы поняли, что этот труд им не по плечу. Таких на «Космографе» хватает, это молодые люди двадцатитридцати лет, настоящие джентльмены. Приятели какого-нибудь крупного акционера кинофабрики, заседающего в правлении, либо сами акционеры. Под предлогом, будто им по душе та или иная роль, они берутся ее сыграть – просто так, забавы ради; и играют, надобно сказать, до того благородно, что иному актеру-профессионалу впору позавидовать.
Но потом, вспоминая, с каким загадочным видом и как внезапно переменившись в лице она произнесла слова: «А, разве что поэтому…», я заподозрил, что по «Космографу» пронесся слух, будто Альдо Нути через кого-то пытается пробраться на кинофабрику.
Это подозрение сильно обескуражило меня.
Почему, собственно, она решила справиться именно у меня (если моя догадка насчет Альдо Нути верна), является ли профессия актера столь никчемной и подлой, что любая тварь, пожелай она того, вправе считать себя актером? Выходит, чувство моей дружеской привязанности к Джорджо Мирелли не было для нее секретом?
У меня нет и не было оснований так считать. Я задал ей несколько наводящих вопросов в надежде прояснить ситуацию, но не могу сказать, чтобы ее ответы внесли хоть какую-то определенность.
Не знаю почему, но мне было неприятно, чтобы она знала о моей дружбе с Джорджо Мирелли в пору его юности, а также о том, что маленькая вилла в Сорренто была мне почти как родной дом, в который она внесла смятение, разруху и смерть.
Я сказал «не знаю почему», но это не совсем так. Мне известно – почему, и я уже говорил об этом раньше. Скажу еще раз. Я не люблю эту женщину и вряд ли сумею полюбить. Но я не испытываю к ней и ненависти. А здесь ее все ненавидят. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы я стал относиться к ней иначе. В суждениях о людях я всегда старался выйти за пределы своих привязанностей, старался в шумном, хаотичном круговороте жизни, где все отчетливей слышатся слезы и приглушенный смех, уловить как можно больше других нот, независимо от того, приятны они мне на слух или нет.
Да, я знал Джорджо Мирелли. Но каким я его знал? Таким, каким он был по отношению ко мне. Каким я его воспринимал и любил. Но кем и каким он был по отношению к этой женщине, которая сумела его полюбить? Это мне неизвестно.
Бесспорно, он не был – не мог быть – одинаковым для меня и для нее. Так как же я могу судить об этой женщине, исходя из того, что знаю об их отношениях? Мы все имеем ложное представление о цельности человека. Любая цельность определяется соотношением составляющих ее элементов. Отсюда следует, что, как только это соотношение слегка меняется, мы имеем дело уже с другой личностью, с другим человеком. Этим можно объяснить, что человек, которого любил я за определенные его качества, из-за тех же качеств мог быть ненавистен другому. Я (тот, кто любит) и тот, кто ненавидит, – не один и тот же человек, нас двое. Аналогичным образом, человек, которого люблю я и которого другой ненавидит, – тоже не один человек. Их тоже двое. Мы никогда не знаем, в каком свете нас представляют другие, какой реальностью они нас наделяют.
Так вот, если бы Несторофф знала, что я дружил с Джорджо Мирелли, она законно могла бы предположить, что я ее ненавижу, но это не так. Однако из-за этого ее предположения она могла бы стать для меня совершенно другой, хотя мое отношение к ней осталось бы прежним. Она бы превратилась для меня в совершенно другого человека, и мне было бы чрезвычайно трудно продолжать изучать ее, чем, собственно, я и занимаюсь.
Я начал говорить с ней о тигрице, о чувствах, которые во мне вызывает присутствие этой хищницы на кинофабрике и, главное, ее дальнейшая судьба. Однако скоро стало ясно, что Несторофф не способна их разделить, и отнюдь не из-за холодности и бесчувственности, а потому, что отношения, установившиеся между нею и животным, не оставляют места ни чувству жалости, ни чувству протеста против того, что тигрице уготовано.
Она проницательно заметила:
– Вымысел? Фикция? Ну, предположим, пусть даже идиотская, если вам так угодно. Но когда поднимется дверца клетки и эта зверюга выйдет в большую клеть, где соорудят кусок бутафорского, фиктивного леса, а прутья прикроют ветками деревьев, охотник – не настоящий, а тоже фиктивный – тем не менее будет вправе защищаться, потому что она, как вы сами говорите, вовсе не фиктивная, она настоящая, хищница.
– Но в этом-то и состоит порочность дурацкой затеи! – воскликнул я. – Использовать настоящее хищное животное в мире, где все ненастоящее, где все сплошь фикция.
– Кто это сказал, позвольте? – немедленно парировала она. – Роль охотника, к примеру, никакая не фикция. Перед настоящим животным будет стоять настоящий, живой человек. И, уверяю вас, если он промахнется или не убьет ее с первого выстрела, она не станет разбираться, настоящие тут лес и охотник или нет, она бросится на него и взаправду прикончит живого, а не выдуманного человека.
Я улыбнулся, осознав всю тонкость ее логики, и заметил:
– А кому все это надо? Взгляните на нее! Разве эта красавица повинна в том, что у нее натура хищницы?
Она взглянула на меня с каким-то недоумением, словно решив, что я издеваюсь над ней; едва заметно повела плечами и обронила:
– Вы так за нее переживаете? Что ж, приручите ее. Сделайте из нее тигрицу-актрису, которая будет знать, что ей следует притворяться, падая замертво, когда ненастоящий охотник понарошку пульнет в нее ненастоящей пулей, и все устроится как нельзя лучше.
Продолжать дальше в таком духе не было смысла, мы бы с ней ни до чего не договорились: я беспокоился за тигрицу, она – за охотника.
Охотником, тем, кто убьет тигрицу, назначен Карло Ферро. Мадам Несторофф это обстоятельство смутило; возможно, она и к клетке приходит вовсе не для того, чтобы готовиться к своей роли, как утверждают злые языки, а чтобы взвесить степень опасности, которая ждет ее любовника.
Карло Ферро, хотя и продолжает на людях демонстрировать презрительное равнодушие, в душе, похоже, порядочно сдрейфил. Мне известно, что на переговорах с генеральным директором Боргалли, а затем в кабинетах различных администраторов он выдвинул массу требований: страховка жизни на сумму не меньше ста тысяч лир, которые, в случае чего, отойдут его родителям, проживающим на Сицилии, – тут, знаете ли, заранее никогда не предусмотришь, что тебя может ждать… Другая страховка, правда поменьше, на случай утраты им трудоспособности, ведь он – тьфу-тьфу, не накаркать бы! – вполне может быть ранен; крупное денежное вознаграждение, если все пройдет, как хотелось бы надеяться, хорошо. И еще одно, весьма примечательное требование, которое, в отличие от предыдущих, было ему подсказано конечно же не адвокатами, – шкура убитой тигрицы. Шкура предназначалась мадам Несторофф, под ее ножки, драгоценный ковер. Уж она-то, наверное, отговаривала любовника, умоляла его, просила отказаться от опасной роли; но поскольку он был неумолим, не прислушался к ее увещеваниям и, больше того, уже взял на себя обязательства – подписал контракт, она (вот именно, она) посоветовала ему попросить, по меньшей мере,шкуру убитой тигрицы. Что значит «по меньшей мере»? А то и значит! У меня нет и тени сомнения, что она употребила это выражение: по меньшей мере.По меньшей мере, как компенсация за беспокойство и тревогу, которых ей будет стоить опасность, ожидающая его. Исключено, чтобы мысль завладеть шкурой поверженного зверя и потом бросить ее к ногам возлюбленной родилась в голове Карло Ферро. Такие мысли ему не по плечу. Достаточно посмотреть на его задранную кверху, как у спесивого козла, мохнатую голову.
Он явился и положил конец моей беседе с мадам Несторофф. Он даже не удосужился поинтересоваться, о чем мы вели разговор; вероятно, с его точки зрения разговоры со мной не представляют никакого интереса. Меня он едва удостоил вниманием, слегка коснувшись шляпы бамбуковой тростью в знак почтения, с презрительным безразличием скользнул взглядом по клетке с тигрицей, заявляя любовнице:
– Пошли. Полак готов, он нас ждет.
Повернулся и направился к выходу в полной уверенности, что она последует за ним, как рабыня за своим повелителем.
Никто, как он, так не чувствует и не показывает нутряной, животной неприязни по отношению ко мне, которая, как я уже говорил, вообще присуща всем здешним актерам и объясняется – во всяком случае, так я ее объясняю – как непостижимый для них самих результат переноса на меня моей же профессии. Карло Ферро чувствует это во много раз острее других: помимо множества прочих выпавших на его долю удач, ему посчастливилось возомнить себя великим актером, и он в это твердо верит.








